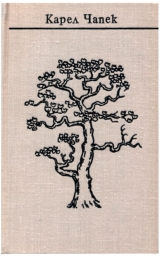
Текст книги "Собрание сочинений в семи томах. Том 3. Романы"
Автор книги: Карел Чапек
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 42 страниц)
Карел Чапек Собрание сочинений
Том третий
Романы[1]1
Гордубал. Метеор. Обыкновенная жизнь.
Романы, составляющие философскую трилогию Чапека, «Гордубал», «Метеор» и «Обыкновенная жизнь», были написаны за два года – с 1932 по 1934 г.
Писатель начал работать над «Гордубалом» летом 1932 г. Второго августа в письме к жене Ольге Шайнпфлюговой он сообщает, что уже дошел до сто двадцать девятой страницы. «Завтра я убью беднягу Гардубея (так первоначально именовался герой романа), и начнется вторая часть», – добавляет Чапек и замечает, что он доволен первой частью, но несколько опасается за вторую, которая должна быть выдержана совсем в ином тоне. Видимо, Чапек был очень увлечен работой, потому что он пишет в том же письме: «Я совсем огардубеился, стал серьезным и грустным, как мой герой, так же молчалив и так же стыжусь своих чувств, только лишь не хожу вразвалку» [К. Čapek. Listy Olze, Praha, 1971, s. 266–267.]. Восьмого августа Чапек извещает брата Иозефа: «…Только что, в понедельник, едва часы начали отбивать полдень, я закончил роман… писал я его четыре недели и три дня, последнее время страниц по десять ежедневно… Это странное, трудное произведение, есть в нем что-то гнетущее» [Цит. по кн.: О. Малевич. Карел Чапек. М., 1969, с. 123.].
«Гордубал» публиковался в «Лидовых новинах» (с 27 ноября 1932 г. до 21 января 1933 г.). Отдельным изданием вышел в том же 1933 г. в издательстве Ф. Борового.
До последнего времени считалось, что непосредственным импульсом, под воздействием которого возник замысел романа, была корреспонденция «Подкарпатская трагедия», опубликованная в «Лидовых новинах» (14 октября 1932 г.). В этой корреспонденции сообщалось об убийстве крестьянина Иржи Гардубея в деревне Барбово близ Мукачева. Гардубей, вернувшийся из Америки, куда он ездил на заработки, обнаружил, что его жена Полана сошлась с батраком Василем Маняком, с которым обручила свою одиннадцатилетнюю дочь Гафию. Гардубей прогнал батрака, после чего тот проник ночью в дом и с помощью Поланы убил хозяина. Убийцы проткнули ему сердце шилом для плетения корзин.
Чапек сохранил в романе фактическую канву этого уголовного дела. Однако к моменту опубликования корреспонденции в газете роман его был уже закончен. Очевидно, писатель был знаком с материалами слушания дела в первой инстанции 23 апреля 1932 г. в краевом суде в Ужгороде. В письме к брату Чапек пишет, что придется изменить фамилию Гардубей, поскольку процесс пересматривается.
В том же письме к брату Чапек роняет знаменательное замечание: «На этот раз никакой охранительной лояльности по отношению к государству».
В «Письме к одному читателю», опубликованном посмертно, Чапек писал: «В „Гордубале“ я сделал попытку продемонстрировать, насколько по-разному может представляться судьба человека и облик людей, когда они рассматриваются с различных точек зрения; и насколько искаженную и насильственную конструкцию мы создаем в нашем ретроспективном воссоздании действительности» [К. Čарek. Poznámky о tvorbě. Praha, 1960, s. 103.].
Работу над второй частью трилогии, романом «Метеор» Чапек начал летом 1933 г. По свидетельству О. Шайнпфлюговой, трудясь над романом, Чапек без конца заводил пластинку с записью кубинского танца, «опьяненный монотонным перестуком ритма». 24 июля Чапек сообщает, что ему осталось написать только рассказ писателя, который должен получиться лучше всего. Из завершенных к тому времени глав ему самому больше всего нравилось повествование ясновидца. В августе в Карловых Варах Чапек уже исправлял готовый текст романа. «Метеор» первоначально был опубликован в газете «Лидовы новины» (с 5 ноября 1933 г. по 10 января 1934 г.). Отдельным изданием вышел в 1934 г. в издательстве Ф. Борового. «Метеор» был отмечен Государственной литературной премией за 1934 г.
Говоря о замысле романа в «Письме к одному читателю», Чапек отмечал, что в «Метеоре» предпринятое им изучение путей человеческого познания осуществляется еще методичнее, чем в «Гордубале». «В этой повести я решил показать, как один и тот же действительный факт удается сконструировать различными путями, которыми может следовать наше познание мира, потому что даже самый малый фрагмент действительности – это нечто огромное: он лежит на перекрестке разных дорог и может быть открываем с диаметрально противоположных сторон».
Последняя часть – «Обыкновенная жизнь» писалась летом 1934 г. В письме О. Шайнпфлюговой от 18 июля он пишет, что находится уже на пятидесятой странице и добавляет: «Дело идет помаленьку, но пока книжка получается довольно серая. Приблизительно через неделю начнется более драматичная и сложная часть, чему я заранее радуюсь». Видимо, работа давалась Чапеку с трудом. 13 августа он сообщает: «Я страшно увяз в этом романе, мне приходится переделывать последние главы: все как будто шло ничего, но в конце – одни рассуждения. А как ни старайся, рассуждения никогда не достигнут интенсивности действительности… Вот и приходится мне их переделывать на действительность, а это дьявольски трудно» [К. Čapek. Listy Olze, s. 273–274.]. Вполне возможно, что форма диалога в последних главах романа появилась в результате такой переделки с целью избежать излишней абстрактности. Роман «Обыкновенная жизнь» впервые публиковался в «Лидовых новинах» с 30 сентября по 27 ноября 1934 г. и вышел в том же году в виде книги в издательстве Ф. Борового.
Впервые Чапек представляет три романа как единое целое в статье под заголовком «Что я хотел сказать» в сентябрьском номере журнала «Пршитомност» за 1934 г. Эта статья была присоединена к первому изданию романа «Обыкновенная жизнь» и в дальнейшем фигурировала в качестве авторского послесловия ко всем изданиям трилогии. По-русски «Послесловие» впервые воспроизводится в настоящем Собрании сочинений.
Значительная часть чехословацкой критики в момент выхода в свет трилогии отнеслась к ней несколько упрощенно. В «Письме к одному читателю» Чапек с горечью отмечает, что критика не поняла «Гордубала»: «Три четверти рецензентов потом твердили, что герой повести примитивный полуидиот: они поняли в буквальном смысле все, что там о нем сказано». Некоторые критики упрекали Чапека в отсутствии местного колорита и, главное, социальных конфликтов и оставляли в стороне художественную оригинальность трилогии, другие утверждали, что трилогию вообще нельзя считать художественным произведением, а скорее эстетическим трактатом, психологическим этюдом или философским эссе. Наиболее обстоятельный анализ своеобразной художественной формы романов, входящих в трилогию, дал в те годы Я. Мукаржовский. Он относит их к произведениям, построенным на принципе «реконструкции происшествия», так же как и «Рассказы из одного кармана» [J. Mukařovský. Предисловие к книге Výbor z prózy К. Čapka. Praha, 1934.].
Один из основоположников чешской пролетарской поэзии И. Гора по выходе трилогии отмечал, что «романическая форма, созданная Чапеком, – новый шаг в развитии мирового романа» [J. Hora. Závěr románové trilogie K. Čapka. «České slovo», 1935. 2 ledna.].
Человечность «Обыкновенной жизни» подчеркивал и Фучик в своей статье на смерть Чапека. Глубокую оценку трилогии дала М. Пуйманова, назвавшая «Обыкновенную жизнь» «бесконечно тонким зондированием человеческой души и исследованием одного человеческого „я“, в вынужденной ограниченности которого таятся безграничные возможности». Пуйманова говорит и о месте трилогии в европейской литературе: «Марсель Пруст искал в своем знаменитом цикле романов утраченное время, а Карел Чапек ищет в своей трилогии, слава которой будет, несомненно, возрастать в будущем, утраченную правду, погружаясь со всей самоотверженностью художника в тишину, которая переживет грохот, царящий на историческом распутье» [М. Pujmanová. Sedmero mistrovských ctnosti К. Čapka. Kritický měsíčník, 1939, s. 43–44.].
Предсказания Пуймановой оправдались, и слава трилогии действительно возрастает.
В Советском Союзе «Гордубал» вышел в 1937 г., и советская критика высоко оценила художественное своеобразие романа, подчеркнув его социальное содержание.
Вторая часть трилогии (роман «Метеор») переводилась в конце 50-х годов для Сочинений Карела Чапека в 5-ти томах; третья часть – «Обыкновенная жизнь» впервые на русском языке вышла в 1970 г.
Переводы сделаны по книге: К. Čapek. Hordubal. Povětron. Obyčejný život, Praha, 1956.
[Закрыть]
Гордубал
© Перевод Ю. Молочковского
Хотя эта история в некоторых частностях отражает подлинное происшествие, в целом она является вымышленной. Автор не хотел изображать в ней конкретных людей и события.
Часть первая
I
Вот тот пассажир, второй от окна, в измятом костюме: кто скажет, что это американец? Чепуха, американцы не ездят в пассажирском, только в экспрессах, да и то им кажется медленно; вот в Америке поезда не чета нашим, вагоны куда длинней, и белоснежный уэйтер[2]2
официант (от англ. waiter)
[Закрыть] разносит воду со льдом и айскримы[3]3
мороженое (от англ. ice-cream)
[Закрыть], слыхали? «Алло, бой! – гаркнет американец. – Подай пива, пива на всех, заплачу хоть пять долларов, дэм[4]4
проклятье! (от англ. damm)
[Закрыть]!» Да что говорить, братцы, в Америке – вот где житье!
Пассажир, второй от окна, дремлет, усталый, потный, разинув рот, и голова у него мотается, как неживая. Господи боже, вот уже одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать дней; пятнадцать дней и ночей сидеть на чемодане, спать на полу или на скамейке, не умывшись, одеревенев, ошалев от грохота машин; это уже пятнадцатый день; хоть бы ноги вытянуть, подложить под голову сена и спать, спать, спать…
Толстая еврейка у окна брезгливо отодвигается в угол. Заснет еще да повалится на меня, как мешок; кто его знает, что за человек – вид у него такой, словно в одежде на земле валялся; чудной ты какой-то, пересесть бы подальше, ах, боже, скорей бы доехать…
Второй от окна пассажир клонится вперед и, дернувшись, просыпается.
– Ну и жара, – осторожно завязывает разговор старичок, похожий на лавочника. – Далеко едете?
– В Кривую, – с трудом произносит «чудной» попутчик.
– Так, так, в Кривую, – благосклонно кивает лавочник, человек бывалый. – А издалека ли?
Попутчик, не ответив, вытер грязной рукой потный лоб, от слабости у него кружится голова. Лавочник обиженно засопел и отвернулся к окну. А тот уже не решается взглянуть в окно, уставился на заплеванный пол и ждет, чтоб его спросили еще раз, тогда он объяснит: да, издалека. Из самой, знаете, Америки. Вот как, из самой Америки? И в такую даль собрались в гости? Нет, я домой еду. В Кривую. Там у меня жена и дочка, Гафией звать, Гафией. Уезжал – три года ей было. – Значит, из Америки… И долго вы там прожили? – Восемь лет. Да, уже восемь лет минуло. И все это время был у меня джоб[5]5
работа (от англ. job)
[Закрыть] на одном и том же месте. Майнером[6]6
Шахтер (от англ. miner)
[Закрыть] работал. В Джонстоне. Там со мною земляк работал – Михал Бобок его звали. Михал Бобок из Таламаша. Убило его, уж пять лет, как убило. С тех пор и поговорить не с кем – с американцами разве поговоришь?.. Бобок – тот научился по-ихнему, но, знаете, коли у тебя жена, только о том и думаешь, как ей все по порядку рассказывать будешь, а на чужом языке разве расскажешь? А зовут ее Полана.
– Как же вы работали, если ничего по-ихнему не понимаете? – Ну, как! Скажут: хеллоу, Гордубал! И покажут мой джоб. В день по семь долларов получал, вот как. Севен[7]7
Семь (англ.)
[Закрыть]. Только дорого все в Америке, господа. Двух долларов даже на харчи не хватает. За ночлег – пять долларов в неделю.
Вмешался пассажир напротив: – Но, пан Гордубал, вы, верно, накопили порядочно деньжат? – Э, скопить-то бы можно. Да я посылал их домой жене. Говорил я вам, что ее зовут Поланой? Каждый месяц, господа, по пятьдесят, шестьдесят долларов, а то и все девяносто. Но это только пока Бобок жив был, он-то знал грамоту. Смекалистый был этот Бобок, да уже пять лет, как его балкой зашибло. С тех пор я не мог деньги домой посылать и клал их в бенк[8]8
банк (от англ. bank)
[Закрыть]. Верите ли, набралось больше трех тысяч, а потом их украли. – Не может быть, пан Гордубал, что вы говорите? – Иес, сэр[9]9
Да, сударь (от англ.: Yes, sir)
[Закрыть], три тысячи долларов с лишком. – И вы не подали в суд? Эх, как подашь? Наш формен[10]10
старшой (от англ. formen)
[Закрыть] водил меня к какому-то лойеру[11]11
адвокат (от англ. lawer)
[Закрыть]; тот похлопал по плечу: о'кей да о'кей[12]12
ладно (от англ. o'key)
[Закрыть], только нужно внести эдванс[13]13
аванс (от англ. advance)
[Закрыть]. Формен ему сказал: ю ар эсуэйн[14]14
Вы – свинья! (от англ.: You are a swine!)
[Закрыть], – и повел меня обратно. Вот оно как в Америке, что говорить. – Господи Иисусе, пан Гордубал, три тысячи долларов? Это же огромные деньги, целое состояние! Отец небесный, какое несчастье! Три тысячи долларов – сколько же это на наши деньги?
Юрай Гордубал испытывает глубокое удовлетворение: эх, как бы вы все тут на меня смотрели, начни я только рассказывать! Со всего трейна[15]15
поезд (от англ. train)
[Закрыть] собрались бы поглядеть на человека, у которого в Америке украли три тысячи долларов. Иес, сэр, это я!.. Юрай Гордубал поднимает глаза и оглядывает соседей; толстая еврейка жмется в угол, лавочник обиженно глядит в окно и жует беззубым ртом, тетка с корзиной на коленях смотрит на Гордубала так, словно чего-то очень не одобряет.
Юрай Гордубал опять замыкается в себе. Ну и ладно, набиваться не стану; пять лет ни с кем не говорил – и ничего. – Так что же, пан Гордубал, вы из Америки возвращаетесь без гроша? – Нет, что вы, джоб у меня был хороший, только денежки я больше в бенк не клал, ю бет[16]16
будьте покойны (от англ. you bet)
[Закрыть]. В сундучок, сударь, ключик под рубаху, вот и все. Семьсот долларов домой везу. Well[17]17
Ладно (от англ. well)
[Закрыть], сэр, я бы там еще пожил, да остался без эмплоймента[18]18
работа (от англ. employment)
[Закрыть]. После восьми лет работы! Локаут, сэр. Слишком много угля, что ли. Из нашего пита[19]19
шахта (от англ. pit)
[Закрыть] шестьсот человек получили лив[20]20
увольнение (от англ. leave)
[Закрыть], сударь. Везде увольняют и увольняют. Нигде нет работы. Вот я и возвращаюсь. Домой, понимаете? В Кривую. Жена там у меня и землица. Гафии тогда три года было. Семьсот долларов за пазухой везу, опять хозяйствовать стану… Или на фэктори[21]21
фабрика (от англ. factory)
[Закрыть] наймусь, а то лес валить.
– А что, пан Гордубал, не скучали по жене и дочке? – Скучал, ей-богу! Но я, знаете ли, посылал им деньги и думал: вот это на корову, это на полоску земли, это Полане – пусть купит, что нужно. Каждый доллар – на что-нибудь. И когда я отдавал деньги в бенк, думал: вот и целое стадо коров. Иес, сэр, их-то и украли. – А жена вам писала? – Нет. Неграмотная она. – А вы ей? – No, sir. Can't write, sir.[22]22
Нет, сэр. Я не умею писать, сэр (англ.)
[Закрыть] С тех пор как помер Михал Бобок, я ничего ей не посылал, только деньги откладывал. – Но вы хоть телеграфировали ей, что едете? – Что вы, – денег жалко. Да она бы и перепугалась, если бы рассыльный пришел, а меня не испугается. Ха-ха! Что вы! – А может, она думает, вы померли, пан Гордубал: столько лет не получала весточки. – Помер? Такой мужик, как я, да чтоб помер? – Юрай Гордубал разглядывает свои узловатые руки. – Такой мужик! Скажете тоже! Полана умная, Полана знает, что я вернусь. – Все мы под богом ходим. А что, если Поланы нет в живых? – Shut up, sir.[23]23
Помалкивайте, сэр (англ.)
[Закрыть] – Ей было двадцать три, когда я уехал, и крепкая она, сэр, крепкая, как кремень. Не знаете вы Поланы! С такими деньгами, это с долларами-то, что я ей посылал, да чтобы она умерла?! No, thank you.[24]24
Нет, спасибо (англ.)
[Закрыть]
Надутый лавочник у окна утирает пот голубым платком. Может, опять скажет: ну и жара!
– Да что вы, сэр?! И это вы называете жарой? Побывали бы вы на лоуэрдеке[25]25
нижняя палуба (от англ. lowerdeck)
[Закрыть]. Или в антрацитовой шахте. Туда посылают ниггеров[26]26
негр (от англ. nigger)
[Закрыть], но я-то выдержал, йес, сэр. За семь долларов. Хэллоу, Гордубал! Хэллоу, you niggers[27]27
вы, негры! (англ.)
[Закрыть]. Ах, сударь, многое может выдержать человек. Лошадь – та нет. Туда уже нельзя было спускать лошадей, возить вагонетки. Слишком жарко, сударь! Или лоуэрдек на пароходе… Можно многое выдержать, только бы столковаться… Чего-то им от тебя надо, а чего – не поймешь; кричат, злятся, разводят руками… Скажите на милость, как мне в Гамбурге расспросить о дороге до Кривой? Им-то можно кричать, а мне нет. В Америку ехать – дело как по маслу идет: один вас на пароход посадит, другой встретит, а вот обратно, сударь, обратно выбраться не поможет никто. No, sir. Трудна дорога домой, сударь.
И Юрай Гордубал качает головой, и уже она качается сама, мотается из стороны в сторону, тяжелая, как неживая, и засыпает Юрай. Толстая еврейка у окна возмущенно поджимает губы; тетка с корзиной на коленях и обиженный лавочник выразительно переглянулись: ну и народ пошел. Быдло.
II
Кто это, кто шагает по той стороне долины? Видали – в ботинках, механик, что ли? В руках черный чемоданчик, поднимается в гору; не было б так далеко, приставил бы ладошки ко рту да крикнул: хвала господу Иисусу Христу, прохожий, который час? – Два пополудни, пастушок; не было б так далеко, спросил бы и я: чьих коров пасешь? – А ты бы, может, объяснил: вот эти – Лыска, Пеструха, Звездочка, Рыжая и эта телка – Поланы Гордубаловой. – Так, так, парень, ладные коровки, поглядеть приятно; только не пускай ты их к Черному ручью, там трава кислая и вода горькая. Стало быть, Поланы Гордубаловой? А раньше у нее всего две коровы было… А что, парень, может, у нее и волы есть? – Ах, господи, да еще какие. Подольские, рога – руки раскинь, – до концов не дотянешься. Два вола, сударь. – Ну, а овцы? И овцы и бараны, сударь, те пасутся повыше, на Дурной Полонине. Умна и богата Полана. – А мужа у нее нет? Что машешь рукой, разве нет у нее хозяина? Эх, дурень, своих не узнает – заслонил глаза от солнца ладонью и стоит, стоит как пень.
Сердце Юрая колотится в горле: надо передохнуть; ха-ха-ха… Очень уж сильно и так внезапно забилось. Гордубал захлебывается, как человек, упавший в воду: вот он дома, вдруг, сразу, а всего-то шагнул в каменистый овражек, и уже – захлестнуло со всех сторон: ну да, этот овражек испокон веков тут, кусты терновника, давным-давно опаленные кострами пастухов; по-прежнему цветет на осыпи коровяк, тропинка теряется в тимьяне и сухой траве, вот и камень, поросший мхом, и горечавка, и можжевельник, вот опушка, и сухие коровьи лепешки, и заброшенный пастуший шалаш; нет больше Америки и нет восьми лет; все как было: блестящий жук на листьях чертополоха, скользкая трава, далекие колокольцы коров, седловина над Кривой, бурые заросли осоки и дорога к дому…
Дорога, и упругие шаги горца, который обут в постолы и никогда не был в Америке, дорога, и запах коров и леса, дорога, прогретая солнцем, как хлебная печь; дорога в долину, каменистая, вытоптанная скотом, с лужами от ручейков, скачущая по камням… ах, господи боже, какая чудесная тропинка, быстрая, как ручей, мягкая от травы, она шуршит щебнем, хлопает в лужах и вьется под кронами деревьев; нет, сэр, это не шлакобетонный тротуар в Джонстоне, скрипящий под подошвой, нет ни рейлингов[28]28
здесь: перила, ограждающие тротуар в местах наиболее оживленного уличного движения (от англ. railing)
[Закрыть], ни толпы, шагающей к майне[29]29
шахта (от англ. mine)
[Закрыть], – ни души кругом, ни души, только тропинка, ручей да колокольцы коров – дорога домой, стремление домой, бубенцы на шеях телят и синие цветы у ручья…
Юрай Гордубал шагает размашисто – что ему чемодан, что ему восемь лет: вот дорога домой, ноги сами несут тебя; так в сумерки возвращается стадо: коровы с полным выменем позвякивают колокольцами – бим-бам, бим-бам, и бубенцы телят; не присесть ли тут, не подождать ли темноты, войти в деревню под перезвон колокольцев в час, когда бабы выходят на порог, а мужики стоят у заборов: гляньте-ка, гляньте, кто это идет? А я, как стадо с поля, – прямиком в распахнутые ворота. Добрый вечер, Полана! Я тоже возвращаюсь не с пустыми руками.
Или нет, подождать до ночи, когда пройдет скотина и все уснут, и стукнуть в окно: Полана, Полана! – Иисусе Христе, кто там? – Я, Полана, чтоб ты первой увидела меня; слава тебе, господи! А где Гафия? – Гафия спит; разбудить? – Нет, нет, пускай спит. – Слава богу!
И Гордубал зашагал быстрее. Ей-богу, легко идти, когда так спешат-торопятся мысли! И не поспеть за ними, как ни беги; мысли обгоняют, они уже у рябины, что растет у околицы, – кыш, гуси, кыш!.. Вот ты и дома. Закричать бы во все горло: эй, все, кто есть, гляньте, кто идет, какой американец, тру-ту-ту, дивитесь, boys,[30]30
ребята, парни (от англ. boys)
[Закрыть] хэллоу! Но – тихо, тихо: вот твои дом, Полана треплет лен на дворе, подкрасться сзади и закрыть ей глаза. – Юрай! Как ты узнала меня, Полана? – Слава богу, мне ли не знать твои руки, Юрай!
Гордубал бежит по долине, не чуя в руке чемодана, а в нем – вся Америка: синие сорочки, костюм из вельвета и теддибэр[31]31
игрушечный медведь (от англ. teddy-bear)
[Закрыть] для Гафии, а тебе, Полана, материя на платье, какие носят в Америке, душистое мыло и handbag[32]32
сумочка (от англ. handbag)
[Закрыть] с цепочкой, а это flashlight[33]33
карманный фонарик (от англ. flashlight)
[Закрыть], Гафия, нажмешь кнопку – и он светит, а тут картинки из газет, это я для тебя вырезал, знаешь, дочка, сколько их было – я восемь лет собирал их, по пришлось оставить, не поместились в сьюткейсе[34]34
чемодан (от англ. suitcase)
[Закрыть]. Постой-ка, там у меня еще кое-что есть!
Ну вот, слава богу, и ручей; никаких железных мостов, только камни в воде, нужно прыгать с одного на другой, балансируя руками. Эх, ребята, у этих ольховых корней мы мальчишками, мокрые по уши, засучив штаны, ловили раков; а цел ли крест на повороте дороги? Слава богу, вот он, клонится над проселочной дорогой, мягкой от теплой пыли, пахнущей скотом, соломой и рожью; сейчас должен быть забор Михальчукова сада: вот и он, покосившийся, заросший сиренью и орешником – такой же, как был; слава тебе, господи, вот я и в деревне, здраво дошли, Юрай Гордубал! И Юрай Гордубал останавливается – черт знает, отчего таким тяжелым стал вдруг чемодан, вот только утереть пот и… Господи, что ж это я не умылся в ручье, что ж не вынул бритву, зеркало да не побрился у воды! А то ни дать ни взять цыган, бродяга, разбойник; не поворотить ли назад и умыться, прежде чем покажусь Полане? Нельзя, Гордубал, тебя уже заметили; из-за Михальчукова забора, из канавы в лопухах таращит глазенки удивленный малыш. Окликнешь его, Гордубал? Спроси: чей ты, не Михальчуков ли? И мальчуган, шлепая босыми ножонками, пустится наутек.
А если обойти деревню и пробраться домой задами? – думает Гордубал. Ну да, не хватало, чтоб выбежали, накинулись на меня: «Эй, куда? Ходи по дороге, не то огрею кнутом!» Ничего не поделаешь, придется идти деревней; ох, господи, хоть бы чемодан не оттягивал руку!
Бабье лицо за окошком с геранью, выпученные глаза подсолнухов, старуха на дворе выплескивает что-то, словно разглядывает тебя задом, детишки останавливаются, таращатся: глянь-ка, чужой идет! Дед Кирилл жует пустым ртом и даже глаз не подымает; еще один толчок в сердце, и – с нами бог! – входи, склонив голову, в ворота твоего дома.
Ах, дурень, можно ли так ошибиться? Разве это Гордубалова деревянная изба, деревянный хлев и бревенчатый амбар? Это целая усадьба: каменный дом крыт черепицей, на дворе колодец с железным насосом, железный плуг и бороны железные – поместье, да и только; живей, Гордубал, живей убирайся отсюда со своим черным чемоданчиком, пока не вышел хозяин и не сказал: «Ты что тут торчишь?» – «Добрый день, хозяин, не жила ли здесь Полана Гордубалова?.. Прошу прощенья, знать, ошибся…»
На крыльцо выходит Полана и останавливается как вкопанная. Судорожно прижимая руки к груди, она тяжело и прерывисто дышит, и глаза у нее лезут на лоб.
III
И теперь не знает Юрай Гордубал, что сказать: столько начал придумал – что ж ни одно не подходит? Не закрыл он глаз Полане, подкравшись сзади, не стукнул ночью в окошко, не пришел со словами благословения в вечерний час возвращения стада; ввалился, щетинистый и неумытый, чего ж удивляться, если женщина испугалась? И голос мой наверняка чужой, хриплый… вразуми, господи, что можно вымолвить эдаким нечеловеческим голосом?
Полана отступает, слишком далеко отступает – ах, Полана, я бы и так прошмыгнул – и произносит голосом, – да нет, это почти и не голос, почти не ее голос:
– Входи, я… позову Гафию.
Гафия – это хорошо, но сперва мне хотелось бы положить тебе руки на плечи, Полана, и сказать: «Ну, я сам не рад, что перепугал тебя; слава богу, вот я и дома». Ишь как ты все здесь устроила: новая кровать, гора подушек, стол тоже новый и крепкий; на стене иконы, таких и в Америке нет; пол дощатый, и цветы на окнах, – хорошо ты, Полана, хозяйничала!
Юрай Гордубал тихонько усаживается на свой чемодан. Умна Полана, умеет вести хозяйство; по всему видать, у нее не меньше дюжины коров, а может, и больше. Слава богу, не зря я работал; только до чего же жарко в шахте, милая, знала бы ты, что там за пекло!
Не идет Полана; Юраю Гордубалу уже не по себе, как тому, кого оставили одного в чужой избе. Погожу во дворе, решает он, заодно умоюсь. Эх, снять рубаху, пустить струю студеной воды на плечи, на голову, намочить волосы, брызгаться и гоготать от удовольствия: гей! Но это вроде бы не к месту, не время, еще не время! Накачаю пока немного воды (прежде тут был деревянный сруб, и бадья с журавлем, и глубокая тьма внизу, каким холодом и сыростью опахивало тебя, когда, бывало, наклонишься; а теперь – как в Америке, там у фермеров тоже такие колонки… С полным ведром – в хлев, напоить коров, чтоб громко зафыркали, чтоб ноздри влажно заблестели, только немного воды… Юрай намочил грязный платок, вытер лоб, лицо, руки, затылок, – а-ах, как приятно холодит! Гордубал выжал платок, поискал, куда бы его повесить, – но нет, мы еще не дома, – и он сунул мокрый платок в карман.
– Твой отец, Гафия, – слышит Гордубал, и Полана подталкивает к нему одиннадцатилетнюю девочку с испуганными голубыми глазами.
– Вот какая ты, Гафия? – смущенно бормочет Гордубал (вот уж, право, такой большой девочке – медвежонка!) и хочет погладить ее по голове: только одним пальцем, Гафия! Но девочка уклоняется, жмется к матери, не спуская глаз с незнакомца.
– Поздоровайся же, Гафия, – говорит Полана строго и подталкивает девочку в спину.
– Ах, Полана, оставь ее, что худого, коли ребенок оробел?
– Добрый день! – шепчет Гафия и отворачивается.
Что-то странное происходит с Юраем, слезы застлали глаза, лицо ребенка дрожит и расплывается. Ну, ну, что же это, – э, ничего, пройдет, просто я уже сколько лет не слышал «добрый день».
– Пойди сюда, Гафия, – суетится Гордубал, – погляди, что я тебе привез.
– Иди, глупая, – толкает девочку Полана.
Гордубал склоняется над чемоданом, – матерь божья, как все измялось в дороге, и где же электрический фонарик, то-то Гафия удивится!
– Смотри, Гафия, нажмешь тут кнопку, и он светит… Что это, не хочет светить. – Гордубал нажимает кнопку, вертит фонарик во все стороны и хмурится. – Что с ним сделалось? Ага, наверно, батарейка высохла, знаешь, как жарко было на нижней палубе… А он горел, Гафия, горел ярко, как солнышко. Постой, я привез тебе картинки, погляди… – Гордубал вынимает газетные и журнальные вырезки, которыми переложена одежда. – Иди сюда, Гафия, посмотри, вот она – Америка.
Девочка смущенно мнется и оглядывается на мать. Полана сухо и строго кивает: «Иди!» Гафия робко, неохотно подвигается к этому чужому, долговязому человеку, – ах, выскочить стрелой за дверь и бежать, побежать к Марийке, к Жофке, к девчонкам, которые там, на задах, нянчат маленького хорошенького щеночка…
– Погляди, Гафия, какие дамы! А тут, гляди-ка, дерутся, а? Это футбол, игра такая в Америке, понимаешь? А вот высокие дома…
Гафия уже касается его плечом и робко шепчет:
– А это что?
Гордубала охватывает радостное умиление – ну вот, ребенок уже привыкает!
– Это… это Felix the cat.[35]35
кот Феликс (англ.)
[Закрыть]
– Да ведь это киска, – протестует Гафия.
– Ха-ха, конечно, киска! Ты умница, Гафия! Ну да, это такой… американский кот, ол райт[36]36
правильно (от англ. all right)
[Закрыть].
– А что он делает?
– Он… он лижет tin[37]37
жестянка (от англ. tin)
[Закрыть], понимаешь? Жестянку от консервов. Это эдвертисмент[38]38
реклама (от англ. advertisement)
[Закрыть] консервов, вот что.
– А тут что написано?
– Это… это по-американски, Гафия; ты не поймешь. А вот гляди, пароходы, – поспешно меняет тему Гордубал, – на таком и я плыл.
– А это что?
– Это трубы, понимаешь? Внутри корабля паровая машина, а сзади такой… такой пропеллер…
– А что здесь написано?
– Это ты прочтешь как-нибудь в другой раз, ты ведь умеешь читать? – вывертывается Гордубал. – А вот смотри-ка: столкнулись два кара[39]39
автомобиль (от англ. car)
[Закрыть]…
Полана стоит на крыльце, руки, на груди, и сухим пристальным взглядом смотрит во двор. Позади нее в избе наклонились друг к другу две головы, медленный мужской голос пытается объяснить это вот и то: «Так это делают в Америке, Гафия, а это, смотри, я сам видел», – и запинается этот голос, мешкает, бормочет: «Ну, ступай, Гафия, где мама-то?»
Гафия выскакивает на крыльцо, точно вырвавшись из плена.
– Подожди, – останавливает ее Полана, – спроси, может, он хочет есть… или пить.
– Не надо, душа моя, не надо, – отказывается Гордубал и спешит к порогу. – Спасибо, что подумала обо мне, вот уж спасибо, не к спеху. У тебя, верно, дело есть…
– Дела всегда хватает, – неопределенно откликается Полана.
– Вот видишь, Полана, видишь, не буду тебе мешать, делай свое дело, а я пока… я что…
Полана поднимает на него глаза, будто хочет что-то сказать, будто хочет сказать вдруг очень много – так много, что губы дергаются, – но она проглатывает это и идет по своим делам, ведь работы всегда хватает.
Гордубал, стоя в дверях, смотрит ей вслед: пойти за ней в сарай? Нет, пока еще нет: в сарае темно, нехорошо как-то. Восемь лет, братец, это – восемь лет! Разумная женщина Полана, не бросается на шею, как девчонка; хотелось бы спросить ее о том о сем, о поле, о скотине, да бог с ней, коли у нее дела много. Полана всегда такая была. Работящая, ловкая, умная.
Задумчиво оглядывает двор Гордубал. Дворик чистый, порос лапчаткой и купавой, ни следа навозной жижи. Пойти, что ли, осмотреть хозяйство? Нет, не надо пока, не надо. Полана сама скажет: взгляни теперь, Юрай, как я хозяйничала: все кирпичное и железное, новое все, а стоило столько-то и столько-то. А я скажу: хорошо, Полана. Я тоже принес кое-что в хозяйство.
Хорошо Полана управляется; и стройная она, стройная, как девушка, господи, какая прямая спина! Всегда она так прямо держала голову, еще в девушках… Гордубал вздохнул и почесал затылок: что ж, пусть будет по-твоему, Полана; восемь лет сама себе хозяйкой была, этого сразу не отбросишь. Сама потом скажешь: хорошо, когда мужчина в доме.
Задумчиво оглядывает Гордубал свой двор. Все изменилось, все по-новому, удачлива в хозяйстве Полана. А вот этот навоз, голубчики, этот навоз мне не нравится. Пахнет конюшней, не хлевом. На стене два хомута, на дворе лошадиный помет. А Полана и не заикнулась, что лошадей держит; слушай, Полана, лошадь – не женское дело. На конюшне мужик нужен, вот что.
Гордубал озабоченно морщит лоб, – да, это – удар копытом в дощатую перегородку; лошадь бьет копытом, видно, пить хочет. Отнести ей воды в брезентовом ведре – нет, нет; вот когда Полана скажет: «Пойдем, Юрай, погляди наше хозяйство». В Джонстоне тоже были лошади в штольнях; ходил я к ним погладить по морде, – видишь ли, Полана, коров там не было, ухватить бы корову за рог, потрясти ей голову, ого-го-го, старуха! А лошадь… Ну, слава богу, есть теперь у тебя мужик в доме.
И вдруг пахнуло старым, знакомым запахом – чем-то с детства знакомым… Гордубал принюхивается долго и с наслаждением. Дрова! Смолистый запах дров, запах сосновых поленьев на солнце. Юрая так и тянет к поленнице, хороша грубая кора поленьев, по его огрубелой руке, а вот и колода с воткнутым топором, деревянные козлы и пила, его старая пила, отполированная его ладонями. Гордубал глубоко вздохнул, – здраво дошли и добро пожаловать! – снял пиджак и положил полено на крепкие плечи козел.
Потный, счастливый, он пилит дрова на зиму.
IV
Юрай выпрямился, вытер пот. Вот уж верно – эта работа не та, что в шахте, и запах не тот; хорошие, смолистые дрова у Поланы, ни пней, ни сушняка нет. Закрякали утки, с гоготом рассыпались гуси, где-то загремела телега и стремительно завернула к дому. Полана выскочила из сарая, бежит, бежит (ах, Полана, и бегаешь ты совсем как девушка!), распахнула ворота.
Кто же это, кто к нам приехал? Хлопанье кнута, – н-но! – высоко взвивается золотистая теплая пыль, и во двор влетает упряжка; стучит телега, ею стоя – на венгерский лад – правит парень, он высоко держит вожжи, высоким голосом нараспев тянет «тпр-ру!» и, соскочив на землю, шлепает коней по влажной шее.
Подходит Полана, бледная, решительная какая-то:
– Это Штепан, Юрай, Штепан Манья.
Человек, нагнувшийся над постромками, резко выпрямившись, оборачивается к Юраю. Уж больно ты черен, дивится про себя Гордубал, прямо ворон, прости господи!
– В работниках у меня был, – добавляет Полана твердо и отчетливо.
Парень пробормотал что-то и склонился к постромкам; отстегнув, вывел лошадей из оглобель и, держа обеих одной рукой, другую протянул Гордубалу:
– Добро пожаловать, хозяин!
Хозяин поспешно вытер руку о штаны и подал ее Штепану; Гордубал растерян и вместе с тем польщен, он смутился, пробормотал что-то и еще раз тряхнул Штепану руку – по-американски.
Невелик Штепан, а ладен. Ростом Юраю по плечо, а глядит ему прямо в глаза – дерзко и вызывающе.
– Славные кони, – бормочет Гордубал и тянется погладить по морде. Но кони шарахаются и встают на дыбы.
– Поберегись, хозяин, – предостерегает Манья, и в глазах его блестит насмешка, – это венгерские.
Ах ты, черномазый, думаешь, я не понимаю в конях? И правда, не понимаю, да привыкнут кони к хозяину.
Лошади дергают головами, вот-вот вырвутся. Руки в карманы, Гордубал, и ни с места, пусть этот черномазый не думает, что ты боишься!
– Вот этот трехлетка, – рассказывает Манья, – от кавалерийского жеребца. – Манья хватает коня за уздечку. – Ц-ц-ц! Э-э! Вот черт! Айда! – Конь дергает головой, а Штепан только смеется.
Полана подходит ближе, протягивает коню ломоть хлеба. Штепан, блеснув в ее сторону глазами, скалит зубы, удерживая коня за уздечку.
– Э-э, постой!
Штепан стискивает зубы от усилия, и конь стоит точно вкопанный и, красиво выгнув шею, берет губами хлеб с хозяйкиной ладони.
– Н-но! – кричит Манья и, крепко ухватив коней под уздцы, ведет их в конюшню.
Полана глядит им вслед.
– Четыре тысячи дают за жеребца, – сообщает она оживленно, – а я не продам. Штепан говорит, что конь все восемь стоит. А кобылу будем к осени крыть… – Что за черт, почему она смутилась и словно прикусила язык. – Надо им корму задать, – говорит она неуверенно и хочет отойти.
– Так, так, корму, – одобряет Юрай. – Добрый конь, Полана, а что, и в упряжке тоже хорош?
– В упряжке? Да таких коней жалко запрягать, – раздраженно говорит Полана. – Это тебе не деревенская кляча.
– Ну, пожалуй, – сдерживается Гордубал. – Оно и верно, жаль такого молодца. Хорошие кони, голубка, поглядишь – душа радуется.
Манья уже выходит из конюшни с двумя брезентовыми ведрами в руках.
– Восемь тысяч возьмем за него, хозяин, – уверенно говорит он. – А кобылу к осени крыть надобно. Эх, и жеребца я для нее подыскал – чистый дьявол.
– Брут или Хегюс? – оборачивается Полана с полдороги.
– Хегюс. Брут тяжел будет. – Манья скалит зубы под черными усиками. – Не знаю, как вы, хозяин, а я недорого дам за тяжелого копя. Сила есть, а породы никакой. Породы-то нет, хозяин.
– Гм… да, – неуверенно отзывается Гордубал, – порода дело такое… Ну, а коровушки, Штепан?
– Коровы? – удивляется Штепан. – Вы о коровах? Да, есть у хозяйки две коровы, говорит, молоко нужно. А вы еще не были в конюшне, хозяин?
– Н-нет. Видишь ли, я только что приехал, – отвечает Гордубал и теряется – ведь вот уже груду дров напилил, этого не скроешь. И все-таки Гордубал доволен, что легко перешел со Штепаном на «ты». Так и полагается между хозяином и работником.
– Да, – продолжает Гордубал, – я как раз собирался туда.
Штепан, наполнив ведро водой, охотно ведет хозяина в конюшню.
– У нас там… у хозяйки там жеребеночек, трехнедельный, и кобыла жеребая. Два месяца назад покрыли. Сюда, хозяин. А этот мерин считай что продан. Две с половиной тысячи. Добрый конь, да я запрягаю трехлетку – надо объездить. Норовистый. – Манья опять скалит зубы. – Мерин этот для армии. Наших коней всегда для армии брали.
– Так, так, – поддакивает Юрай, – чисто у тебя здесь, Штепан. Ну, а самому приходилось служить в солдатах?
– В кавалерии, хозяин, – ухмыляется Манья и поит из ведра трехлетку. – Вы только гляньте… что за голова! А круп! Эх! Ц-ц-ц! Осторожно, хозяин. – И Штепан хлопает лошадь по шее кулаком, – Ух, разбойник! Вот это конь!
Гордубалу не по себе от острого запаха конюшни. То ли дело хлев, – родной запах навоза, молока, пастбища.
– А жеребенок где? – спрашивает он.
Жеребенок, еще совсем мохнатый, сосет матку. Он весь состоит из одних ног. Кобыла поворачивает голову и умными глазами косится на Гордубала. Ну, а ты-то зачем здесь? Растроганный Юрай гладит ее по теплому, гладкому, как бархат, заду.
– Добрая кобыла, – говорит Штепан, – да тяжелая. Хозяйка продать ее хочет. А только знаете, хозяин, мужику коня не купить, а в армию берут лошадей горячих, прямо огонь. Тихие им не годятся. Там все один к одному. Не знаю, как вы на это дело смотрите, хозяин…
– Ну, в том Полана знает толк, – неуверенно бормочет Гордубал. – А вот как насчет волов? Есть волы у Поланы?
– Да на что волы, хозяин? – ухмыляется Манья. – На поле хватит кобылы да мерина. А мясо нынче не в цене. Свинина – еще куда ни шло. Видали, какой кабан у хозяйки? Да шесть свиней, да четырнадцать поросят. Поросята – те нарасхват, за ними, хозяин, к нам издалека едут. И свиньи у нас – что слоны; рыло черное, копыта черные…
Гордубал задумчиво качает головой.
– Ну, а молоко для поросят где вы берете?
– У мужиков, понятно, – смеется Манья. – «Эй, не надобно ли нашего борова для твоей грязной свиньи? Такого надежного боровка во всей округе не сыщешь! А сколько ведер молока, сколько мешков картошки за это дашь?» Право слово, хозяин, не стоит самому спину гнуть на такой работе! До города далеко, торговля плохая. Глупый народ, хозяин. Разводят все только для себя, – так пусть нам отдают, коли продать не умеют.
Гордубал неопределенно кивает. Правда, правда, торговля у нас всегда была плохая, гуси и куры – еще туда-сюда. А у Поланы все на свой лад. Да, знает хозяйка толк в делах, что верно, то верно.
– Товар продать – надо далеко съездить, – рассуждает Штепан, – и такой товар, что барыш приносит. Ну, кто пойдет на рынок с горшком масла? Сразу по носу видать, что за душой у тебя ничего нет, – ну и сбавляй цену, а то – катись к черту…
– А ты сам-то откуда? – удивляется Гордубал.
– Из степи. Рыбары, знаете?
Гордубал не знает, но кивает: так, так, из Рыбар. Хозяину все должно быть известно.
– У нас, сударь, край богатый. А раздолье какое! Взять хотя бы рыбарское болото, вся округа здешняя поместится, как ножик в кармане. А трава, хозяин, по самую грудь. – Манья машет рукой. – Эх, паршивые тут места. Пашешь, одни камни ворочаешь. А у нас – копаешь колодезь, а чернозем так и прет.
Гордубал нахмурился. Что ты знаешь, татарин! Я, я тут пахал и каменья ворочал. Зато леса какие! Господи, воля твоя. А что за пастбища!
Раздосадованный Юрай выходит из конюшни. Паршивый край, говоришь? Так какого же черта ты сюда лезешь? А плохо ли здесь скотине? Ну, слава богу – вон и она, уже идет по домам. В долине и за околицей, звенят колокольцы – тихо, мерно, как коровьи шаги. Тонкие бубенчики на шеях телят заливаются словно второпях. Ну-ну, и вы будете коровами, и вы пойдете степенно и важно, как все стадо. Колокольцы звенят все ближе, и Юрай готов снять шапку, точно это крестный ход. Отче наш, иже еси на небесах… вон плывет, словно река, дробится на крупные брызги, разливается по всей деревне. Коровы одна за другой отделяются от стада, и – бим-бом, дзинь-дзинь – каждая заворачивает в свой хлев. Запах пыли и молока, – и вот колокольцы звякнули в воротах, и две коровы, мирно качая головами, тянутся в хлев Гордубалов. Юрай глубоко вздыхает: ну, вот я и дома, слава те господи, вот оно, возвращение домой.










