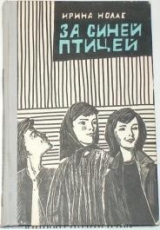
Текст книги "За синей птицей"
Автор книги: Ирина Нолле
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц)
– Ах, какие сознательные стали, – тихо посмеиваясь, говорила Вартуш. – Смотрю на вас – душа радуется… Сколько сегодня сделаешь, Клава-джан? – спросила она у Смирновой.
– А сколько потребуется, столько и дам! – блеснула черными глазами Мышка. – Вчера нам капитан что говорил: вы девушки сознательные, умные, и руки у вас золотые… И если, говорит, захотите…
– Что врешь? Ничего он этого не говорил.
– Тебе не говорил, а мне говорил!
– Что тебе вчера можно было говорить, когда ты каждую минуту по пять раз чихала.
Вошла Маша и, задержавшись в дверях, обвела глазами всех, кто сидел и стоял в комнате.
– Так… – сказала она и прищурила глаза. – Так, значит…
– А мы сегодня норму дадим! – с вызывающим видом сказала ей Мышка.
– Все треплетесь, – отрывисто бросила Маша. – Не надоело еще?
– Машенька, Соловушка, не сердись, тебе не идет, – нежно проговорила Нина Рыбка. – Скажи лучше бригадиру, пусть книжечку читает. И ей спокойнее, и нам польза…
– Смотрю я на тебя и думаю: почему тебя Рыбкой прозвали? Лисичкой надо было…
– Хотели назвать Лисичкой, – проворковала Нина, – да вот только вороны подходящей рядом не было. А какая же лиса, если нет вороны с сыром?
Это почему-то до такой степени рассмешило девчонок, что они все, даже Галя Чайка, стали неудержимо смеяться, повторяя: «вороны не было…», «лиса…», «сыр!».
– Не к добру развеселились, – предостерегающе сказала Маша, когда они немного успокоились.
«Истерички… – подумала Марина, – все у них так: от смеха к слезам, от слез к восторгам. Никаких переходов, одни крайности».
Она подошла к Нине Рыбке, чтобы посмотреть, так ли хорошо владеет она спицами, как говорила.
– Ты действительно вяжешь спицами? – удивилась она, видя, как маленькие пальцы Нины набирают «резинку».
– Я могу чем угодно, хоть веником, – Нина подмигнула сидящей рядом Клаве.
– А чего ты ходишь, контролируешь? – Клава недовольно покосилась на Марину. – Не доверяешь, что ли? Сядь, Христа ради, не торчи перед глазами!
– Должна же я посмотреть, кто как работает.
– Ну, посмотрела и иди смотри дальше… А вообще-то сядь да читай про этого парня.
Марина пожала плечами, но спорить не стала. Она обошла всех и убедилась, что плохо ли, хорошо ли, но бригада ее начала свой первый трудовой день.
Сев на свое обычное место у стола, она взялась было за крючок, но Нина Рыбакова снова стала упрашивать, чтобы она начала читать. Марина открыла книгу и, сначала монотонно и невыразительно, а потом все больше и больше увлекаясь, стала читать девушкам о юноше Марко, полюбившем прекрасную фею.
А вы на земле проживете,
Как черви слепые живут,
Ни сказок про вас не расскажут,
Ни песен о вас не споют…
«И даже о таком, как капитан Белоненко, не споют песен и не расскажут сказок… потому что о нем никто и ничего не знает…» – это пришло в голову Марине неожиданно, но, раз вспомнив о Белоненко, она уже не могла не думать об этом человеке. Марина видела перед собой его лицо, в котором, кажется, и примечательного ничего не было, разве только упрямый и смелый росчерк бровей да зеленовато-серые глаза, которые умели быть и внимательными, и холодными, и суровыми, и все понимающими. Она слышала его голос: «…Пробовать вы не будете. Вы будете сразу работать…» Голос звучал требовательно, и глаза смотрели жестко. «Как же все мы допустили, чтобы они стали сбродом?..» Он смотрит на Марину пытливо, и голос звучит словно издалека. «Кем вы считаете себя сейчас?..» «Если через тридцать минут барак не будет приведен в порядок, я выпишу вам трое суток…».
Но какой же он настоящий? Каким он бывает дома?.. Есть ли у него семья? В самом деле, почему она так и не знает, есть ли у Белоненко жена? Кажется, Маша говорила, что у него никого нет, кроме старой тетки.
…Наш начальничек не глуп,
Завернул меня в тулуп…
Марина вздрогнула. Циничные слова хлестнули ее, как удар хлыста. Она вскочила.
– Кто поет?!..
Что-то подвернулось под руку. Марина с размаху ударила этим предметом по столу. Сухой звук прозвучал, как выстрел. Частушка оборвалась. Стало тихо.
– Я спрашиваю, кто поет?
Было во взгляде и голосе бригадира что-то такое, что заставило опустить глаза даже Галю Светлову.
– Если сию минуту тот, кто пел, не выйдет на середину, я ухожу из цеха, – тихо проговорила Марина. – И никакая сила, никто на свете не заставит меня вернуться обратно! – Голос ее зазвенел.
К столу, провожаемая испуганными взглядами, подошла и остановилась перед Мариной Клава Смирнова.
– Выйди из цеха… – Марина собрала всю свою силу воли, чтобы не швырнуть в лицо девчонки дощечку, на которой записывалась выработка бригады. – Выйди… – глухо повторила она.
– Ну что ты распсиховалась… – Клава жалобно моргала темными ресницами. – Чего ты?.. Петь, что ли, нельзя?
– Я тебе говорю – выйди из цеха.
– Да куда ж мне идти? – Губы Клавы задрожали. – Что же мне, на дворе стоять, что ли?
– Где хочешь. Я с тобой в одной бригаде работать не буду. Иди к начальнику и скажи, что я тебя выгнала из цеха и обратно не пущу.
– Подожди, бригадир, – Маша положила руку на плечо Марины. – Давай дыши спокойно. Что тебя так задело? Ну, верно, частушка не того…
– Так ведь все поют такие… – заторопилась Клава, обрадованная поддержкой Маши.
– Молчи! – прикрикнула на нее та. – Соплячка! Марш на место!
Клаву словно ветром сдуло. Она забилась в самый дальний угол цеха, села на пол и поглядывала оттуда на Марину расширенными от испуга и обиды глазами. Кругом глухо зашумели:
– Подумаешь, частушка ей не понравилась!
– Королева какая!
– Взялась бригадирствовать – умей и песни слушать.
– Не нравится – научи другим…
Бесцеремонно растолкав девчонок, вперед вышла Галя Светлова. Все сразу притихли.
– В последний раз, – медленно произнесла она, и глаза ее сузились, а лицо побледнело, – в последний раз чтобы такие номера повторялись. И если еще раз кто-нибудь вздумает повторить такое, то я сложу такую частушку, что до конца срока пальцами будут указывать, да еще на воле позора прихватите… Я ненавижу эту вашу похабщину… Меня рвать тянет. Ни один настоящий вор не будет орать такую пакость. Вы считаете себя воровками, а того не знаете, что если бы Смирнова осмелилась спеть вот это перед ворами, то ей бы язык расписали?!.. На всю жизнь замолчала бы.
Девчонки словно оцепенели.
– Правильно говорит Чайка! – вполголоса произнесла Маша. – Отрезали бы ей воры язык.
Клава закрыла лицо ладошками и съежилась – маленькая, беспомощная. Марина взглянула на нее, и острая жалость полоснула ее по сердцу. И вдруг отчетливо, резко услышала она знакомый голос: «А что мы сделали для того, чтобы они не стали сбродом?».
Галя Светлова повернулась и пошла на свое место. Марина опустилась на скамейку – у нее дрожали ноги. «Что вы сделали для того…».
– Сходи, бригадир, в контору, – раздался над склоненной ее головой вкрадчивый шепот Маши. – Пройди, девочка, прогуляйся… Я потолкую с ними.
Марина послушно встала и, не глядя на притихшую бригаду, вышла из цеха.
Почему? Почему она вышла из себя? Почему ей хотелось ударить эту худенькую, тщедушную девочку? Она сотни раз слышала такие и подобные ей песни, однако это не вызывало в ней чувства, которые можно сравнить только с бешенством.
Марина медленно брела к производственной вахте, мучительно вспоминая всю эту сцену. Да, она ударила бы ее. Доской. Это такая узенькая, гладко выструганная дощечка, заменяющая бригадирам бумагу. Дощечка шириной в ладонь и длиной в тридцать сантиметров. У нее острые края, и если со всего размаху ударить человека ребром…
– Вы что, заболели, Воронова?
Марина подняла голову.
– Гражданин начальник?.. Извините, я вас не видела. – Она остановилась, боясь взглянуть на него и встретить его взгляд. «Он сразу догадается, сразу догадается, что что-то произошло… И будет спрашивать… А что я ему скажу? Выгоняла из цеха… хотела ударить… За что? За похабную частушку?».
– Вы что – заболели?
– Нет… Я здорова… Это просто так…
– Пройдите в стационар. Там вам дадут чего-нибудь. А если не станет легче – отправляйтесь в барак. Я сейчас иду в цех и поручу Добрыниной…
– Нет, нет! – Марина подняла глаза на Белоненко. – Не ходите в цех, не надо! Они сидят и работают. Вяжут. Я просто была удивлена, гражданин начальник, просто не ожидала: оказывается, они все хоть немножко, но умеют вязать… – Марина говорила еще что-то – торопливо, глотая слова, думая только о том, чтобы он не пошел в цех, а уж если пошел, то вместе с ней. – Если вы пойдете туда, то они отвлекутся… Я сейчас вернусь. Мне надо в контору…
– Ну что ж… – протянул он. – Хорошо. Я не буду их отвлекать.
– Там все в порядке, гражданин начальник, – все еще торопилась Марина, – уверяю вас, что они работают. Разрешите мне идти? – И, не дождавшись ответа, она быстро повернулась и почти бегом направилась к проходной. Если бы она оглянулась, она увидела бы, что капитан Белоненко пристально смотрит ей вслед.
В производственную зону она вернулась минут за пять до сигнала на обед. Ей пришлось зайти в контору (а вдруг он заметит, что она бесцельно бродит по зоне?). В конторе, как всегда, нашлось десяток дел: подписать вчерашнюю рапортичку, уточнить списки на получение обуви и выслушать замечания нарядчицы по поводу цифры «20 процентов», стоящей против фамилии бригадира 4-й бригады за вчерашнее число.
Все эти дела отвлекли Марину, и в цех она пришла значительно остывшая от недавней своей вспышки.
– Не сердишься? – рыженькая Векша пошла ей навстречу и взяла за руку. – Ты не сердись, Маришка… Знаешь, какие мы? Чуть что – и орать. А Мышка переживает сидит… Она такая… ну совсем еще пацанка. Соловей нам всем мозги вправила… Ну, и ради тебя тоже…
Это звучало как извинение, и Марина успокоилась. Теперь уже этот инцидент казался ей не столь значительным. Ей не следовало делать замечания в такой резкой форме.
Раздался сигнал на обед. Девчонки шумно отодвигали табуретки, тормошили друг друга, торопились в столовую. Клава уже развеселилась, хотя и поглядывала на Марину с некоторой опаской.
– Я останусь, подсчитаю выработку, – с удивлением заметив на столе порядочную кучку варежек, сказала Марина.
– Без тебя подсчитаю, – Маша отстранила ее. – Иди корми бригаду. Вернешься – запишем выработку до обеда.
Девчонки окружили Марину и потащили ее к двери.
– Пошли, бригадир, в столовку! Мы сегодня заработали баланду.
– А писем нет? – спросила Лида.
– Почта будет вечером…
Кто-то подавил вздох, и все притихли. Нина Рыбакова сказала:
– Они еще не знают наш новый адрес.
– Не все и узнать могут, – глухо проговорила Соня Синельникова.
– И радио выключили… Маришка, почему они радио выключили?
– Комендант говорил – будут читать сводки Информбюро по баракам.
– Кто читать будет? Начальница КВЧ уехала в командировку.
– Девчонки, я знаю, куда она уехала – проверить, как там для нас колонию ремонтируют.
– Интересно, как там наши мальчишки?
Пока обедали, небо затянулось тучами – низкими, по-осеннему тяжелыми. Дождя еще не было, но чувствовалось, что он вот-вот прорвется и зарядит – мелкий, нудный, упорный.
Марина смотрела в окно и думала, что теперь девчонкам не до ящиков. Хочешь не хочешь, а сиди в цехе. Сегодня они работают, а завтра?
– Чайка! – крикнула через стол Лида. – Маришка небось не верит, что у нас будет норма. Скажи ей…
Галина нехотя повернула голову:
– Что я – справочное бюро вашему бригадиру? – Она скользнула по Марине холодноватым взглядом, и какое-то неуловимое, мгновенно исчезнувшее выражение почудилось Марине в ее лице – не то ирония, не то сожаление.
– Ох, и характер у тебя, Галька, – укоризненно проговорила Нина Рыбакова. – Все хочешь, чтобы по-твоему было. А вот представь, – Нина кивнула в сторону Марины, – она еще настырнее, чем ты. На пару с начальничком они из тебя веревочку совьют и в узелок завяжут. Чуешь, что говорю?
– Отстань… – равнодушно отозвалась Галина и, отодвинув пустую миску, вышла из-за стола.
– Не задирай ее, – сказала Марина.
Нина тряхнула головой:
– Ни черта, не развалится. Подумаешь, графиня какая! Получила письмо от отца – должна радоваться и всем девчонкам вслух прочитать, как он там у нее на фронте. А она заберется в свой угол и читает одна.
– Я бы тоже не стала сразу всем читать, – прозвенел голос Мышки. – Сразу никак нельзя. Надо сначала самой… А Гальку ты не задевай, у нее жизнь дала трещину, вот она такая и стала.
– А у тебя – не дала? – вмешалась Соня Синельникова. – Ей отец письмо прислал, – значит, разыскал. Может, посылку пришлет. А мне да тебе и писать некому, и сухариков ждать неоткуда…
Марина не вмешивалась в разговор. Что она могла сказать утешительного этим девочкам, из которых больше половины не знали, где их родители и живы ли они?
– Пошли в цех! – Соня Синельникова перелезла через скамейку и подошла к Марине: – Давай я тебе помогу посуду собирать.
– Мы пойдем, Марина-джан, – сказала Вартуш и пошла к выходу.
За ней пошли все остальные.
– Ты наедаешься, Мариша? – спросила Соня, устанавливая на поднос миски. – Я – нет… Мне все время есть хочется. А где взять? Ни попросить, ни заработать…
– Делай больше ста процентов – добавочный паек получишь. Мне тоже иногда есть хочется… Ну, так что же делать? На воле людям еще тяжелее. Знаешь, что в Ленинграде делается?
– Слышала… А ты, Маришка, пойди к начальнику, спроси: может, он меня в сельхозбригаду пустит. Там они картошку копают.
– Кончили уже…
– А до войны в лагерях, говорят, хорошо кормили, – продолжала Соня, – вон Маша Соловей рассказывает – хлеб не поедали. И ларек был, можно купить хоть сахара, хоть консервов. Селедку давали на ужин, так – представляешь! – на столах оставалась! А камса прямо в бочке стояла – бери сколь хочешь.
Они поставили поднос с мисками на широкий прилавок у раздаточного окна. Соня забарабанила пальцами по закрытому фанерой окошку. Дощечка отодвинулась.
– Чего вам? – спросила повариха.
«Эта небось не голодает», – с неприязнью подумала Марина, глядя на упитанное, розовое лицо поварихи.
– Миски принимайте. – Марина пододвинула поднос к окошку. И вдруг, бросив случайный взгляд в кухню, она увидела Гусеву. Та стояла вполуоборот к раздаточному окну у длинного, добела выскобленного стола и перекладывала что-то из большой эмалированной миски в начищенный котелок из белой жести. Отблеск огня от огромной плиты, заставленной такими же огромными баками, играл на котелке, окрашивая его в нежно-розовый цвет. И лицо старосты было тоже нежно-розовым, и светлые кудряшки тоже светились розовым, и вся она сейчас была такая благодушная, чистенькая, умиротворенная и казалась совсем молодой женщиной и даже хорошенькой. Но вот Гусева повернула голову и встретилась глазами с Мариной. Секунда – и глаза забегали.
– А я думала – все уже пообедали! – сказала она и быстро задвинула сияющий котелок за миску, – Ну, как работается? Как живется на новом месте?
Марина хотела отойти от окошка, но Гусева поспешно подошла с той стороны и, слегка отстранив повариху, наклонилась к Марине:
– Я тут иногда прихожу помогать… Хотите, вас устрою? Дело пустяковое – котлы почистить, помочь плиту растопить, ну и все такое… А за это повар покормит да еще с собой даст…
Марина отвернулась и вдруг увидела перед собой лицо Сони Синельниковой с жадно устремленными глазами туда, вглубь кухни, где на чистом столе блестела эмалированная миска.
– Знаете, – Марина посмотрела на Гусеву, – мне не надо. Хватает… А вот эту девушку – возьмите. Она работать умеет, помогать будет добросовестно.
– Ну что ж… – Гусева взглянула на повариху. – Катя, организуешь?
– Можно, – отозвалась повариха. – Пусть приходит вечером. Работы хватит. Санврач с куском марли во все углы тычется. Полы мыть умеешь?
– Умею! – радостно выдохнула Соня. – У нас дома песком скоблили… Дрова пилить, воду буду таскать.
– Дрова – не надо, – величественно сказала повариха. – Дрова дровоколы пилят. Хозобслуга. Только ты, бригадир, коменданту скажи. А мы не возражаем, – она кивнула головой и направилась к столу.
Соня не сводила глаз с поварихи, а у Марины сдавило горло от острой жалости к этой полуголодной девушке, готовой сделать все, что ей прикажет толстая, упитанная баба, неторопливыми движениями перекладывающая из большой кастрюли в деревянную миску успевшую загустеть кашу.
– Вот, – повариха вернулась к окну и протянула Соне миску. – Ешь пока… – И вдруг полные щеки ее задрожали, она шмыгнула носом. – Ешь, горемыка… – И, повернувшись к Марине, добавила: – Не могу смотреть… Сколько просила начальника – освободи от повара, пусти работать в цех. Душа, говорю, разрывается смотреть, как… – она махнула пухлой рукой. – Так ведь не отпускает. До меня их, поварих, человек восемь сменилось. Все тащат, все хапают. Хочешь, тебе дам?
Марина, красная от смущения и стыда, пробормотала, что нет, она не хочет, сыта…
– Врешь, – сказала повариха, но Марина торопливо отошла от раздачи, успев сказать Соне:
– Я пойду…
Вот тебе и ожиревшая баба! Ох, как мало же еще Марина знает людей, как не умеет разбираться в них!
«Вы еще ничего не знаете… Вот когда вам будет тридцать четыре, как мне…» Да что же это такое? Опять – его слова и его голос? Почему она теперь все время думает об этом человеке? Почему почти не вспоминает милую, родную тетю Дашу, заменившую ей мать? Куда отошла, отступила ее горькая тоска о любимом…
Марина замедлила шаги. О любимом… Что это такое – любить человека? Не тетю Дашу, не друга или приятеля, а другого, ранее незнакомого и до конца не узнанного человека? Знала ли Марина Олега? За что любила? Три месяца знакомства, посещение танцплощадки, теннисного корта, кино… Разговоры о книгах, о жизни… О какой жизни? Что знала она о жизни?
Кто-то осторожно дотронулся до ее плеча.
– Это я, – сказала Соня. – Ты чего вздрогнула? На вот… – она сунула в руки Марины что-то теплое, мягкое, круглое. – Пышка это. С больничного стола. Чего ты убежала? Тетя Катя еж расстроилась. Ешь пышку, теплая…
– Не надо, не надо мне… Зачем это ты?
– Думаешь – покупаю тебя? – Некрасивое лицо Сони опечалилось. – Это ведь тетя Катя… Я хотела тебе каши отнести, а она говорит: возьми вот пышку. Ты ешь, Мариша, не надо свою гордость показывать. Нехорошо отказываться, когда тебе человек кусок хлеба дает.
Марина поднесла пышку ко рту и откусила.
– Правда, как вкусно, – извиняющимся тоном сказала она. – Я тоже иногда очень хочу есть.
– Ты не получаешь посылок?
– Я написала домой, чтобы не смели присылать. Откуда там у нее могут быть посылки? Сама в госпитале работает.
– Мать?
– Нет, тетка. Она меня разыскала и взяла к себе из детдома.
Они подошли к цеху.
– Сегодня будет норма, – сказала вдруг Соня и искоса взглянула на Марину. Казалось, она хотела еще что-то добавить. Но Марина не заметила ни взгляда, ни нерешительного тона Синельниковой.
– Порядок, бригадир! – встретила ее Маша. – Считай! – и пододвинула к краю стола четыре пачки варежек, аккуратно перевязанных шерстяной ниткой. – Сорок штук.
– Сорок? Ты что, Маша? – Марина переводила взгляд со своей помощницы на варежки и обратно. – Это же почти пятьдесят процентов дневной выработки?
– Ну, так ведь уже полдня прошло! Что ты так смотришь на меня? А знаешь, сколько мы сегодня с Варей сделали?
– Сколько бы вы ни сделали – девочки не смогли связать до обеда по одной варежке.
– А вот и смогли! – лукаво улыбнулась Маша. – Знаешь, как в сказке – по щучьему велению, по моему хотению?! Не веришь, так считай сама.
– Что проверять? – вмешалась Вартуш. – Качество самое хорошее. Первый сорт варежки, я проверяла.
Марина пересчитала варежки, связанные в пачки. Сорок штук.
Она пожала плечами и недоуменно оглядела свою удивительную бригаду. Верно – по щучьему велению…
Девчонки были оживлены, перемигивались, пересмеивались, но каждая из них держала в руках спицы или крючок, и Марине оставалось только поверить своим глазам – сорок штук варежек действительно отличного качества лежали перед ней на столе.
– Ну, а теперь давай читай дальше, – сказала Маша. – На них внимания не обращай. Они уже включились на третью скорость, и ты им не мешай. Поняла? На вот книжку. – Она открыла наугад страницу, ткнула пальцем: – Отсюда читай.
– Да подожди ты, Маша, – отстранила книгу Марина. – Я хоть одну варежку закончу.
– Тебе не обязательно, – категорически заявила Маша. – Тебе нужно культурно-воспитательную работу проводить.
– Все-таки я не понимаю…
– Какая ты непонятливая стала. Ну, считай: мы с Варькой по четыре сделали, да Сонька две, да Галина две, да Лида Векша… Сколько ты связала, рыженькая?
– Десять! – звонко откликнулась Лида, и все рассмеялись.
– Врет, – сказала Нина Рыбакова, – это я – десять, а она только пять.
– Какие болтушки! – с досадой проговорила Вартуш. – Зачем так много языком болтаете? Садитесь, слушайте, бригадир читать будет.
– И… смотрите, девчонки, беготню прекратите! – строго предупредила Маша. – Хватит, набегались. Сидите и помалу ковыряйтесь. Пойдем, Варвара, сходим в одно местечко.
– Куда это вы?
– Ну, куда, куда? Известное дело – куда: на пятый километр.
– И я с вами! – вскочила с места Лида Векша.
– Сиди, не черта тебе там делать, – оборвала ее Маша.
Лида послушно опустилась на табуретку и оживленно зашептала что-то на ухо Нине Рыбаковой.
Марина взяла книжку и стала читать вслух.
Звякали спицы, шуршали разматываемые клубки. Все больше темнело в углах, все настойчивее становился шорох дождя за окнами. Маша и Вартуш вернулись.
– Ну как? – с любопытством глядя на них, осведомилась Рыбка.
– Дура ты, вот как! – сердито ответила Маша. – О чем спрашиваешь? Мы на «пятом» были – не понимаешь?
– Ах, на «пятом»! Понимаю… – Лида опять рассмеялась. – Ну вот я и спрашиваю: там починили крышу?
– Починили, отвяжись. Опять, черти, свет задерживают… Ну, хоть коменданту жалуйся.
– А тебе свет зачем? – сказала Соня. – Ты и в темноте вяжешь.
Поработали еще немного. Потом Марина отложила книгу.
– Подсчитаем?
– Уже подсчитала. Пятьдесят две. И еще двенадцать бракованных.
У Маши почему-то было недовольное лицо.
– Я сейчас брак исправлю, – отозвалась от окна Вартуш.
– Разбирай по десять и складывай. – Маша пододвинула к Марине кучку варежек.
– Ты же говоришь – считала.
– Эти – еще нет.
Марина стала пересчитывать варежки, ощущая в душе какую-то неясную тревогу. Что-то здесь неладно… Откуда в первый день такая выработка?
– Сколько, ты сказала? – переспросила она Машу.
– Чего сколько?
– Да варежек же!
– Сколько тебе надо повторять?! Семьдесят штук. Что ты на меня смотришь, словно я тебе что-то должна? Опять неладно? То плакала, что не работают, теперь расстраиваешься, что много сделали.
– Ничего я не расстраиваюсь, а не может этого быть, что у нас такая выработка.
Маша махнула рукой:
– Занудная ты какая-то, бригадир. Эй, пацаночки! – повернулась она к девчонкам. – Споем, что ли? Сонька, давай сюда, ближе ко мне.
Синельникова отложила работу на табуретку и подошла к Маше.
– Споем, Соловей… Только я ваших блатных песен не пою.
– Ладно. Знаю…
Маша села на край стола и охватила руками колено.
За окном черемухе колышется… —
мягко и задумчиво прозвучал где-то, совсем не в цехе, а очень-очень высоко, незнакомый Марине голос.
Осыпая лепестки свои…
Марина перевела изумленные и растерянные глаза на Соню Синельникову. Это разве она поет, эта некрасивая девушка? И разве этот хрустальный, звенящий звук – это голос Маши Добрыниной?
За рекой знакомый голос слышится
И поют всю ночь там соловьи…
Кажется, они пели эту песню по-своему – на другой мотив и с другими словами… И вкладывали в нее свою горечь и свою обиду – за неудачную свою жизнь да раннее познание этой горечи, и жаловались кому-то, и просили о чем-то…
Мне не жаль, что я тобой покинута…
Марина сидела, уронив руки на стол, глядя поверх голов поющих… Теперь пели все. И потому, что в цехе совсем стемнело, и лиц не было видно, казалось, что песня звучит сама собой.
Кто-то неосторожно уронил спицу.
За окном черемуха колышется…
Марина очнулась. В цехе было тихо.
– Да… – как в полусне проговорила она и провела ладонью по глазам. «Неужели расплакалась?..».
– Ну как, бригадир? – оживленное лицо Маши склонилось к Марине. – Хорошо поем?
– Ох, Маша! – только и могла выговорить Марина и схватила помощницу за руки.
– Да ладно тебе…
Маша смущенно отвернулась, осторожно освободив свои руки.
– А теперь, девочки, давайте плясать! Лидка, где ты там? Вылезай из угла!
Загремели табуретки, сдвигаемые к стенкам, девчонки вскакивали со своих мест.
– «Цыганочку»! С заходцем!
– Шире круг, пацаночки!
Лида Темникова вышла на середину. Остановившись, она чуть повела плечами и оглядела круг. И сразу же, словно повинуясь ее легкому движению, вспыхнула электрическая лампочка.
– Даешь!
Запели знаменитую «цыганочку» – самую популярную среди жулья мелодию, под которую мастерски бьет чечетку каждый вор. Сначала пели тихо, не разжимая губ. Рыжая головка Лиды поднялась выше, вот она откинула ее назад горделивым, грациозным движением и, чуть заметно перебирая ножками, медленно пошла по кругу. На лице ее застыло высокомерное выражение, глаза были чуть прикрыты длинными золотистыми ресницами, но вся она – тоненькая, изящная, – казалось, дрожала, как натянутая до предела струна.
Ритм становился все быстрее, мелодия звучала громче. Маленькие стройные ножки мелькали все быстрее, чаще.
– Э-эх, чаще, чаще!
Лида отбивала чечетку. Вокруг все хлопали в ладони в такт песни.
– Чаще, чаще!
Откуда у нее, этой простой русской девчонки, столько настоящего, страстного темперамента таборной цыганки? Где подсмотрела она, где научилась этим гибким, вкрадчивым движениям, этой властной, покоряющей надменности жеста и взгляда?
Лицо девушки пылало румянцем, чуть открылись в улыбке губы, а рыжие волосы, как золотое пламя, рассыпались и трепетали на плечах. Она была так хороша сейчас, в ней было столько жизни, столько внутреннего огня, что никто, даже красавица Галя Светлова – стань она рядом, – не смог бы сравниться с Лидой Векшей.
Марина, оторвавшись от плясуньи, взглянула в ту сторону, где на широком подоконнике устроилась Галя Светлова. Взглянула – и словно холодом пахнуло на нее. Галя сидела неподвижно, охватив руками колени, и казалось, она не видит ни пляски, ни оживленных девчоночьих лиц, не слышит звуков голосов, веселых возгласов: «Чаще, Векша, чаще!».
Тонкие брови Чайки были сведены в скорбном изломе, и глаза казались темными, пустыми провалами.
Такие лица Марина видела только в госпитале, когда, сдерживая рыдания, склонялась над распластанным, наполненным одной только болью, одним только страданием телом умирающего.
Лида все еще плясала, к ней присоединились еще трое… И все так же задорно звучал мотив «цыганочки», и все так же метались рыжие волосы Векши… Но Марине вдруг все это показалось не только ненужным, но даже кощунственным.
«Веселимся, пляску устроили… А чему радуемся, когда вокруг одно горе и слезы? Галя Светлова сейчас думает об отце, – безошибочно определила Марина, – и ей совсем не весело, потому что она старше и серьезнее других». Может быть, и Марине надо подумать о человеке, который сейчас, как и отец Галины, находится на фронте, на передовой, где нет ничего – ни солнца, ни неба, а только один свистящий, воющий, громыхающий ужас? Почему Марина не думает о нем? Неужели она не простила ему обиды? И не простит никогда? Но ведь говорят, что любовь все прощает… А может, она никогда и не любила Олега?
И при этой мысли, пришедшей вторично и вначале пугающей, Марину не охватило ни чувство стыда, ни чувство сожаления. Да, значит, не любила, значит, это была не любовь… Но ради чего же тогда она очертя голову бросилась искать избавления от боли, которой, оказывается, и не было?
– Значит, веселитесь? Хаханьки устраиваете? А где же ваша бригадирка? Я сейчас с ней посчитаюсь…
Марина повернула голову. В дверях, вся подавшись вперед, стояла Нюрочка Якунина. Бешенство, решимость и лютая ненависть – вот что увидела Марина в черных, матовых глазах этой женщины. Искаженное лицо ее не предвещало ничего хорошего.
Марина встала, почувствовав не страх, не растерянность, а неожиданно вспыхнувшее чувство озлобления к Нюрочке, в который уже раз пытавшейся задеть самолюбие Марины и оскорбить ее.
– Что тебе надо? – Марина шагнула навстречу Якуниной.
– Ты! Б… образованная! – задохнувшись, хриплым голосом проговорила Нюрочка. – Чем ты ему голову закрутила? Что он о тебе как привороженный бредит? Выгнал меня… Разговаривать не хочет…
Остолбеневшие было девчонки враз закричали, зашумели, бросились вперед к Нюрочке, но дверь снова открылась. В цех вбежала помощница Якуниной, Валя Сидоренкова.
– Нюрка, иди в бригаду! Быстро!
Нюра обернулась:
– Чего тебе? Горит, что ли! На пять минут уйти нельзя?
– Пять! Ты с самого обеда где-то шныряешь, а бригада сиди и жди. Пошли давай, там у нас…
Она не успела закончить – в цех вошли Даша Куликова и Эльза.
«Что это Куликова в зоне?» – мелькнуло у Марины, но сразу же забыла об этом.
Сидоренкова, схватив Нюрочкино плечо, что-то шептала ей на ухо, а потом громко сказала, показывая на Марину:
– Ее малолетки сработали. Вон они, варежки, на столе… Начисто все забрали.
Куликова пошла вперед и загородила собой стол, став лицом к Нюрочке.
– Ну, забрали. – Она спокойно смотрела на Якунину и, словно наслаждаясь ее взбешенным видом, добавила: – Забрали и сдадут сегодня в кладовку. Еще спасибо скажи, что я это местечко им указала, а то ведь могла и коменданта с дежурной подвести.
– Коменданта? – взвизгнула Нюрочка. – А кто б тебе поверил, что это наши варежки? Пойди докажи, что наша заначка! Кто докажет? Ты за зоной работаешь, за своей бригадой поглядывай, а к нам в цеха не лезь.
– Я докажу, – Эльза проговорила это ласковым, почти нежным голосом. – Я докажу, Нюрочка… А другие бригадиры тебе еще темную сделают. Мы за тобой давно следим и вот – выследили ту ямочку за сушилкой, куда ты ворованные варежки затырила. Мы ведь и вправду хотели коменданта туда направить, так вот надо было малолеток выручить…
Марина ахнула. Вот, значит, откуда в ее бригаде сегодня такая необыкновенная выработка!
– Чьи это варежки, Эльза?
– Чьи? А поди теперь разберись, чьи они… По всем бригадам недостача шерсти, а то и готовых варежек. Целую неделю следим да ищем: кто тащит и когда тащит. А вчера выследили. Оказывается, Нюрочка Якунина, – в кубышку добро собирает, чтобы своего мужика подкармливать. Бригаде – на табачок да на стакан пшена, а своему кобелю – сливочек да самогончика.
– Забирайте обратно! – Марина швырнула пачку на пол. – Мне не надо ворованного! И вы все, – она повернулась лицом к девчонкам, – вы все делали за моей спиной? И ты, и ты, и даже ты, Маша! Весь день воровством занимались, мне очки втирали… Сейчас же забирайте все это!








