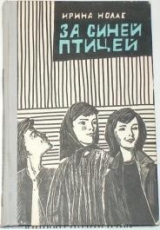
Текст книги "За синей птицей"
Автор книги: Ирина Нолле
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 26 страниц)
– А ребеночек? – тихо спросила Галя. – Писала Мурка… должен был он родиться…
Маша коротко вздохнула и отбросила веточку.
– Родилась… Галочкой назвали. Теперь она там с Санькой. В детсадик ходит. Обещает фотокарточку прислать… Пишет – на Чайку похожа…
– Они мне все время обещали, – плача говорила Галя, – все время говорили, что если бы у них была дочка, то Галочкой назвали…
А Маша торопливо рассказывала ей о том, как живет и работает Саня Добрынин на далеком Сучане, какая хорошая у него квартирная хозяйка, как жалеет и любит Галочку и что теперь Санька уже не Санька, а Александр Васильевич и что считается он лучшим откатчиком. А потом – опять о девочке Галочке, о ее кудрявых светлых волосах и о синих как васильки глазах.
– Шурик пишет, и на тебя похожа и на меня, – тихо рассмеялась Маша. – Смешной какой! Откуда же – на тебя?
– А кто же ее? – глухо спросила Галя, уже перестав плакать.
– Новые какие-то жиганы, – неохотно ответила Маша. – Не надо об этом больше, Чайка… Пошли. Жалко, что поздно сейчас, а то бы я тебе все Шурикины письма показала. Там и о тебе есть… Ты на меня не обижайся, Галя, что я так долго к тебе не подходила. Давно хотела обо всем поговорить, да ведь ты какая-то совсем психовая была… Не нравилась ты мне вначале…
Галя протянула руку и сжала пальцы Маши.
– И ты не сердись… Дура я была тогда. Мне все казалось, что вокруг никого нет, и что я совсем, совсем одна осталась. А потом думать стала, когда мне капитан письмо от отца передал. Помнишь, в цехе? И потом к себе вызывал… Ну, и Марина тоже, и Галина Владимировна… Поняла я теперь, что совсем я не одна… А ведь знаешь, еще немного – и стала бы совсем такая, как Анка Черная.
– Да! – спохватилась Маша. – Я тебе хотела еще об Анке сказать. Что она там болтает про какие-то стишки любовные, про воспитателя…
– Наплевать-то я хотела и на нее и на все ее разговоры! – вскинула голову Галя. – Отболтается скоро, как попадет на женский лагпункт.
– Это я тебе к тому говорю, – осторожно сказала Маша, – что нехорошо будет, если про нашу колонию такие слухи пойдут. Тебе-то, может, и наплевать на нее, а вот для колонии хуже…
– Да? – напряженно спросила Галя и крепче сжала Машину руку. – А ведь ты правильно сказала… Как это я раньше не подумала? Ну да ладно… Я это все учту. Тетрадь она мне подкинула. Я к капитану пойду и все ему расскажу.
– А ты верно в Горина влюбилась? – чуточку помедлив, спросила Маша.
Галя рассмеялась:
– Влюбилась… Надо же мне было что-то придумать, чтобы стихи лучше получились. Не про Горина я вовсе писала и не для него эти стихи.
– А для кого?
– Да ни для кого! Просто для себя. Это Анка Черная сдуру вообразила, что нужно обязательно в кого-нибудь влюбиться, чтобы о любви писать. А на самом деле надо только вообразить – и все.
Может быть, Маша не поняла объяснений Гали, но расспрашивать не стала. Она проводила ее до барака, где они договорились, что завтра Галя придет к ней и к Марине и они вместе напишут ответ Шурику.
– Ты, когда освободишься, куда поедешь? – спросила Маша уже у двери общежития.
– Если война кончится, то домой, к отцу. Поедем вместе, Маша? Будем учиться… Тебя отец устроит в музыкальную школу, а я буду стихи писать. Только мне тоже надо учиться, я ведь из шестого класса ушла.
Маша удивилась:
– Я думала, ты уже семь окончила.
– Это потому, что я много читала. Ну, я пошла. Спокойной ночи.
– Спокойной ночи.
В бараке, к удивлению Гали, никто не спал. Все толпились вокруг Сони Синельниковой, поздравляли ее, и глаза у всех блестели – не то от радости, не то от слез. Новость была замечательная: только сейчас пришла телефонограмма о досрочном освобождении Сони. Девчонки наперебой спрашивали счастливую и ошеломленную радостной вестью девушку, есть ли у нее дом, куда она поедет, что будет делать.
– Ты поезжай к нам! – кричала Нина Рыбакова. – У меня мировая бабушка! У нее две козы и огород!
– Брось, Рыбка, на черта ей твой огород и козы! Оставайся здесь, Соня! Куда тебе ехать?
– Тоже сказала! Кто ее здесь оставит? Если бы она была совершеннолетняя…
Успокоились только тогда, когда Соня объявила, что ей есть куда ехать, хотя родные ее остались на оккупированной немцами земле.
Галя подумала, что Соня или ошибается, или не знает, как обстоит дело на фронтах, и сказала:
– Немцев теперь погнали на запад. Может быть, и твое родное село давно освободили. Ты где жила?
– Пусть освободили, – ответила Синельникова, – только я домой сразу не поеду.
– Почему? – удивилась Нина Рыбакова.
Соня ответила не сразу, и на некрасивом ее лице мелькнуло замешательство.
– Почему? – переспросила и Галя Светлова.
Соня чуть покраснела.
– Тебе хорошо домой возвращаться, у тебя и квартира в Москве, и разная мебель там есть, и барахла, наверное, от матери осталось. А у меня что? Ни крыши, ни избы… Надо сначала денег добыть, а потом уж и домой ехать.
Все согласились, что это правильно. Если родная деревня Сони освобождена от немцев, то там теперь все разрушено и с голыми руками туда приезжать нечего. И никто, кроме Гали Светловой, не обратил внимания на то, что Соня сказала «добыть денег». «Как это – добыть?» – подумала Галя и взглянула на Соню недоверчиво. Но спрашивать не стала – девушки уже стали расходиться по своим местам, да и самой Гале вдруг захотелось спать.
Вскоре в бараке стало тихо. И только одна Соня Синельникова долго сидела у стола и старательно писала письмо, которое начиналось так: «Добрый день или вечер, уважаемая Алла Гавриловна! Спешу сообщить Вам, что наши думки и мечты сбылись, и я уже получила освобождение…» Она писала внимательно и неторопливо, изредка облизывая губы, обдумывая каждое слово. Потом поставила свою подпись, сложила бумагу треугольником и надписала: «Отдельный лагпункт № … Передать Гусевой А. Г.».
Глава пятая«Бирюзовое ты мое колечко…»
– Очень жаль, – сказал Белоненко, – очень жаль, что этот вопрос опять остается нерешенным. Сколько же они будут мариновать? В сущности, это простая формальность – определение возраста. Для этого незачем и целую комиссию создавать, достаточно двух людей – врача и работника Управления.
– В том-то и дело, что Тупинцева сейчас нет, он уехал в Москву, а без него там ничего решить не могут. – сказал с досадой Горин. – Вообще меня удивляет положение, существующее в Управлении. Никак я не могу привыкнуть к вашим порядкам. У него в отделе все сидят, затая дыхание, и ходят на полусогнутых ногах. Только и слышишь: «полковник Тупинцев», «начальник отдела»… Его даже по имени и отчеству не осмеливаются назвать. Спрашиваю там одного: а что, если полковник внезапно умрет, как вы без него будете решать вопрос о похоронах? Так он, представьте, чуть не потерял дар речи! Мотался я там, мотался, ничего не добился, пошел к начальнику КВО. «Постараемся помочь, говорит, но все равно до возвращения Тупинцева вряд ли что выйдет». Вот так, Иван Сидорович…
– Ну что ж, – произнес Белоненко, – придется подчиниться и ждать. А почему задерживается приезд нового товарища на место Голубец? Это уж никакого отношения к полковнику Тупинцеву не имеет.
– Дозвонился Доре Ефимовне… Извиняется, говорит – сразу после праздников. У них там тоже горячка.
– Плохо, – поморщился Белоненко. – Римма Аркадьевна не в том состоянии, чтобы работать. Если бы не Добрынина, то мы зашились бы, в буквальном смысле слова. Ну, а еще что? Какие там новости?
Горин замялся, и Белоненко подметил это.
– Что там?
– Да просто и не знаю, с чего начать, Иван Сидорович… В сущности, это самая настоящая сплетня, но, в какой бы отдел я ни зашел, все спрашивают об этом. В сельхозотделе я чуть не ругнулся, несмотря на то, что там две девицы сидят. Уж на что майор Кожухов правильный и честный мужик, и то посоветовал мне немедля поставить вас в известность…
– Ну что ж, выкладывайте, – улыбнулся Белоненко. – Не думаю, что мы с вами перепугаемся – какие бы там сплетни ни распускали.
И Горин рассказал о том, что произошло в сельхозотделе, куда он заглянул сразу же по приезде в Управление.
– Это верно, что ваш капитан собирается жениться? – спросила его особа неопределенного возраста и такой же неопределенной внешности.
– Да не жениться! – поправила ее другая – черноволосая, с влажными глазами. – Что же он, совсем того… – она повертела пухлыми пальцами у виска. – На таких не женятся, с ними сходятся и… расходятся.
– Ничего подобного, вот именно он решил жениться. У него есть в Москве какие-то старые связи, и эту его возлюбленную скоро освободят.
– Даже и разговоров о женитьбе не было! – возразила собеседница. – Он с ней живет, и все. Собственно, в этом нет ничего особенного, только не надо было ему так уж все открыто делать…
Казалось, они совершенно забыли о Горине, пока, наконец, он не оборвал их:
– Это откуда же у вас такие сведения о капитане Белоненко?
Девицы дружно ответили, что им здесь все известно и сведения самые точные. Потом та, которая постарше, поинтересовалась, сколько в колонии воспитателей, и с которым из них у одной из колонисток начинается роман?
– Она ему стихи посвящает. Алка, где эти стихи?
И тут же были извлечены из стола уже перепечатанные на машинке стихи, которые и были прочитаны Горину.
– У меня, Иван Сидорович, воображение не очень развито, и уж меньше всего я склонен причислять себя к покорителям девичьих сердец, но ведь стихи эти действительно посвящены мне. Ведь у нас только два воспитателя. Не могла же наша Светлова влюбиться в Галину Владимировну? И притом там даже стоит мое имя…
– Я что-то не совсем понимаю вас, Андрей Михайлович. При чем здесь Светлова?
– Да ведь это ее стихи ходят по рукам всех девиц Управления!
Стихи Гали Светловой? Но ведь она даже здесь никому их не показывает. Как они могли попасть в Управление?
– Как? Да их же туда Римма Аркадьевна препроводила! Мне об этом так прямо и сказали…
Белоненко нахмурился.
– Так, так… – и постучал пальцами по столу. – Ясно.
– А мне не ясно, – признался Горин. – Какой в этом смысл? Я понимаю, что Римма Аркадьевна здесь у нас, что называется, не ко двору пришлась. Ее не любят ребята, да и она к ним совсем не расположена. Но ведь все, что я услышал в Управлении, носит совсем другой характер и пахнет скандалом. Дело не в том, что затронули вас и меня, дело в том, что слухи эти порочат нашу колонию. Ведь здесь замешаны две девушки… Были бы они вольными, то уж бог с ними, этими сплетнями. Ну поговорили, почесали язык и перестали. А ведь обе они – заключенные. Представляете, какая картинка получается: начальник колонии живет с заключенной, а воспитатель совращает несовершеннолетнюю колонистку.
Горин встал и нервно прошелся по кабинету. Белоненко напряженно думал о чем-то, все больше и больше хмурясь.
– Хорошо, – сказал он, наконец. – Придется всем этим заняться серьезно. На этой неделе я никак не смогу выбраться в Управление, а что-нибудь дней… через недельку.
– Нет, Иван Сидорович, откладывать тут нечего. – Горин остановился перед Белоненко. – Откровенно говоря, мне кажется, что Римма Аркадьевна льет воду на чью-то мельницу, может быть, сама не подозревая этого. В Управлении мне тоже были заданы примерно такие же вопросы, хотя в несколько другой форме и, так сказать, неофициальными лицами. А потом я встретил майора Кожухова, мы с ним вместе обедали в столовой. Он просил меня передать вам, чтобы вы особо не благодушествовали и, как он выразился, дали бы по мозгам кому следует.
– Пожалуй, вы правы, – произнес Белоненко, – надо выбрать время и поехать туда раньше. Сначала к Богатыреву – не как к начальнику КВО, а как к секретарю парторганизации. Кто там? – недовольно отозвался он на торопливый стук в дверь. – Войдите!
В дверях стояла Римма Аркадьевна. Ее прическа, обычно подобранная волосок к волоску, была в беспорядке, жакет небрежно наброшен на плечи, а глаза заплаканы.
Белоненко поднялся.
– Что случилось, товарищ Голубец? – спросил он.
Римма Аркадьевна перевела дыхание, губы ее задергались, и она начала всхлипывать. Горин поспешно усадил ее на стул. Она вытащила платок, приложила к глазам, потом бросила на Белоненко враждебный взгляд и сказала:
– Ваши воспитанники, ваши милые питомцы сегодня меня обворовали. Да, обворовали.
– Что-о?! – в один голос воскликнули Белоненко и Горин.
– Разве вы не слышали, что я сказала? – со злостью произнесла она. – Меня обокрали.
Горин побледнел. Ему представилось, что у Риммы Аркадьевны украли все ее чемоданы, которые она давно уже уложила в ожидании отъезда.
– Что у вас украли? – едва произнес он.
– Часики! Золотые! На золотом браслете! Заграничные! – выкрикивала Римма Аркадьевна, поворачиваясь то к Белоненко, то к Горину. – Они у меня на столике лежали, возле зеркала! А теперь их нет! И я требую, чтобы немедленно в зоне был произведен обыск! Еще того недоставало, чтобы я пострадала в вашей колонии не только морально, но и материально!
– Вы, пожалуйста… говорите спокойнее, – сказал Белоненко. – И разрешите мне задать вам вопрос?
– Я знаю ваши вопросы! – почти взвизгнула она. – Искала ли я их? Да, искала. Даже под кроватью, даже перетрясла всю постель, во все углы заглядывала. Их нет! Я требую…
– Минуточку, – остановил ее Белоненко. – А кто из воспитанников был сегодня у вас в комнате? И хорошо ли вы помните, что они лежали у вас на столике?
– А где же они могли у меня лежать? В кухне, что ли?
– Вы хорошо помните, что надевали их сегодня утром? – спросил Горин. – Может быть, вы вчера потеряли их?
Римма Аркадьевна не удостоила его ответом.
– Кто у меня был? Я не вела регистрацию. Ко мне прибегают чуть ли не каждые полчаса. То одно надо, то другое… Дневальная ваша была – вы же сами за мной присылали. Потом приходили мальчишки… Ну, этот, что на конбазе с жеребенком возится, Черных, что ли.
– А он зачем? – спросил Белоненко.
– Веники принес.
– Какие веники?
– Ну, обыкновенные, пол подметать.
Белоненко и Горин переглянулись.
– Он вам часто эти веники приносил? – спросил Белоненко.
– Первый раз. А что? Неужели ему трудно наломать березы, если он мимо ходит?
– Ну ладно, это уже другой вопрос. Значит, Черных. А кто был с ним?
– Не знаю я его фамилию. Тот в комнату не заходил. Потом еще у меня была одна из закройного цеха. Не то Сидоркина, не то Сидорова, не помню хорошо… Эта приходила узнать, где лекала. После обеда за мной пришла Смирнова. Ее прислала Левицкая. Но разве дело в том, кто приходил и зачем? Вы знаете, какие у нас здесь замки на дверях. Эти замки не то что воспитанники, любой дурак откроет! Да незачем им и замки ломать: потянул окно – и пожалуйста, залезай в комнату. Тем более, что окно моей комнаты выходит в кустарник… Может быть, вы не верите, что часы пропали? – вдруг покосилась она на Белоненко.
– Думаю, что вам нет никакого смысла говорить неправду, – ответил он, а Горин поспешно отвел глаза. «Черт ее знает, – подумал он, – от тебя теперь чего угодно можно ожидать…».
Римма Аркадьевна встала.
– Какие меры вы думаете принять?
– Во всяком случае, мы сделаем все, чтобы вернуть вам часы, – ответил Белоненко.
– Ну хорошо, – подчеркнуто произнесла она. – Только не думаю, что вам это удастся. Не такие они дураки, чтобы признаться в воровстве. Боюсь, что мои часики давно уже переправлены отсюда…
Она вышла, даже не кивнув Горину и Белоненко. Впрочем, они этого и не заметили.
– Не может этого быть, – сказал Горин, резко отодвинув стул, на котором сидела Римма Аркадьевна. – Потеряла она их где-нибудь…
– Потеряла или не потеряла, а мы обязаны их найти и вернуть ей. А какие примем меры, давайте подумаем вместе. Надо будет пригласить Ивана Васильевича, Галю Левицкую и старшую надзирательницу Милютину. Попрошу вас, Андрей Михайлович, разыщите Левицкую, а за комендантом пошлем дневальную.
– Не представляю, – упавшим голосом произнес Горин, – как это мы сможем разыскать эти проклятые часы? Легче чемодан найти, чем такую дамскую игрушку, как эти ее заграничные часики. Вы видели, какие они? Чуть побольше вот этой пуговицы, – указал он на свой манжет. – Их куда угодно спрятать можно… если только в самом деле они украдены.
– Вот соберемся и поговорим…
Горин видел, что Белоненко не на шутку расстроен, чтобы не сказать больше, и торопливо вышел, сказав на ходу:
– А все-таки скорее всего она их где-нибудь потеряла!
«Большой сбор»… Этот сигнал Анатолий Рогов разучивал на старенькой трубе – единственном музыкальном инструменте будущего духового оркестра. Сигналы он разучивал в лесу, за оградой зоны, и, только когда достигал в этом некоторого совершенства, демонстрировал свое искусство в зоне. Колонисты привыкли к «подъему», к «отбою», к сигналу «на обед» и ко многим другим сигналам. Но «большой сбор» еще ни разу не звучал на территории колонии.
Когда Анатолия вызвали к начальнику в кабинет, где собрались все вольнонаемные, и приказали ему через пять минут играть «большой сбор», мальчик побледнел. Потом лицо его вспыхнуло.
– Иван Сидорович, – дрогнувшим голосом произнес он, – война кончилась?.. – И во взгляде его было такое, столько надежды, радости и тревоги, что Галина Владимировна закусила губу и отвернулась.
Капитан молчал. Анатолий несколько секунд смотрел на него, потом опустил глаза, и лицо его застыло. Комендант вздохнул:
– Такое дело… – и покрутил головой.
– Есть, гражданин начальник колонии, через пять минут играть «большой сбор». – Толя вышел из кабинета, не оглянувшись и не задав больше ни одного вопроса.
Сигнал прозвучал ровно в семь часов вечера. Ею протяжные и торжественные звуки далеким эхом замерли в лесу.
В цехах сразу остановились моторы, замер гул ножных машин, затих мерный рокот электроножей в закройном. Колонисты выбегали из помещений, бросали незаконченную работу, с тревогой спрашивали друг друга: «Что случилось?» – и бежали к клубу. На дорожках и молодой траве остались брошенными лопаты, носилки и не посаженные еще кусты и молодые деревца. Дежурные по кухне сбросили фартуки у недомытых котлов и невыскобленных столов. На крыльцо столовой выскочил повар Антон Иванович, заметался, не зная, как быть – относится сигнал только к колонистам или ко всем прочим?
Марина выбежала из своей комнаты в рабочем халате, забрызганном известью: они с Машей белили стены к празднику. Маша швырнула на пол кисть, и белые брызги веером разметались по половицам.
Нина, Клава и Лида помогали Гале Светловой исправлять брак, которого было много на новом пошиве – маскхалатах. У всех было хорошее настроение, потому что Нина получила письмо от бабушки из Минусинска. Бабушка звала к себе всех трех подружек.
Клава Смирнова подпарывала неправильно стаченную рукавицу маскхалата и нежным, тоненьким голоском пела:
Бирюзовое ты мое колечко,
Разгони ты грусть мою, тоску…
Я ушла и свои плечики
Унесла в ночную мглу.
Галя Светлова поморщилась и сказала, что слова песни бессмысленны, но мотив хороший и можно придумать на него другие слова. Клава вскочила, обняла Галю, закружила ее по цеху, напевая ту же песенку. Потом набросила на себя маскхалат и стала приплясывать.
Бирюзовое ты мое колечко…
Лида подбежала и вырвала у нее халат.
– Ты, психовая! – сердито крикнула она. – Не стыдно?! Совесть у тебя заморожена, что ли? Отдай!
Клава остановилась.
– Тебе что – жалко?
– Жалко. Не понимаешь, что ли? – Она свернула халат и положила его рядом с другими. – В этом халате человек, может, на смерть пойдет, а ты…
Озорные огоньки разом потухли в черных глазах Клавы. Она покраснела и быстро села на свое место.
– Не к добру ты сегодня развеселилась, – сказала Нина. – Вот посмотришь – к вечеру будешь реветь.
– А ты не каркай, – ответила Клава и стала вспарывать иголкой кривой шов.
– А на Первое мая будут давать сахарный песок… – мечтательно проговорила Лида. – По четыреста граммов.
– Когда кончится война, куплю целый мешок картошки и буду жарить, – проговорила Нина.
Галя рассмеялась:
– Сразу – целый мешок?
– У Нининой бабушки есть большое подполье. Туда, наверное, можно сорок мешков картошки насыпать. Мы и покупать ее не будем, а сами насадим и соберем в десять раз больше. Ты не знаешь, Галя, с одного ведра картошки сколько можно собрать?
– Тебе тогда, Векша, ведра картошки хватит на две недели. Это так сейчас кажется, что можно много всего съесть, а когда насытишься, то всего очень мало нужно, – вмешалась Клава.
Лида положила работу на колени и задумалась. Потом вздохнула:
– Даже не верится, что всего будет много… Нинка, а когда мы приедем к твоей бабушке, то заведем кроликов? Они такие ми-и-ленькие… Мордочки бархатные, ушки торчат…
– За ними убирать надо, – сказала Нина. – Но можно и кроликов. Бабушка позволит.
– А я, девочки, когда кончится война, сошью себе красивое-красивое платье. И куплю модельные туфли. – Клава снова оживилась. – Я никогда еще не носила красивых платьев.
– Дура ты, – беззлобно сказала Лида. – Тебе еще учиться надо, а ты о платьях. Капитан говорил, что поможет нам устроиться в ФЗО.
– А как же к бабушке? – обиделась Нина. – Сама сказала, что поедем вместе, а теперь – в ФЗО.
– А думаешь, там нельзя в ФЗО учиться? – возразила Лида. – Это ведь большой город – Минусинск?
– Я не знаю, – ответила Галя. – Там, кажется, кругом степи.
– «Бирюзовое ты мое колечко…» – вполголоса затянула Клава, но спохватилась: – Вот привязалось! Никак не могу отвязаться.
– А ты начни что-нибудь другое петь и сразу забудешь про это дурацкое колечко, – посоветовала Нина. – Я вот тоже недавно…
В это время прозвучал сигнал «большой сбор».
В клубе стало тихо. Белоненко подошел к краю сцены и оглядел зал. Колонисты сидели тесно, некоторые стояли в проходе между рядами, некоторые устроились на полу у самой сцены. Он видел лица своих воспитанников и, казалось, слышал их дыхание. Вон сидит Петя Грибов. Его глаза широко открыты, и в них – испуг. У стены направо капитан видит невысокую, коренастую фигуру Миши Черных. Густые брови юноши нахмурены, глаза пристально смотрят на капитана. Рядом с ним – Анатолий Рогов. Красивое лицо его с тонкими чертами бледно и напряженно. Анатолий нервничает. Это заметно по тому, как он покусывает губы и теребит пуговицу телогрейки.
А у дальней стены, почти у двери, стоит высокий, худощавый парень. Белоненко задержал на нем взгляд. Виктор Волков смотрит угрюмо, но глаз своих от капитана не отвел.
«Кто из них?» – в сотый раз спрашивает себя Белоненко.
Девочки сидят на скамейках слева от сцены. Это их постоянные места. Капитан переводит взгляд с одного лица на другое. «Кто из них?».
Никто не отводит взгляда, никто не опускает головы… «Нет, – решает капитан, – не может быть… Это какое-то недоразумение, какая-то ошибка. Часы не украдены. Может быть, она потеряла их, как говорит Горин?» Он думал о том, может ли он подвергнуть ребят испытанию? И не перечеркивает ли оно все то, что далось с таким трудом?
Сзади кто-то сдержанно кашлянул. Это Галя Левицкая. Она напоминает капитану, что время идет, что нельзя так долго молчать.
Белоненко поправил складки гимнастерки и негромко начал:
– Сегодня я отдал распоряжение играть «большой сбор». Этот сигнал прозвучал у нас впервые, и, конечно, все вы очень взволнованы и ждете от меня объяснений. Мне трудно говорить, почему я собрал вас по «большому сбору». Поэтому скажу сразу: у нас в колонии произошло событие, которое затрагивает честь всех нас – и воспитателей и воспитанников.
Белоненко сделал несколько шагов по сцене. Сто десять пар глаз провожали каждый его шаг.
– Сегодня, – ровным голосом продолжал Белоненко, – сегодня у заведующей производством Риммы Аркадьевны из ее комнаты похищены золотые дамские часы.
Слова его падали в напряженную тишину зала, как тяжелые капли расплавленного металла. И когда было произнесено последнее слово, зал взорвался гулом голосов, выкриками, шумом сдвинутых с места скамеек. Большинство повскакало с мест. Кто-то размахивал руками и кричал: «Тише, тише!» Кто-то крикнул: «Удавить гадов!».
Капитан поднял руку, успокаивая ребят:
– Спокойно! – но голос его потонул в гуле других голосов.
«Надо дать им накричаться», – решил он и отошел к столу, где сидели воспитатели и комендант. Еще несколько секунд стоял взволнованный шум, потом постепенно стал водворяться порядок. Колонисты еще перешептывались, переговаривались, но уже не кричали и не вскакивали со скамеек.
– Я обязан, – продолжал Белоненко, – сделать все, чтобы вернуть часы, и обращаюсь ко всем вам: сделайте и вы так, чтобы пропажа была обнаружена и возвращена хозяйке. Если среди воспитанников вот в этом зале сидит сейчас человек, который совершил этот проступок, пусть он подумает, какое оскорбление нанес он всем, и пусть решит, что он должен сделать, чтобы немедленно же, сегодня, в течение одного часа, исправить свою вину. Часы должны быть переданы мне, или Римме Аркадьевне, или любому из воспитателей в течение этого часа. Как это будет сделано – меня не касается. Сумел взять – сумей положить на место. Не скрою, что подозрение в первую очередь падает на тех, кто сегодня был на квартире у завпроизводством. Это…
– Я не брала! Я не брала часы!
Белоненко оборвал фразу на полуслове. Все головы повернулись на крик. Он раздался с левой стороны, где сидели девочки. Несколько секунд все сидели словно в оцепенении. Даже те, кто находились рядом с Клавой Смирновой, не шелохнулись, не сделали к ней ни одного движения. Потом вокруг нее образовалось пустое место: девочки отшатнулись, не сводя с нее испуганных и растерянных глаз. Клава была неузнаваема – так страшно изменилось ее лицо, так безумны были ее глаза и рот, замерший в крике.
Первой опомнилась Лида. Она схватила Клаву за плечи и стала трясти:
– Мышка, Мышка… Ты что?.. Мышка, это я, ну посмотри на меня.
Но Клава отталкивала ее, тянула руки к капитану и кричала:
– Я не брала часов! Не брала!
Белоненко успел сказать коменданту и Горину:
– Организуйте выход по баракам… Скоренько… – и, спрыгнув со сцены, быстро подошел к Смирновой.
Клава бросилась к нему, схватила за рукав гимнастерки и шептала: «Не брала… честное слово…».
– Успокойся, – Белоненко положил руку ей на голову. – Никто тебя и не подозревает. Ну, взгляни на меня. Подними голову… – Он говорил с ней, как с больным ребенком, да и все другие думали, что Клава внезапно заболела. Вспышки нервной истерии иногда бывали у воспитанников, и Белоненко, зная, что Клава была под бомбежкой, объяснил ее состояние нервным потрясением.
– Я не брала часы… – умоляюще глядя на него, повторила Клава. – Я была у нее, но часы… – и залилась слезами.
– Ну не брала, и очень хорошо, – успокаивал ее Белоненко. – Тот, кто их взял, если только они действительно были взяты, тот, наверное, уже понял и вернет их.
К ним проталкивались Марина и врач Софья Львовна.
– Она сегодня весь день дурила, смеялась… – взволнованно шептала капитану Нина Рыбакова. – Я еще ей сказала, что не к добру… – У Нины задергались губы и задрожал подбородок. – Ее надо в стационар отвести…
Софья Львовна осторожно привлекла Клаву к себе.
– Пойдем, девочка, – сказала она. – Я тебе сейчас дам капель, и ты немножко полежишь. У нас там тихо, никого нет… Пойдем.
– Да нет, нет же! – Клава вырвалась из рук Софьи Львовны. – Ничего у меня не болит, я не пойду в стационар. Я совсем здоровая… Мне нужно к начальнику, я ему скажу… Иван Сидорович, пусть они меня отпустят, я пойду к вам…
Белоненко переглянулся с врачом. Она кивнула головой.
– Хорошо, Смирнова, пойдем ко мне. А где твоя телогрейка?
Клава нетерпеливо ответила:
– Я ее в цехе оставила, когда «большой сбор» заиграли. Да ведь тепло… – Но Клава дрожала, и Галя Левицкая набросила ей на плечи свой платок.
– Мне потом зайти к вам? – шепотом спросила Галя Белоненко.
Клава повернулась к ней:
– Нет, вы сейчас пойдете, вместе с нами… – Она оглянулась, словно разыскивая кого-то, но в зале было уже пусто: комендант, Горин и Толя Рогов успели выпроводить воспитанников в бараки.
– Где Маша? – спросила Клава. – Ну, это все равно. Мариша, я тебе хочу что-то сказать… – Она взяла Марину за руку. – Ты пойди в наш барак… Там у меня под подушкой…
Марина выслушала ее, кивнула головой и быстро вышла. Клава глубоко вздохнула и посмотрела на Белоненко.
– Ну, вот и все… Пропало мое бирюзовое колечко… «У нее бред», – подумал Белоненко и спросил Софью Львовну:
– Вы думаете, ей обязательно надо пойти ко мне?
– Да, пусть идет… А через несколько минут я подойду туда.
В кабинете Белоненко Клава села на стул, сложила руки на коленях и молча, напряженно стала смотреть на капитана, который, желая дать ей успокоиться, перекладывал на столе папки. Он ждал, что она заговорит первая. Но она молчала, следя за его движениями.
– Наверное, сейчас придет, – произнесла, наконец, девочка.
– Кто?
– Марина…
– Конечно, она сейчас придет. Да вот, кажется, и она!
– Нашла? – Клава поднялась навстречу Марине и протянула руку. Марина передала ей что-то завернутое в розовый лоскутик. Клава осторожно развернула его, пристально посмотрела на ладонь, где лежал какой-то маленький предмет.
Как бы налюбовавшись, Клава разогнула пальцы. На розовом лоскутке шелка лежало дешевое тоненькое колечко с голубым камушком.
– Вот, – сказала она и положила колечко на стол. – Возьмите… А часы я не брала. Там никаких часов не было. Да если бы и были, мне они совсем не нужны.
– А колечко ты взяла там, в комнате? – спросила Галя.
Клава вздохнула:
– Там… Шкатулка у нее такая красивая, и в ней разные вещицы лежат. А колечко было сверху. Римма Аркадьевна пошла на кухню. А я посмотрела на него и взяла…
– Тебе оно понравилось? – опять спросила Левицкая.
Тень набежала на лицо Клавы. Она опустила глаза, и лицо ее болезненно искривилось.
– Потому что такое было у моей мамы, когда мы попали под бомбежку, – чуть слышно сказала она. – На руке оно у нее было… у мамы. А когда я очнулась да посмотрела, руки-то этой и не было… Оторвало руку… И узнать маму было нельзя… Вы теперь меня за него судить будете? – она кивнула на колечко. – Я ведь его украла. А часы нет, – покачала она головой, – часов не брала и не видела даже…
Клава говорила все медленнее, странно растягивая слова.
– Врача! – приказал Белоненко, успев подхватить девочку.
Через несколько минут Клаву унесли в стационар. Комендант сказал Белоненко:
– Нехорошее дело получается, товарищ начальник. Вы меня хоть убейте, а часов этих никто не воровал. Она говорит, к ней многие ходили и любой украсть мог. Так рассуждать, конечно, можно… Но те, кто у нее был, самые надежные ребята. Она сомнительных к себе и на порог не пустит. И приглашала она их к себе с целью.
– То есть? – не понял капитан.
– Для своих личных услуг использовала. Черных ей веники ломал, воды из ключа приносил. Это – раз. А что касается Смирновой, то вот, пожалуйста… – он вынул из кармана черный шелковый кисет, причудливо и со вкусом расшитый. – Это я, извините, у нее конфисковал. Как вещественное доказательство. Кто этот кисет вышивал? Клава Смирнова. Она этим у нас славится.








