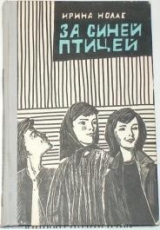
Текст книги "За синей птицей"
Автор книги: Ирина Нолле
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)
О записке, полученной Волковым, Белоненко узнал от повара Антона Ивановича, который пришел к начальнику уже после отбоя, когда в колонии все спали.
Поговорив сначала о делах столовой, о необходимости выписать со склада двадцать штук новых мисок, о том, что надо прислать печника проверить дымоходы, Антон Иванович перешел, как он заметил, «к самому главному». А самым главным для Антона Ивановича был колонист Петя Грибов.
– Вы, гражданин начальник, мальчонку мне сами доверили и обещали в будущем похлопотать об усыновлении, – напомнил он Белоненко. – Срок у меня оканчивается в сентябре, а у Пети в августе. Договорились мы с вами, гражданин начальник, что мальчонка подождет меня и жить будет этот месяц у гражданина коменданта. Так что все оговорено у нас заранее. И за этого парнишку я должен буду перед богом и людьми и лично вами, гражданин начальник, всю свою жизнь отвечать…
Белоненко не прерывал Антона Ивановича, зная его страсть к предисловиям. Но вот повар перешел к самой сути, и Белоненко насторожился.
Оказывается, что Виктор Волков с первого же дня «стал навязываться Пете в дружки» и даже перетащил свою постель на койку рядом с койкой Пети. Антон Иванович узнал об этом и приказал старосте Мише Черных «следить в оба» и водворить Волкова на другое место.
– Но сами понимаете, гражданин начальник, – продолжал Антон Иванович, – где уж тут уследить, хотя бы тому же Мише. А уж про меня и говорить нечего, кручусь у плиты от зари до зари. Только все же выведываю у Петюнки, как и где он свободное время проводит. Замечаю, что парнишка мой что-то смутный стал. Я к нему с подходом и установил, что стервец тот все к нему вяжется и вяжется. А какая, скажите на милость, может быть дружба у такого жердяя с пацанчиком? Что он ему, младшего братишку напоминает, что ли? Или, скажем, жалость его разобрала, помочь в чем моему хлопчику хочет?
Белоненко согласился, что дружба эта не может быть вызвана никакими благородными порывами со стороны Волкова, а Антон Иванович продолжал:
– А вот только что узнал я такое, что прямо к вам. Чтобы вы, как начальник, приняли свои меры. Про Румына такого слышали? Так вот, получил этот Волков от того Румына записочку, и читал он эту записочку моему пацану. Дело было так. Сегодня Волков по наряду дежурил в столовой, а я зашел в свою каморку. Перегородочка там – сами знаете – только для видимости, ширмочка, а не перегородочка. И слышу, как верзила этот шепчет кому-то про Румына да про записку. «Ты, говорит, пацанам ее прочитай. Мне веры здесь нет, а тебя ребята любят». Я к стенке приник и узнаю подробности. Будто пришло с фронта письмо от бывшего нашего заключенного Зелинского. Что он в нем пишет, не знаю, а только, видно, от того письма у Румына и сон отшибло.
– А с кем Волков разговаривал? – спросил капитан.
– Так с Петькой же! И записочку эту ему оставил. Хотел я тут же выйти и жару нагнать, да потом рассудил, что без вас в это дело мне соваться нет такого права. Теперь, я так думаю, самое время эту записку у Петьки из кармана забрать. Заснули там все, а записка или в брючонках, или в телогрейке.
Антон Иванович замолчал, ожидая, что скажет начальник. Белоненко задумался. Изъять записку из кармана Пети Грибова – это дело несложное. Но может быть, что записка не в кармане, а спрятана под подушку. Кроме того, если ее взять, то, пожалуй, Пете Грибову достанется от Волкова за потерю этого документика. И наконец, записка эта поможет выявить тех, в которых Волков думает найти своих единомышленников.
– Хорошо, Антон Иванович, – сказал наконец капитан. – Все это я приму к сведению. А вас попрошу ни одним словом не напоминать Пете Грибову о записке. Сделайте вид, что вам ничего не известно.
– Понятно, – кивнул головой повар. – Только, гражданин начальник, учтите такое положение, что в воровском мире сейчас броженье пошло. Знакомы мне такие истории. Если кто из крупных воров, по-блатному говоря, «ссучится», извиняюсь за выражение, то остальные на дыбки становятся, чтобы, значит, воровской авторитет поддержать. Принимают свои меры… Такое и здесь у нас началось: одни за старое хватаются, а другие в затылках чешут: чем я хуже того Николы Зелинского, что на фронте сражается, кровь свою за родину проливает?
Уже прощаясь с капитаном, Антон Иванович добавил, что если еще раз заметит Волкова рядом с Петькой, то «свернет этому бандиту голову». Белоненко попросил его не торопиться. На том и порешили.
После ухода Антона Ивановича Белоненко еще раз прочитал все, что было записано в «летопись ДТК „Подсолнечной“» о Викторе Волкове. Теперь ему стало многое понятно – и «дружба» с Грибовым, и частые беседы с Анкой Воропаевой. Белоненко хорошо знал, что если «выступил» Румын, то не замедлит сказать свое слово и его ближайшая приятельница Любка Беленькая. Не сомневался капитан и в том, что письмо с фронта произведет соответствующее впечатление на уголовников, содержащихся в лагере. Начнется неизбежный «раскол». Прав Антон Иванович: одни начнут колебаться, а другие – принимать контрмеры. И, конечно, не оставят без внимания и колонию, стараясь и сюда занести заразу: разложить ряды воспитанников, спровоцировать их на какие-нибудь выходки, направленные против администрации и режима, а может быть, склонить и на прямой бунт. Ленчик Румын и Любка Беленькая могут здесь рассчитывать только на вновь прибывших. А таких было двое – Волков и Воропаева.
«Вот когда можно доказать Гале Левицкой необходимость систематического наблюдения за воспитанниками», – подумал Белоненко, пряча «летопись» в несгораемый шкаф.
Было уже около часа ночи, но Белоненко не мог уйти домой: днем была восстановлена телефонная связь с Управлением, – значит, должна быть телефонограмма. Телефонистку Белоненко отпустил – его соединят через коммутатор Управления.
Хотелось спать: сегодня пришлось подняться очень рано. Тетя Тина готовилась к побелке и разбудила его чуть свет. «Часам к семи вечера управлюсь, и ты, пожалуйста, приходи домой пораньше. Измотался совсем», – сказала она. О том, что «измотался», тетя Тина говорила своему названому сыну вот уже добрый десяток лет. И о том, что «работа работой, а о себе подумать тоже надо». И о многом другом, имеющем отношение к личной жизни Ивана Сидоровича. Говорила скорее для успокоения себя, чем в надежде, что слова ее окажут хоть какое-либо воздействие на «Иванчика». Вспомнив это смешное производное от своего имени, Белоненко улыбнулся. Хорош Иванчик! Через два с половиной года стукнет тридцать семь. Конечно, для тети Тины он и в пятьдесят будет Иванчиком. Этим именем она назвала его впервые, когда привела его в очередной детский распределитель, где Алевтина Сергеевна, тогда еще двадцативосьмилетняя женщина, работала кастеляншей – заведовала скудным запасом белья детприемника и большим количеством буденовок и поношенных гимнастерок, на которых еще сохранились следы нашивок – «разговоров», как назывались тогда знаки различия комсостава Красной Армии. Ванька Шкет поглядел на кастеляншу и после некоторого колебания спросил, указывая на ее спину:
– Это у тебя давно? Небось все с книжками сидела, вот и нажила себе горб.
Алевтина Сергеевна не обиделась, не сверкнула сердитыми глазами на мальчишку, бесцеремонно задавшего ей такой больной вопрос.
– Нет, – ответила она, – это не от книжек. Это меня еще маленькой бабка из люльки уронила.
– Убить надо было такую бабку, – нахмурился Ванька Шкет, – не умеешь с ребятишками водиться – не берись.
С этого разговора началось их знакомство, перешедшее потом в дружбу. И Алевтина Сергеевна сразу назвала Ваньку Иванчиком и в течение десяти дней, пока «Иванчик» находился в детприемнике, заметно выделяла его из числа всех прочих беспризорников. А на одиннадцатый день Иванчик сбежал – в гимнастерке, доходившей ему до колен, и буденовке, налезавшей на нос. На одиннадцатый сбежал, а на четырнадцатый был вновь задержан и направлен в тот же детприемник. Может быть, его бы и не задержали, но Ванька Шкет однажды почувствовал странную тяжесть в голове, а во всем теле неприятный озноб. Он не знал, что такое болезни вообще, но о тифе понаслышался достаточно. «Помру, – решил он, – от тифа никто не поправляется». И решил «помирать» в Александровском сквере, что тянется вдоль стен Кремля. Тут его и обнаружили.
В детприемнике Алевтина Сергеевна встретила его сурово.
– Что тебе – худо здесь, что ли? – начала она выговаривать ему, хмуря жидкие, светлые брови, но, взглянув на лицо Иванчика внимательнее, ахнула, схватила его за руки и, воровато оглядываясь по сторонам – нет ли посторонних, зашептала что-то о болезни, о температуре, о том, что она его сейчас же заберет к себе, потому что в больнице он «не вытянет». И забрала. Никакого тифа у Иванчика не было, но простудился он основательно. А когда поправился, то сказал: «Останусь с тобой. Возьми меня в дети. Иззяб я весь по этим котлам».
Иван Сидорович походил по кабинету, чтобы прогнать дремоту, послушал у окна, как бьется в стекло снег. Подумал, как всегда думают люди, когда они находятся в непогоду в теплой и тихой комнате, о тех, кто, может быть, сейчас бредет в буране, теряя последние силы.
Потом он сел в угол жесткого дивана и закрыл глаза. Видимо, он все-таки немного вздремнул, потому что, когда раздался наконец ожидаемый звонок, стрелка стенных часов показывала без десяти два.
– …ите… ую… аму… – расслышал Белоненко далекий голос.
«Примите срочную телефонограмму», – расшифровал он обрывки слов и придвинул бумагу ближе к свету.
В трубке затрещало, потом наступила мертвая тишина. «Неужели опять обрыв?» – подумал Белоненко, но в этот момент отчетливо и бесстрастно зазвучал женский голос:
– Начальнику детской трудовой колонии капитану Белоненко…
Карандаш быстро скользил по бумаге, оставляя причудливые значки, – капитан стенографировал.
Культурно-воспитательный отдел Управления Энских лагерей предлагал всем начальникам подразделений ознакомить заключенных с содержанием письма Николая Зелинского, которое было датировано 28 декабря 1942 года.
«…У меня нет сына, которому я мог бы написать это свое, может быть последнее, письмо. У меня нет жены, которая подумала бы обо мне в эти минуты. У меня нет матери: она умерла от горя и вечного страха за своего сына-вора. Ей не было еще и пятидесяти лет… Это я свел ее в могилу и отравил ее жизнь.
Когда ворье собирается вместе, особенно в неволе – в камерах тюрьмы, в этапном вагоне, в бараках лагерей, – они поют жалостливые песни о „родной матери“, о „любимой“, о тоске по родному дому. Все это ложь и обман. Воры никого и никогда не любят, никого и никогда не жалеют. Они не думают о своих матерях, у них не может быть любимых. Они лгут всю жизнь, всю жизнь выдумывают себе то, чего у них никогда не было и быть не может. И возможно, только один раз за свою позорную и никому не нужную жизнь воры вспоминают мать – перед смертью.
У меня нет сына, жены, матери… Нет никого. Потому я пишу свое письмо Вам, гражданин начальник, – для того чтобы Вы его перепечатали и разослали по всем лагпунктам нашего лагеря. Меня хорошо знают там, а когда прочитают мое письмо, на мою голову посыплется немало проклятий: раскололся, продался и все прочее. Может быть, найдутся и такие, что пожалеют, почему не завалили меня раньше. Не очень-то по душе будет мое письмо бывшим моим дружкам и приятелям. Но даже если я останусь жив и придется мне когда-нибудь с ними встретиться, я снова повторю те же слова: подумай о том, какими глазами встретишь ты свою смерть?
…Я пишу при свете „летучей мыши“. Над блиндажом сейчас не рвутся снаряды – маленькое затишье. Но скоро начнется, и все мы знаем это. Все пишут письма домой. Старшина дал мне бумаги и сказал: „Почему не пишешь? Пошли родным солдатский привет… Бой будет не на жизнь, а на смерть“. Сначала я отказался – некому мне писать, а потом подумал и решил написать Вам, гражданин начальник.
…А писать приходится урывками. Вчера было трудно, но мы устояли. Извините, гражданин начальник, что письмо это будет как будто составлено из разных мыслей: хочется сказать многое, да ведь не знаю – успею ли? Мне вот сейчас вспомнилась книга, называется она „Агасфер“. И, кажется, что мы, воры, вот так же, как Вечный Жид, всегда идем и никогда не сможем прийти никуда. Воровской закон, как кнут, стегает нас, не давая оглянуться…».
Белоненко писал. Широкие стенографические значки покрыли бумагу, и за ними была исповедь человека, впервые в жизни оглянувшегося назад.
«…У меня были десятки тысяч денег, я имел все, о чем мечтает вор. Кто не слышал о Дикаре? Кто не завидовал ему? Но никто из жиганов не знал, что, где бы Дикарь ни был, что бы он ни видел и чем бы ни обладал, он всегда считал себя обворованным. Я завидовал честным людям и ненавидел их за то, что они имели право смеяться, любить, спокойно спать, без оглядки ходить по улицам, не шарахаться при виде милицейской шинели, не подозревать в каждом случайном спутнике оперативного работника, выслеживающего тебя. Я считал, что не я обворовываю их, а они меня. И в своем озлоблении я придумывал, как бы отомстить им, как бы унизить и запугать их. А они, наверное, даже и не знали о моей ненависти, не думали о ней, как не думает человек о ненависти к нему хищника, идущего на разбой.
Нас сравнивают с волками, с хищниками. Но мы хуже. Хищный зверь выслеживает свою жертву потому, что ему надо жрать, поддерживать свою жизнь и жизнь своих детенышей. А мы, воры? Что заставляет нас убивать, грабить, хватать за горло, колоть финкой? Миллионы людей живут без этого. Значит, и мы можем так жить. Но мы не хотим. Так что же сравнивать нас с волками? Мы – хуже…».
– Иван Сидорович, – сказала телефонистка, – вы, наверное, устали? Письмо длинное, сегодня не успеем. Через пять минут кончается время, остальное передам завтра. Верно, какое страшное письмо?
– Диктуйте, Аня… Нет, я не очень устал.
«…извините, гражданин начальник, что много пишу. Отнимаю у вас время, но, может быть, пишу последний раз, потому что вряд ли останусь живым. Да и не для чего мне больше жить…».
Наверное, автор писал урывками, потому что не было прямой связи в мыслях и в стиле его письма. Капитан представлял, как писались эти строки, могущие каждую минуту оборваться навсегда.
«…Вы знаете, воры, нашу воровскую пословицу: „Носим ношеное, любим брошенных“. Разве это не так, воры? – обращался Никола Дикарь уже не к первоначальному адресату, а к своим прежним дружкам. – Вдумайтесь в эти слова и поймите, какая в них горькая правда. Из тысячи женщин не найдется одной, которая подарит свой поцелуй вору. А те твари, что целовали меня за смятые „бумаги“ („Бумага“ – сторублевка), разве смели эти позорные…»
– Пропуск, цензура… – произнесла телефонистка.
«…разве смели они называться женщинами? Если же вор когда-нибудь и встретит настоящую женщину, то должен будет скрывать от нее, что он – вор. Правду я говорю вам, воры? Можете ли вы сказать, что это – не так?».
– Уже заканчиваю, – сказала телефонистка и добавила: – Я его почти наизусть знаю, и каждый раз, когда передаю, становится страшно… Мне кажется, что его уже нет в живых…
«…Ничто – ни деньги, ни притонное веселье не могут озарить мрачную жизнь вора. Как затравленные волки, мы рыщем по трущобам, заранее зная, что нас ждет гибель. У нас нет завтрашнего дня, нет у нас и сегодня, нет ничего, кроме вечного страха преследования. И запомните, воры, мое последнее предсмертное слово: воровским кострам, что некогда горели так ярко, суждено погаснуть. И останется на выжженной траве черное пятно, головешки да холодный пепел… А потом и этого не будет…».
Белоненко не сразу понял, что в дверь постучали. И только когда стук повторился, не отрываясь от письма, сказал: «Войдите!» Тут же телефонистка сказала: «Конец» – и дала отбой. Белоненко поднял голову. В дверях стояла Марина Воронова. Платок она держала в руках, а на телогрейке еще лежал снег, который она не весь стряхнула в коридоре.
– Извините меня, гражданин начальник, – сказала она, не поднимая опущенных глаз. – Я должна непременно поговорить с вами.
– Что случилось? – встревоженно спросил Белоненко и пошел к ней навстречу. – Как вы добрались от барака в такую метель?
– Это ерунда – метель… Я должна была добраться…
– Ну, тогда садитесь. Да снимите телогрейку, здесь тепло. Я вас слушаю. – Он понимал, что только что-нибудь очень важное могло заставить Воронову прийти к нему в кабинет в три часа ночи.
– Нет, – сказала она неестественно напряженным голосом. – Я вам скажу и сейчас же уйду. Пожалуйста, не уговаривайте меня… Если вы не исполните моей просьбы, я сделаю все, чтобы добиться своего.
– Подождите… – Белоненко нахмурил брови. – У вас очень неважный вид. Садитесь. – Он почти насильно усадил ее на стул. – Какая просьба и почему вы думаете, что я отклоню ее?
Она сидела на стуле, уронив руки на колени, и лицо ее сохраняло такую же напряженность, как и голос.
– Отклоните. Но это – все равно… – Она подняла на него глаза. – Гражданин начальник, я вас прошу отправить меня из колонии на любой лагпункт. Я больше не могу здесь оставаться ни одного дня…
Глава вторая«Орел или решка!»
– Орел! – сказал Виктор и проворно накрыл монету крепкой ладонью.
Петя съежился, спрятал голову в воротник бушлата.
– Врешь ты, – жалобно пробормотал он. – Решка была… Я видел…
– Я тебе покажу – решка! – сквозь зубы бросил Виктор. – Взялся играть – умей рассчитываться. Становись на колени. Ну! Раз… два… три…
От каждого щелчка стриженая голова вздрагивала, на глазах выступали слезы, кривились губы.
– Четыре… пять…
– Да что все по одному месту…
– Сиди, гад! Шесть… семь…
– Ви-ить-ка!..
– Восемь, девять, десять! В расчете. Что сопли распустил? Игра ведь. – Витька сплюнул сквозь зубы и сел на доски, сложенные в углу. – Всех позвал?
– Ну, позвал…
– И Кукла придет?
– Сказал – «приду».
– Смотри… – Виктор прищурил желтоватые, в рыжих ресницах глаза, – не явится кто – с тебя спрошу.
Плечи опять вздрогнули, и снова из глаз покатились скупые мальчишечьи слезы.
– Чего ты пристал ко мне? Чего тебе от меня надо? – забормотал Петя.
Угреватый, рыжий парень, с желтыми, как у кошки, глазами, скривил рот, выругался. Злая, холодная скука одолевала его. Ему уже даже надоело истязать этого «слизняка». А сначала нравилось. Он, которого никто и никогда не считал равным себе, которому в камерах и на этапах доставалось место под нарами или у параши, – этот озлобленный, завистливый и жадный переросток вдруг получил возможность отыграться за все испытанные им унижения. Теперь уже ему не кричали: «Эй, шестерка, подай сапоги!» Теперь уже он сам мог бросать приказания Пете, и тот торопливо исполнял их. Это было ново, заманчиво и делало Витьку выше в собственных глазах. Но за последнее время сладостное чувство власти не так уж часто посещало Витьку. Во-первых, этот Петька стал заметно избегать его общества. Во-вторых, что-то никак не удавалось Виктору «заиметь авторитет» у остальных ребят.
Витька ехал в колонию в уверенности, что авторитет он завоюет без особого труда. Пацаны будут трепетать перед ним, особенно если он порасскажет о своих «громких делах» и знакомствах с крупными ворами. Наплевать-то, что «громких дел» у Витьки сроду не было. Так, мелкие кражи, хулиганство и неуемное желание хоть раз в жизни раздобыть кучу денег, чтобы заткнуть ненасытную пасть ненавистного ему дядьки Прокопия – вечно пьяного, опухшего матерщинника, с тяжелой и беспощадной рукой. Дядька Прокопий говорил, что он – брат Витькиной матери и что Витька «по гроб жизни» должен быть благодарен, что он «приютил сиротину». Только все врет Прокопий. У Витькиной матери такого брата-забулдыги быть не могло. Мать работала проводником на железной дороге, и Витька до сих пор помнит, как, возвращаясь из поездки, она привозила сыну пахучие апельсины и черный, приторно-сладкий виноград. Тогда они жили в комнате вдвоем с матерью и Витька ходил во второй класс. У него был темно-желтый портфель и серые брюки. А потом появился дядька Прокопий. Мать сказала: «Это твой дядя. Он будет жить с нами». Для того чтобы не отлучаться на десять дней, мать перешла работать на вокзал, и сначала это было очень хорошо. Витька уже не оставался под присмотром соседки, а каждый день, приходя из школы, видел мать и дядьку Прокопия. Они были веселые, на столе стояла кастрюля с горячими щами, а на сковородке шипели котлеты. Дядя Прокопий наливал стаканчик водки и выпивал, закусив огурчиком. Предлагал и Витьке, но мать не разрешала.
Так они жили с полгода. А потом мать и Прокопий стали ссориться, он начал выпивать не только дома, но и где-то на стороне. Иногда и ночевать домой не приходил. Мать плакала, а когда он появлялся, бросалась на него с криками и угрозами, что выгонит из дому. Прокопий хитро и пьяно улыбался и хлопал себя по карману куртки: «Прописочка-то оформлена…» – и подмигивал Витьке.
А еще через месяц случилось несчастье: мать пошла разыскивать Прокопия, «загулявшего» вот уже третий день, и как уж это там получилось – не то драка произошла, не то еще что – Витька так толком и не узнал, но только отвезли мать на скорой помощи в больницу Склифосовского, откуда она уже больше домой не вернулась.
Соседка поплакала, потужила, но сказала Витьке, что он «узаконенный» Прокопием и худо ли хорошо ли, а придется ему слушаться «отца». Признавать Прокопия отцом Витька не желал, слушаться его не собирался. Впрочем, «слушаться» было некого – Прокопий не являлся домой по неделям. Витьку подкармливала соседка. Ну а потом… Эх, да чего там вспоминать! Теперь уж Витька знает: не он первый, не он последний пошел по такой дорожке. Верно говорила добрая соседка Клавдия Васильевна: мать и себя погубила, и Витьке жизнь покалечила. Прокопий, приходя домой, колотил Витьку и требовал, чтобы тот приносил ему денег. Ну и пошло… Воровать Витька боялся, но другого «дохода» найти не мог. Школу давно бросил, научился курить, да и стопочку иногда подносили ему взрослые ребята, с которыми он «ходил». Они тогда не обижали Витьку, эти его новые дружки. Давали денег и по-своему жалели. Витька любил музыку и копил деньги на баян. Собралось уже порядочно, но однажды, придя домой, он обнаружил, что заветное местечко, где хранились аккуратно расправленные двадцатипятирублевки, опустело. Витька понял: это работа Прокопия. А через час и сам он явился. Разговор дядьки с племянником был короткий: Витька вылетел за дверь, умывшись слезами и кровью. Больше он к дядьке не возвращался, а еще через месяц сидел на скамье подсудимых. Откуда узнала соседка Клавдия Васильевна о том, что Витька задержан и над ним будет суд, неизвестно, только на суд она явилась в сопровождении еще трех соседок по двору. Витька помнит, как она говорила что-то о несправедливости судей, о том, что судить надо не Витьку, а Прокопия, о том, что «дойдет до самого Калинина, а правды добьется». Но, так или иначе, Витьке дали год. О Клавдии Васильевне он больше не слышал, но воспоминание хранил как о втором после матери человеке, который жалел его и хотел помочь.
К восемнадцати годам Витька озлобился, изверился в людях и стал настоящим волчонком – с оскаленными зубами, всегда голодный, жадный и злой. Кто-то из «дружков» умело подделал в его «виде на жительство» год рождения, и когда, уже во время войны, Витька вновь «погорел», то был направлен в детскую исправительную колонию, где он и собирался «дать жизни» пацанам и начальникам.
В первый же вечер он собрал вокруг себя слушателей. Присочиняя и сваливая в кучу все, что приходилось ему слышать в камерах, он целые полчаса рассказывал пацанам о своих похождениях. Они слушали, не смея прервать «Рыжего», хрипловатый его голос, словно завороженные блеском прищуренных глаз.
Вот уже он начал рассказывать самое «знаменитое» место из сумбурного своего повествования – о том, как он схватил за горло старушенцию, а партнер его связывал в узел барахло и что в это самое время стоящий на стреме пацан дал тревожный свисток, – как вдруг за спиной Витьки раздался негромкий голос:
– Ох, и врать здоров! Ты это где нахватался? Какой громовой, однако. Почем за басню берешь?
Витька сбился на полслове. Мальчишки смешались. Некоторые поднялись с койки и отошли в сторону. Остальные нерешительно переглянулись.
– Сибиряк… – произнес сосед Витьки – худенький мальчик, которого звали Петя Грибов.
Виктор пришел в себя после некоторого замешательства и лениво встал с кровати. Он немного согнул спину, засунул руки в карманы и прищурил глаза. Это была классическая поза «блатного», через минуту готового броситься на противника.
– Ктэ тэкой? – сквозь зубы проговорил Виктор и выставил вперед левое плечо.
– Тебе доложить? – рассмеялся паренек. – Ну ладно, давай доложу: Мишка Черных, колонист, токарь и лесоруб. Хватит с тебя?
Виктор молчал, оценивающим взглядом окидывая широкие плечи Мишки, крепкие его руки и коренастую фигуру. Оценил, подумал и криво улыбнулся:
– На воле что делал?
Мишка неторопливо ответил:
– Пойди у начальника спроси. Может, он тебе мое личное дело покажет… – И сразу переменил тон: – Ну, ты вот что, приятель. Пацанам мозги не крути. Понятно?
– А тебе что? – огрызнулся Виктор. – Больше других надо? Топай себе по-хорошему… – И вынул руки из карманов.
Но ни многозначительный тон Виктора, ни красноречивый его жест не произвели на Мишу Черных никакого впечатления. С обидным спокойствием он слегка повел широкими плечами, и его чуть скуластое, с косым разрезом глаз лицо не выразило ничего, кроме равнодушия ко всем «приемам» Виктора.
– Ладно, – небрежно сказал он, – на первый раз тебе эти побасенки сошли. Ну а чтоб дальше прекратил это, – и повернулся к пацанам: – Эх вы, а еще колонисты! Развесили уши. Он же вам, как пес худой, брешет, Сам не знает, что треплет. «Сонники… Ничтяк…» – передразнил он Виктора. – Ты, приятель, запомни на всякий случай, что у нас за такие словечки по головке не гладят. Если не умеешь по-человечески разговаривать, то лучше помалкивай, пока не научишься. – Он отвернулся от Виктора. – Давайте к поверке готовьтесь.
Все облегченно вздохнули, задвигались и пошли к широкому проходу между стоящих в два ряда коек.
Виктор проводил Мишку недобрым взглядом, хотел было сплюнуть, но раздумал и демонстративно сел на свою кровать, привалясь спиной к подушке. А ребята уже построились в ряд, забыв о рыжем парне.
«Ишь, дрессированные… – с нарастающей злобой следя за ними, думал Виктор. – Перековались, деточки? Ну и ладно, посмотрим, чья возьмет».
Он вспомнил последний вечер на пересыльном лагпункте. К нему подошел высокий парень со шрамом на левой щеке и, кивнув головой на дверь, сказал: «Выйдем…».
На дворе он спросил: «Тебя в колонию наладили? Так вот, дельце небольшое будет…».
Говорили они недолго, но после этого разговора Виктор почувствовал себя выше ростом и шире в плечах. Прощаясь, парень сунул Виктору засаленный кисет с самосадом и добавил: «Только учти: там тебя капитан Белоненко быстро расшифрует, какой ты есть „малолетка“. Так что разворачивайся быстрее. С пацанами особенно не цацкайся. Кого припугни, кого на табачок возьми. Они там устроили детский садик… Перековщики… А с капитаном держи ухо востро. Помни – тебе ворье доверие оказывает, понял? Вроде уполномоченный наш. Да слышь, как там тебя? Витек, что ли? Без нашего сигнала – ни гугу. А связь держать будем… Ну, валяй…».
…Виктор прищурил глаза на неяркую лампочку, висевшую посредине барака, и представил себе, как встретят его воры, когда он выполнит поручение парня со шрамом – поднимет пацанов против начальства. Это будет примерно так: воры дадут «сигнал», по всему лагерю начнется «заварушка»: начальники, ясное дело, поймут, что к чему, и тогда… Что будет тогда, Виктор себе представлял довольно смутно. Да и парень со шрамом ничего толком ему не сказал. Неясно было Виктору, для чего нужна «заварушка» и чего будут добиваться воры. Но спросить парня со шрамом он не решался: еще подумает, что Виктор не разбирается в воровских делах, и начнет подсмеиваться. Поэтому он только поддакивал, говорил: «Ясно, понятно» – и сплевывал сквозь зубы. И теперь в его воображении вставала соблазнительная, но тоже несколько туманная картина: как встретят его воры после «заварушки». Он войдет в барак и скажет: «Здорово, воры! Есть что пожрать?» – и сядет на ближайшие нары. А все вокруг будут ждать, когда он начнет рассказывать, как прошел «шумок» в колонии. «Черта лысого я им сразу так все и выложу, – уносился в своих мечтах Виктор, – я сначала скажу, чтоб жрать тащили, а потом завалюсь спать. А потом спрошу, где этот Ленчик Румын? Только с ним, мол, и буду толковать. А когда придет Румын, то я…».
– Встать!
Виктор мгновенно вскочил с койки: сказывалась все-таки школа, полученная в тюремных камерах.
Перед ним стоял среднего роста человек в короткой синей венгерке, опушенной светлым каракулем, и в такой же шапке. Смуглое, гладко выбритое лицо, серые с зеленоватым оттенком глаза из-под прямых, почти сросшихся бровей. Глаза смотрели холодно, спокойно и требовательно.
«Капитан, – догадался Виктор, – ишь как смотрит, как гипнотизер в цирке… Ну, да ничто, пусть еще голос подаст, а мы посмотрим, что к чему…».
Но капитан молчал, только брови его чуть дрогнули и словно потемнели глаза. В помещении было тихо, все колонисты смотрели на капитана и на Виктора. И вдруг Виктору показалось, что у него в одежде что-то не в порядке – пуговица не застегнута или еще что. Он хотел осмотреть себя, но пристальный взгляд начальника колонии как бы связал все его движения.
– Выйти на середину барака! – приказал капитан.
Шаркая ногами и по привычке горбясь, Виктор прошел между коек и в нерешительности остановился перед развернутым строем воспитанников.
– Встать, как полагается!
Белоненко совсем не повышал голоса, но Волков невольно съежился, словно его ударили хлыстом.
– Дежурный по общежитию – два шага вперед!
С правого фланга вышел уже знакомый Волкову Миша Черных.
– Почему на поверке нарушается дисциплина? – спросил Белоненко.
– Колонист Волков прибыл сегодня днем, гражданин начальник колонии. Я не успел ему сказать… – Черных смущенно замолчал.
– Объяснение считаю неосновательным. После отбоя зайдешь ко мне. А сейчас покажи новому воспитаннику колонии, как нужно стоять, когда с ним говорит начальник лагерного подразделения.
Но Черных и так стоял, словно на параде. Белоненко повернулся к Волкову. Тот дернулся, разогнул спину.
Капитан осмотрел его с головы до ног.
– Завтра после подъема пойдешь в вещкаптерку, получишь все казенное. А это сдашь… И вот это – тоже… – он слегка коснулся грязного шелкового кашне на шее Виктора.








