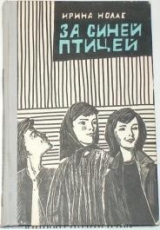
Текст книги "За синей птицей"
Автор книги: Ирина Нолле
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 26 страниц)
…На окне но было решетки. «Кукушка» шла со скоростью двадцать километров в час, и Марина не отрываясь смотрела на кустарник, близко подступающий к полотну узкоколейной дороги, провожала взглядом каждое дерево, на котором еще сохранился яркий осенний наряд. Ее радовало и удивляло все: клочья дыма на верхушках деревьев, рубиновые кисти ягод на ветках какого-то неизвестного ей куста, бурая трава вдоль полотна, запах влажного листа, грибов и горьковатый дым, напоминающий о дальних и неизведанных дорогах.
В вагоне для бесконвойных пассажиров было мало. В углу сидели две женщины в осенних пальто, с платками на головах, с сумками и чемоданами. Одна из них – помоложе – шептала что-то соседке, горестно качая головой, другая перебирала какие-то бумаги, близко поднеся к глазам, видимо никак не понимая, что же там написано. Марина догадалась: едут после свидания.
Рядом с ней сидели двое мужчин. Один – пожилой, в замасленной телогрейке, другой – молодой парень в комбинезоне и со связкой фарфоровых изоляторов на толстой проволоке.
Марина прислушивалась к торопливому стуку колес, осматривала вагон, который нравился ей своей печальной старомодностью, изредка поглядывала на своих соседей.
Два месяца тому назад она не могла бы поверить, что будет ехать в вагоне для бесконвойных с пропуском в кармане. Этот пропуск она время от времени нащупывала, как бы желая убедиться, что он здесь, с нею, что это не сон, а самая настоящая явь. В пропуске лежит командировочное удостоверение, в котором сказано, что
«з/к Воронова Марина Николаевна направляется в служебную командировку сроком на трое суток в детскую колонию».
В скобках помечено:
«бывш. 6 л/п.».
Там ждет ее Галина Владимировна. Они должны подготовить все к приезду колонистов. Сначала приедут мальчики с воспитателем – офицером, назначенным на эту работу после госпиталя, а потом и девушки.
Пропуск вручил Марине капитан Белоненко. У нее дрожали руки, и она кусала губы от волнения. Он, конечно, все это видел и потому поскорее выпроводил ее из кабинета, сказав только, что для бригады и, в частности, для Маши Добрыниной получение пропуска – тайна. «В командировку вы едете под конвоем, так им и скажите».
С пропуском в руках она подходила к вахте. Непередаваемое чувство ожидания прекрасного, которое откроется перед ней сразу же за воротами, охватило ее. Там будет необыкновенным все: и деревья, и кустарник, и трава, и сам воздух. Необыкновенным и прекрасным, потому что все это находится там, за пределами высокой ограды лагеря. Потому что все это еще вчера было недоступным. А теперь Марина может пойти все прямо, прямо, вон до той высокой осины – золотой в свете вечернего солнца. Можно наклониться и поднять желтый опавший лист, надкусить его тонкий стерженек и ощутить во рту горьковатый вкус. Можно сесть на пень, почерневший от времени, и прислушаться к голосам леса. Перелетных птиц уже нет, но, наверное, где-нибудь в кустарнике можно услышать щебетание какой-нибудь пичуги, мужественно переносящей зимнюю стужу родных мест. А самое главное, что ожидает Марину там, – это тишина. Она любила людей, любила шум и говор московских улиц, жаркие споры в студенческих общежитиях, она выросла в детском доме, ранняя юность ее прошла среди веселой, говорливой, неуемной в порывах и неутомимой в радостях комсомолии. Но в лагере она впервые почувствовала тяжесть вынужденного общения с людьми. Здесь никогда нельзя было остаться одной. Днем и ночью рядом были люди, от которых хотелось отдохнуть хотя бы на час.
Раньше Марина не ценила прелести тишины и не ощущала необходимости в одиночестве. Не ценила она и свободы.
Как тысячи других людей, она выходила утром из квартиры, садилась в трамвай, в автобус, в метро, торопилась на лекции, на стадион, в театр. Она не обращала внимания на примелькавшиеся рекламы, на блестящие витрины, газетные киоски, светофоры. Сколько раз она проходила мимо храма Василия Блаженного и говорила себе: «Надо бы сходить в музей», но каждый раз благое намерение оставалось невыполненным. Мешали другие дела, какие-то встречи, обещания куда-то приехать, что-то сделать.
Она не понимала, как безмерно, как безгранично она была богата, как много было для нее доступно – стоило только захотеть.
Она не ценила свободы, как не ценят ее многие.
Ведь есть же люди, которые утром не замечают ни блеска солнца, ни прозрачной тени дерева на асфальте, ни веселого танца первых снежинок. И совсем не потому, что они спешат на работу, что им «некогда», что у них «голова не тем занята». Они не видят этого даже тогда, когда у них свободное время, когда им «скучно» и нечего делать. А есть и другие… Эти не видят вокруг себя ничего потому, что слишком заняты самими собой и своими мелкими и крупными делами и делишками. Эти вечно «комбинируют», ловчат, злоупотребляют служебным положением, торгуют дружбой и любовью, обманывают друг друга и государство, совершают мелкие и крупные преступления. Они знают лишь одно слово: «Приобрести!» Приобрести зеркальный шкаф, автомашину, котиковое пальто, мебель, какие-то нелепые безделушки. Запихать в шифоньеры, гардеробы, комоды как можно больше белья, шелковых тряпок, мехов… Им всегда всего мало. Им всегда хочется еще и еще приобрести, доставать, «устраивать». Они не умеют отдыхать, не умеют веселиться, не умеют желать. Они говорят: «Надо уметь жить», а что такое «жить» – не знают. Им нужно только одно – деньги. А деньги эти надо «уметь делать». Они не говорят «уметь зарабатывать» – у них свой жаргон, свои понятия о жизни, о счастье, о радостях. Их мир убог и страшен, но они смотрят на окружающих свысока. Их суждения узки и ограниченны. Они рабы вещей, которые властно командуют ими, заставляют их изворачиваться, делать подлоги, совершать преступления. А когда однажды наступает крах, и им приходится давать отчет в совершенном, когда наступает конец их деятельности, и их вводят в кабинет следователя, они думают только об одном: «Для кого же наживалось? Кому же достанется?..» И только через некоторое время они поймут, что нет большего наслаждения, как идти в тишине по узкой лесной тропке, прислушиваться к шороху и шепоту леса, постоять где-нибудь у высокой сосны и вдыхать свежий, бодрящий воздух.
У Марины замерло сердце, когда Вишенка, просмотрев ее пропуск и командировочное, открыла перед ней калитку. Она боялась взглянуть туда, где поблескивали на солнце рельсы полотна, где виднелась крыша какого-то домика, где открывался перед ней вновь обретенный мир.
Заключенных, которые выходили и входили за ограду зоны, полагалось обыскивать – проверять, нет ли при них запрещенных предметов, вещей, писем, миновавших цензуру. Марина знала эти порядки, но в этот момент забыла все. И Вишенка, взглянув на ее побледневшее лицо, открыла дверь проходной вахты и сказала: «Иди погуляй. Теплушка опаздывает на час. Эх, погодка-то какая! Бабье лето вернулось!».
Марина сделала шаг, остановилась, постояла минутку. Потом побежала прямо через рельсы, туда, где начинался кустарник, и высилась старая осина, освещенная вечерними лучами солнца.
…Паровоз старательно пыхтел на небольших подъемах, весело постукивали колеса, клочья дыма оседали на верхушках деревьев. Уже миновало несколько лагерных подразделений, где теплушка останавливалась на несколько минут. В вагон входили и выходили люди в телогрейках, куртках и «домашних» пальто. Все это были большей частью заключенные, имеющие такие же пропуска, как Марина. Они тоже ехали в командировки – на другие лагпункты и в Управление. Вольнонаемных было мало: два пожилых стрелка в коротких, потрепанных шинелях, веселый, общительный экспедитор, сразу подсевший к соседям Марины, и военный из «высшего начальства» с усталым лицом и рукой на черной перевязи.
На одной из остановок за окном послышались громкие голоса. Кто-то скомандовал: «Давай иди! Не задерживай теплушку!» В ответ раздалась ругань. Голос был женский. Соседи Марины выглянули в окно. Марина вышла в тамбур.
Впереди вагона для бесконвойных был прицеплен уже знакомый Марине вагон, где перевозили заключенных под охраной. Там стояли два конвоира и поглядывали на ворота лагпункта, откуда и неслась ругань.
Из проходной быстрым шагом вышел старшина.
– Женское свободно? – спросил он стрелков.
– Места хватит…
– Режимные?
– Нет. А что?
Старшина сказал что-то, чего Марина не расслышала, и указал на ворота. Из вагона спрыгнул на землю начальник конвоя, и все четверо стали переговариваться. Потом старшина сказал:
– Черт с ней, сажайте в мужское, благо там свободно. Ее разве можно с людьми везти?
Один из конвоиров полез в вагон и откинул подъемную лесенку. Старшина, придерживая кобуру пистолета рукой, побежал обратно. Из калитки вышли два стрелка и между ними молодая женщина в разорванной блузке и с растрепанными светлыми прямыми волосами. Лицо ее было покрыто темными пятнами и фиолетовыми подтеками. Она шла раскачивающейся походкой, вызывающе оглядываясь по сторонам. При каждом шаге в прорехе юбки было видно голое колено, но женщину это ничуть не смущало. Отойдя от вахты, она обернулась назад, рванула с плеча блузку и крикнула:
– Подожди, начальничек! С тобой еще за меня рассчитаются! Будешь помнить Любку Беленькую!
Заметив в окне мужчин, она подмигнула им:
– Эй, вы, фраера, передайте Ленчику Румыну, что Любку в штрафизо[1]1
Штрафизо – штрафной изолятор, где содержатся заключенные, совершившие преступление в лагере.
[Закрыть] повезли!
– Прекратить разговорчики! – одернул ее конвоир.
Старшина передал начальнику конвоя пакет.
– Заходи, красавица, – сказал стрелок, – да помни: будешь шуметь – свяжем. У нас на этот счет имеется инструкция.
– Не пойду! – женщина остановилась у ступенек.
– На руках внесем. Давай, Павлов, поддержи ее справа.
Женщина завизжала. Понеслись проклятья и ругательства в адрес стрелков и начальника конвоя. Марина поспешно вернулась в вагон.
Пожилой мужчина, все еще наблюдая за посадкой, сказал:
– Ну, братцы мои! Как дикая кошка… Эй, стрелочки, не нужна ли помощь?
Молодой парень ответил:
– Справятся. Четверо их.
Еще несколько минут за окнами слышался шум и крики, наконец, дверь вагона захлопнулась. Стало тихо, но через секунду Любка заорала песню. Марина не знала, куда смотреть, щеки ее пылали – подобных песенок сна еще не слышала даже на пересылках.
Поезд дернул и заглушил слова, несшиеся из вагона.
Мужчина в телогрейке сказал:
– Ни один начальник ее держать не хочет. Так и гоняют с лагпункта на лагпункт. Давно судить пора, а с ней все ненькаются. Да разве ее перевоспитаешь? Ее могила исправит… Рожу вон всю чернилами извозила, юбку до пупа порвала. Тьфу, стерва! – он сплюнул.
– Кто она? – решилась спросить Марина.
– Сволочь, одним словом, – отозвался мужчина. – Рецидивистка, семь отказов от работы, оформленных актами, судимостей до лешего. В нашем лагере второй срок отбывает.
– Она, кажется, совсем еще молодая…
– Из молодых, да ранняя, – вставил слово парень в комбинезоне.
– Ей уж под тридцать, – сказал экспедитор. – Хотя она, вероятно, и сама не знает, сколько ей лет. Экземпляр, я вам доложу, редкостный.
Мужчина в телогрейке стал рассказывать, что о Любке Беленькой ходят по лагерю такие слухи, что с трудом веришь.
– При девушках говорить неудобно… Чего-чего только она не творила. И резалась стеклом, и в карцере пожар устраивала, и, извиняюсь, в чем мать родила на вахту выбегала. У нее и дружок под стать.
– Это Ленчик, что ли? – спросил парень.
– Тоже артист, – покачал головой пожилой. – Не моя воля, я б их научил свободу любить. Сколь с ними бились, сколь уговаривали – и по-хорошему и по-плохому, – все одно, как об стену горох. Ну, теперь она допрыгалась – если в центральный штрафизолятор повезли, так, значит, будут судить. Да и Ленчика этого давно пора в шоры взять…
– А новость слышали? – повернулся к ним экспедитор. – Николу Зелинского на фронт берут.
Парень, собиравшийся было закурить самосад, так и замер с клочком бумажки в одной руке и с кисетом в другой.
– Ну да… – недоверчиво протянул он. – Дикаря? Так ведь этот похлеще Ленчика Румына будет.
– Точно! – авторитетно заявил экспедитор. – Разрешение получено. Может, уже и отправился.
Парень привстал, рассыпал табак, опять сел и, страшно взволнованный, заговорил, переводя глаза с одного собеседника на другого:
– Так ведь как же это получается, ребята! У него небось сроков цельный короб, а его – на фронт? А у других и статьи – тьфу, и пропуска, и все прочее…
– Это ты о себе, что ли? – поинтересовался пожилой.
– Так хоть и о себе! Что я, хуже его, чтобы здесь отсиживаться? А что, он писал куда или само начальство?
Поезд замедлил ход. Это была остановка «6-й лагпункт», где нужно было выходить Марине.
Она поднялась, сказала попутчикам «до свидания» – ответил ей только пожилой мужчина, те двое оживленно обсуждали новость – и вышла из вагона.
6-й лагпункт отстоял от линии узкоколейки намного дальше, чем все остальные. От места, где останавливалась «кукушка», до ворот лагеря было не меньше двухсот метров. Расстояние это было расчищено от больших деревьев, но кустарник и молодая поросль росли здесь особенно буйно. К воротам вела широкая просека.
Поезд задержался ровно настолько, сколько потребовалось Марине для того, чтобы спрыгнуть с подножки, и ушел, даже не дав прощального гудка.
Марина стояла у ворот, на фронтоне которых была натянута металлическая сетка, выкрашенная в зеленый цвет. По сетке шла надпись белыми буквами: «Энская трудовая детская колония».
Как и все подразделения лагеря, территория колонии была обнесена высоким забором из круглых кольев, но по углам не было видно вышек, а поверх ограды не тянулась проволока.
Ворота были открыты. Какая-то женщина, напевая «Во субботу день ненастный», белила известью наружную стену вахты.
Вокруг стояла мирная тишина. Потом Марина расслышала какой-то мелодичный звук. Раздавался он откуда-то из-за угла забора. Марина прислушалась. Журчала вода. Тогда она вспомнила – в зоне колонии протекает ручей. Она перепрыгнула через кювет и пошла вдоль ограды. Под ногами мягко оседал толстый слой опавшего листа – деревья здесь подступали близко к ограде. Иногда хрустела под ногой сухая ветка. Марина свернула за угол и остановилась: дорогу преграждал неширокий, но очень чистый, прозрачный и быстрый ручей. По дну его лениво стлались длинные травы и кое-где виднелись крупные камешки и песок. По берегам еще сохранилась свежая зелень летней травы – сочной и яркой. Ручей вытекал из кустов и проходил под ограду зоны.
Марина присела, почерпнула горстями воду и приникла к ней губами. Вода пахла опавшим листом, чуть-чуть йодом и еще чем-то изумительным, чего нельзя было определить. Такой воды Марина не пила никогда в жизни. Она отряхнула воду с пальцев и выпрямилась. За ручьем рос папоротник – высокий, пышный, совсем зеленый. Марина подумала: «Странно, у нас были заморозки, а здесь?..» Дальше начинался лес. Ровной стеной стояли высокие ели – строгие, серьезные и неподвижные. Над ними раскинулся немыслимыми красками закат. На фоне пылающего зарева острые верхушки елей казались совсем черными, словно вырезанными из темного бархата.
Марина подняла голову. Выше пламенеющих, круто взбитых облаков неподвижно застыло облако причудливой формы. Лучи заходящего солнца не достигали его, и оно было темно-синее, с пепельными краями. Она смотрела на него, не отрываясь. Длинное, узкое, оно напоминало крыло огромной птицы, остановившейся в своем полете на самый край света. Внизу менялись краски, меркли облака, терялись очертания вершин елей, а оно все так же стояло на невероятной высоте, и только нижний край его, там, ближе к горизонту, стал прозрачнее и словно невесомей.
Где-то пискнула запоздавшая на ночлег пичуга. Из леса потянуло сыростью. Плотный туман лег на ручей. Закат погас. Небо уходило в темноту, растворялось в ней, и вот уже в северной его части загорелись редкие звезды. Марина повернулась и пошла назад. В окне проходной вахты вспыхнул слабый свет, Наверное, там зажгли «летучую мышь».
Часть вторая
Глава перваяМесто под солнцем
Пятые сутки бушевала метель. Белая крутящаяся пелена неслась вдоль полотна узкоколейной дороги, мимо будок путевых обходчиков и оград лагподразделений.
С воем и плачем кружась на лесных полянах, замирая на мгновение у подножия одиноких, неподвижных в своей мощи дубов, с новой яростью обрушивалась метелица на трепетный, стонущий осинник, шипела снегом у корневищ черно-траурных елей, плотной стеной встречающих ее неистовый напор.
Спряталось, зарылось в снега, забилось в дупла и берлоги все живое. По ночам побледневшая луна торопливо пробиралась сквозь мутные тучи, изредка роняя тревожный свет на взбаламученное снежное море.
А когда уставший буран на некоторое время смирял снежные вихри, над притихшими полянами, над плотными сугробами и приникшим к земле кустарником раздавался низкий, хватающий за сердце вой.
Протяжный и одинокий, этот зловещий звук стлался над снегами и, постепенно нарастая, поднимался вверх, к вершинам деревьев, обрываясь там низкой, тоскливой нотой. И через какое-то время с другой поляны ему отвечал такой же одинокий и такой же тоскливый звук. А притихшая было метель, опять начинала крутить, метать и плакать. И тоскливые волчьи голоса сливались с ее воплями и стонами.
Волки справляли свадьбы.
Вопреки всему живому, что обитает в лесах: всем летающим, ползающим, плавающим – всем, у которых извечный закон размножения просыпается вместе с солнцем и весной, серые хищники зачинают свое потомство под плачущий стон февральских метелей, в студеные ночи последнего зимнего разгула.
Вспугнутые пожарищем войны, грохотом и свистом снарядов, вспышками взрывов и гулом самолетов, целыми стаями и в одиночку двинулись волки в глухие, далекие от фронта, непроходимые чащобы. Они пришли в эти тихие и мирные леса голодные и озлобленные – осень не баловала их. Осень дышала огнем и смертью. От притихших, обезлюдевших деревень и сел не доносилось теплого манящего запаха хлевов и загонов. Волки миновали пустынные поселки, где пахло пеплом и гарью, обходили окольными путями места, где земля взметывалась вверх черными фонтанами, где воздух свистел, ревел и стонал от снарядов, где война шла в обнимку со смертью, отмечая свой каждый шаг слезами и кровью. Они пришли в эти леса, когда уже легли плотные, тяжелые снега, и нечем было им поживиться, нечем насытить свои голодные утробы.
Волки хотели жить. А для этого они должны были хватать за горло, резать клыками, рвать и глотать еще теплое, еще трепещущее тело жертвы. Поселки здесь были редкие, далеко стоящие друг от друга, и люди, услышав о приходе незваных гостей, стали бдительно и зорко охранять свои жилища, хлева и дворы.
Терзаемые голодом, волки вплотную подходили к деревням, к домикам лесников, к будкам путевых обходчиков, окружали их темным кольцом и с тоскливой, голодной жадностью вдыхали теплые, душные запахи. Они осмеливались приближаться к помещениям служебных собак. И тогда под невысокими потолками строений раскатывался грозный и гневный лай сторожевых овчарок, почуявших своего смертельного, исконного врага.
Вскоре узналось, что на одном из пролетов узкоколейной дороги волчья стая растерзала путевого обходчика. И тогда по Управлению Энского лагеря был дан приказ о борьбе с хищниками.
К облаве готовились серьезно. Запасались шнуром, нанизывая на него красные лоскутья, приводили в порядок охотничьи ружья. Знаменитый в этих лесах охотник Евсей Леонтьевич был приглашен полковником Богдановым на совещание в Управление.
Облаву задержала метель. Она бушевала пятые сутки, заметая и занося дороги, будто стремилась отдалить гибель хищников. А они, как бы предчувствуя неизбежность этой гибели, выли по ночам все тоскливее и надрывнее, подняв острые морды к призрачному лику луны. И голодный вой их сливался с воем метели, которая все яростнее бросалась на высокие ограды, перемахивала через них и крутилась снежными вьюнами у порогов бараков.
В тот день, когда вдоль полотна узкоколейки пронеслась первая, еще слабая поземка и тяжелые тучи хмуро нависли над лесом, закрыв холодное зимнее солнце, – в тот самый день во всех лагподразделениях было прочитано письмо знаменитого в воровском мире рецидивиста Николы Зелинского, по кличке «Дикарь». На письме, сложенном в толстый треугольник и адресованном на имя начальника Управления лагеря полковника Богданова, стоял номер полевой почты одной из воинских частей армии генерала Рокоссовского.
Когда, закончив чтение письма, из БУРа[2]2
БУР – барак усиленного режима.
[Закрыть] вышли инспектор культурно-воспитательной части и комендант, Ленчик вскочил на скамейку и рванул ворот рубахи.
– Воры! – крикнул он. – Слушайте Ленчика Румына! Покупают нас начальники! Не было такого письма! Не было!.. Слышите, воры? Сами они его написали, расколоть нас хотят!
Несколько лет назад, в расцвете своей воровской славы, Ленчик Румын был гибким, подвижным парнем с мертвой хваткой цепких и длинных рук. Он никогда не брал грубой силой, не мог похвастать ни шириной плеч, ни тяжестью кулака. Но вступать с ним в драку один на один избегали даже признанные силачи. Ловкий, изворотливый, как ласка, он мастерски владел финкой, не брезгуя никакими приемами.
Еще Никола Зелинский, тот самый, чье письмо теперь подняло бурю в воровском мире, удивлялся цепкой, хищной хватке молодого жулика.
С тех пор прошло не так уж много лет. Но Ленчика Румына теперь вряд ли узнала бы даже родная мать. Бессонные ночи «малин», пьянки, наркотики, разврат, тюрьмы, пересылки, демонстративные «голодовки», лежание на нарах, часы тяжелых, угрюмых раздумий – все это наложило свою страшную печать на Ленчика. Щуплый, с темными провалами под глазами, с нездоровой кожей лица, бесцветной полоской губ и впалыми щеками, он был теперь тенью прежнего Ленчика Румына. Острый кадык дергался на худой шее, хриплый голос метался под низким потолком барака, срываясь на кашель.
Возле скамьи, на которой стоял Ленчик, собрался десяток таких же преждевременно изношенных, морально опустошенных людей. Они тоже кричали об обмане, тоже размахивали руками, сквернословя и сплевывая горькую, желтую от табака слюну. И если бы появился здесь сейчас Никола Зелинский, – Ленчик Румын и вся эта шайка бросилась на него, и Ленчик первый поднял бы руку на человека, всю жизнь бывшего для него предметом зависти и обожания. И не только потому, что Никола Зелинский «продал» их, преступив ту черту, которая отделяет преступников от мира честных людей, – Никола и раньше посмеивался над воровскими законами, признавая их постольку поскольку, – Ленчик Румын нанес бы предательский удар в спину Дикарю потому, что сегодня прямой удар Дикаря уже сразил насмерть Румына.
Всю свою воровскую жизнь Ленчик следил за Дикарем, любуясь и ненавидя его; всю свою жизнь он желал быть таким, как Никола: смелым, удачливым, насмешливым и независимым. Дикарь для Румына был единственным идолом, которому можно было молиться, и которого нужно было бояться. Дикарь был настоящий вор. Вор с большой буквы. Таким считал его Ленчик Румын.
Дикаря недолюбливали: за удачи, о которых ходили легенды, за пренебрежение к воровским законам, за изысканность костюма – Дикарь никогда не носил сапог и не заправлял в них брюк по «жиганской» моде; за то, что у Дикаря всегда были деньги; за то, что его любили самые красивые женщины, из которых ни одна никогда не бывала на «малинах». Не любили за то, что Дикарь никому не рассказывал о своих «делах», ни с кем не дружил, ни перед кем не заискивал. Никто не знал его прошлого, никто не мог сказать, где находится Дикарь сегодня и где он будет завтра. Поговаривали даже, что Дикарь и не вор вовсе, а очень опытный и очень смелый «опер» и что его отсидки в тюрьме просто «липа», чтобы усыпить подозрительность жулья. Однажды его вызвали на «правеж» – страшный и беспощадный воровской «суд». Он пришел щегольски одетый, с небрежной усмешечкой на губах, в перчатках, туго обтягивающих сильную руку, в дорогих ботинках. Его предупредили, что если он не докажет свою непричастность к последнему крупному провалу группы воров, погоревших прямо «на деле», то его «подколют». Ленчик Румын был в числе троих, которым были поручены переговоры с Дикарем. С ненавистью и восхищением смотрел Румын на Дикаря, когда тот выслушивал слова Аптекаря – матерого вора с лицом, изуродованным клыками ищейки. Черные с бархатным блеском глаза Дикаря безмятежно смотрели на Аптекаря, но Ленчик заметил, какие недобрые складки легли в углах его рта. Когда Аптекарь кончил, Дикарь – словно не его касались зловещие предупреждения Аптекаря – небрежно взмахнул перчаткой, усмехнулся и, не повышая голоса, сказал:
– Учтите, воры: еще одно такое свидание – и от всех вас клочки полетят. А посмеете тронуть – на другой день и клочков не останется. У моих ребят финки отточены не хуже, чем у тебя, Аптекарь… Так и передайте там, на хазе.
И ушел, даже не взглянув на ошеломленных парламентеров.
Да, он был легендарным вором, этот Никола Дикарь, и чем больше ходило о нем всевозможных слухов, тем меньше знала братва о его прошлом и его настоящем.
Румын хотел быть таким же, как Дикарь. В этом была цель его жизни. Ради этого он шел на самые рискованные «дела», ради этого швырял сумасшедшие деньги на воровских попойках, заводил самых шикарных, самых дорогих «девочек»… Но все это было не то, не то, не то… Идеал оставался недостигаемым.
О болезненном пристрастии Румына к Дикарю знали все. И втихомолку подсмеивались над ним, разжигая его новыми и новыми рассказами о «делах» Дикаря. И Румын слушал с жадностью, с лихорадочным блеском в глазах, с закушенными губами. Это была одержимая ненависть фанатика и мрачная страсть евнуха. Порою Ленчику казалось, что жизнь его так тесно переплелась с жизнью Дикаря, что, погибни Дикарь сегодня, – завтра погибнет и он, Ленчик Румын.
И вот – письмо с фронта. Письмо, в котором этот ненавистный и обожаемый человек последний раз (о, Ленчик знал, что это – последнее слово Дикаря!) бросал в лицо ворам правду. Этим первым и последним своим откровением Дикарь уничтожал все, чем до сих пор жил и дышал Ленчик Румын. Это был конец. Потому что, если отрекся Никола Зелинский, если сказал он: «Воровским кострам, что некогда горели так ярко, суждено погаснуть», – значит, так будет.
«…Суждено погаснуть…» – так писал в своем письме с фронта бывший вор, а ныне рядовой солдат, давший клятву с другими такими же солдатами «стоять насмерть».
Да, это был конец всему. Пусть не сегодня и не завтра, но веселое и хмельное пламя воровских костров погаснет, оставив после себя обугленные головешки и пепел, который разнесет вольный ветер.
Но признаться в этом Румын мог только самому себе. И уже чувствуя себя полутрупом, уже предугадывая недалекую свою гибель, Ленчик Румын, задыхаясь от хриплого кашля, кричал, балансируя на краю скамейки:
– Обман! Не было письма! Поднимемся, ворье! Еще жив преступный мир! Врет Дикарь – еще ярко горят воровские костры, еще летят искры! Еще мы…
Немного не рассчитал Румын – забыл, что стоит на самом краю скамейки, и, когда он взмахнул руками, показывая, как летят искры от воровских костров, другой конец скамейки поднялся вверх. Ленчик дернул руками, покачнулся и грохнулся на пол. Парень со шрамом на щеке поспешил поднять его. На мгновение в бараке воцарилось неловкое молчание. Потом Ленчик закашлялся – хрипло, с надрывом. Кто-то услужливо подал ему кружку с водой, кто-то протянул свернутую цигарку. Ленчик оттолкнул кружку, она, звеня, покатилась под нары. Потом затянулся и снова закашлялся.
– Загнешься ты, Румын, – произнес чей-то голос и осекся.
Ленчик быстро взглянул в ту сторону и зло оскалил зубы:
– А ты что – пожалеешь? На похороны с венком придешь?
Ему не ответили. Он смял цигарку и осипшим голосом продолжал:
– Значит, так, воры. Докажем начальникам…
И вдруг где-то совсем близко, казалось – у самой бровки, идущей вдоль высокой ограды, раздался низкий, хватающий за душу звук.
Парень со шрамом вздрогнул. Ленчик оборвал начатую фразу. Все притихли, прислушиваясь.
– Волки… – произнес кто-то глухим голосом.
В ту же секунду завыло, заметалось в трубе, над крышей, под окнами. Тонко задребезжало плохо вмазанное стекло. В тамбуре с треском распахнулась и заскрипела на петлях дверь.
– Метель это… – сказал парень со шрамом и пошел закрыть дверь.
Внезапно за стенами барака наступила тишина, словно вьюга, как дикий зверь перед прыжком, присела на задние лапы, и в этой напряженной тишине снова послышался одинокий тоскливый волчий вой. А потом опять застонала, зашипела, захлебнулась метель.
– Сожрут нас и косточек не оставят, – сказал с верхних нар черноволосый парень. – А ты толкуешь – костры… Ему хорошо, Дикарю: умрет под «ура!». А здесь подохнешь, и никто не вспомнит, – и сплюнул вниз.
Никто не отозвался. Тяжелое молчание расползлось по углам.
Всю ночь вокруг зоны выли голодные волки, и мало кто спал в ту ночь в бараке усиленного режима штрафного лагпункта. А утром на поверке четверо вышли из рядов и заявили коменданту, что им надо сейчас же поговорить с начальником лагпункта.
– А в эту коробку, – сказал черноволосый, – вы нас больше не загоните. Не войдем… Учтите.
Комендант понимающе переглянулся с инспектором и скомандовал:
– Марш в контору!
Четверо повернулись и торопливо зашагали прочь от барака. Оставшиеся проводили их глазами в угрюмом молчании.
Инспектор сказал:
– Кто надумает выйти на работу – через десять минут чтоб был у вахты.
После развода в бараке усиленного режима осталось только трое: Ленчик Румын, парень со шрамом на щеке и дневальный. Все остальные вышли на работу, нарушив «слово вора», данное недавно Румыну. А когда бригада, пополненная отказчиками из БУРа, выходила за зону, где их ждали стрелки и проводники с собаками, в санчасть вбежал дневальный.
– Румын порезался! – задыхаясь сказал он фельдшеру. – Стекло с окна выбил и порезался.
Лампочка горела вполнакала. Капитан Белоненко устало поднялся, развязал узел шнура и спустил лампочку ниже над столом. Подошел к окну и прислушался. Свист метели, шорох бьющего в стекло снега и приглушенный, слабый стук двигателя.
«Тарахтит помаленьку, – подумал капитан и вздохнул. – Уговорить бы начальство на дизель. На этот газогенератор чурок не напасешься, да и бункер… – он покачал головой. – Что делать с бункером? Решето, а не бункер…».
Белоненко вернулся к столу. Лампочка заморгала, погасла на секунду и вспыхнула ярким и ровным светом.
«Рогов прибежал», – усмехнулся капитан. Мысленно он видел сейчас низкое помещение электростанции – бревенчатый сарай, обмазанный огнеупорным составом, сизый дым под закопченным потолком, земляной, пропитанный смазочным маслом пол. В левом углу – большая, до потолка, куча березовых чурок – топливо. Справа от входа трактор – на гусеницах, намертво врезавшихся в землю. Узкий приводной ремень тянется от маховика к генератору. Распределительный щит – сколоченные доски, где сиротливо ютятся два прибора: амперметр и вольтметр. Когда в бункер засыпают чурку, стрелка амперметра испуганно дергается влево, напряжение падает, и помощник тракториста, он же и щитовой электрик, бежит выключать силовые рубильники – иначе движок не потянет нагрузку.








