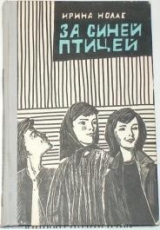
Текст книги "За синей птицей"
Автор книги: Ирина Нолле
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц)
«А в общем-то она права… Сколько сейчас подростков заменили родителей, стали к станкам, работают в колхозах… А эти, молодые, здоровые, ничего не хотят знать… Им бы только свой дурацкий закон поддерживать, воровские обычаи, традиции…».
К проходной она подошла усталым шагом человека, которого охватило равнодушие решительно ко всему. Ничего ей не удастся, ничего… Сегодня вечером она пойдет к капитану и честно скажет ему: «Я просчиталась, гражданин начальник. И зря похвасталась, что хочу сама… Не смогу. Освободите меня от бригады…».
– Что потеряла? – окликнула ее вахтерша из заключенных, когда Марина проходила вахту.
– В цехе – ни одного человека… И в бараке их нет, – вяло отозвалась Марина.
– Так ведь они, девушка, все как одна, через вахту прошли. Я их еще спрашиваю: где бригадир? А они отвечают, что бригадир в столовой задержался. – Вахтерша сочувственно смотрела на Марину. – Вот ведь какая незадача тебе… – Она задумалась, потом решительно сказала: – В ящиках они. Больше негде. Знаешь ящики? Из-под пряжи. Во-о-он там, за последним цехом. Их там добрая сотня свалена. Большие такие, из фанеры. В них по три человека свободно поместятся. Или, может, в старой сушилке? Хотя навряд ли. Там грязно и темно. Ищи в ящиках… Да ты бы лучше к коменданту сходила, – добавила вахтерша. – Он бы им мозги вправил. А тебя разве они послушаются, бандитки эти!
В цехе Маша спросила ее:
– Ну, как поход?
Марина махнула рукой:
– Нигде нет. Вахтерша говорит – в каких-то ящиках… – Марина опустилась на скамейку. – Не пойду я больше никуда… Бесполезно это.
– Понятно, бесполезно, – согласилась Маша. – Ну, ты давай сиди и дыши спокойно.
Она отодвинула табуретку, стоявшую на дороге, и, не выпуская из рук вязанье, пошла к выходу.
Марина чувствовала себя самым несчастным человеком на свете. Пожалуй, она была сейчас более несчастна, чем в кабинете следователя. Бесполезно… Бесполезно… И неужели капитан Белоненко верит, что этих девчонок можно перевоспитать? Неужели он думает, что они когда-нибудь будут сознательно относиться к труду? Нет, тут нужна палка и крепкие, безжалостные руки. Чтобы они почувствовали силу, чтобы испытали чувство страха…
– Бригадир! Где ваша бригада?
Марина вскочила. В дверях стоял комендант.
– Где ваша бригада, Воронова? Почему не работаете? У вас выходной?
– Не знаю, гражданин комендант… Бригады моей нет… – Марина стояла перед комендантом, опустив глаза и покусывая губы.
– Плохо… – покачал он головой, – плохо, Воронова. А почему вы не явились ко мне и не доложили? Или хотя бы дежурной по лагпункту? Вы что, порядков не знаете?
Марина молчала. Что она могла сказать ему?
– Все ваши девушки находятся здесь, в производственной зоне. Они утром прошли через вахту. Вы смотрели в других цехах?
– Смотрели, – ответила за Марину Вартуш. – Мы с Машей ходили смотреть. Никого там нет.
– Но все-таки, что вы предприняли, чтобы собрать бригаду? – строго продолжал комендант, обращаясь к Марине. – Учтите, Воронова: вам поручено организовать народ – организуйте. Вам оказано доверие…
– Доверие?! – У Марины даже дыхание перехватило от обиды и возмущения. – Хорошо доверие! Вы еще скажите – оказана честь… Дали каких-то зверенышей, которые ничего понимать не хотят, ни уговоров, ни упрашиваний, и только смотрят, как бы укусить, а вы говорите – доверие! Попробовали бы вы сами на моем месте, что у вас получилось бы?
Марина почувствовала, что у нее начинает щекотать в горле и еще минута – она расплачется. Это было бы совсем глупо, и она поспешно схватила со стола свою начатую работу.
Комендант неторопливо достал из кармана дождевого плаща ярко расшитый кисет и стал сворачивать папиросу. Лицо его было сосредоточенно и серьезно. Но закурить не закурил, а только повертел в руках свою самокрутку. Потом пододвинул к себе табуретку и сел. Это удивило Марину – комендант всегда куда-нибудь торопился, и рассиживать в цехах было не в его характере. Но его спокойствие и невозмутимость благотворно подействовали на нее.
– Конечно, – уже другим тоном добавила она, – я понимаю, что ни к чему не приучены, но мне от этого не легче…
– А ты думаешь, нам легко? Эх, девушка! Побывала бы ты хоть один час в моей шкуре или хотя бы дали тебе на двадцать четыре часа стать на место капитана, вот тогда бы ты узнала, что такое легко, а что – тяжело. А на твоем-то месте я бы и психовать не стал. Он посмотрел на дверь, на окна.
– Нарушу порядок, закурю, – сказал он, достал кресало и фитиль, которые здесь называли «катюша», высек огонь и затянулся. – Бегаешь, бегаешь весь день… Все на ходу, все на бегу… А домой придешь – и дома покоя нет. Как бы, думаешь, там чего не произошло. Полежишь, полежишь, да и шинельку на плечи – давай, брат Иван Васильевич, топай в зону. Жизнь… – он покрутил головой. – Мне бы на фронт. Сапер я по специальности. Да ведь вот! – он повертел правой рукой, на которой не хватало двух пальцев. – А тут тебе кричат: юбки бабьи охраняете… Слышали, что эти твои малолетки мне у вахты преподнесли: «Юбки бабьи!» Оскорбление ведь это для солдата!
Марина растерянно посмотрела на этого человека, в котором не узнавала коменданта своего лагпункта. Он сидел в позе усталого человека, и горькая складка легла у него на лбу.
– Я понимаю, гражданин комендант, – тихо проговорила она, – вам очень трудно… Вы не обижайтесь, что я так с вами говорила…
– Это ты обиделась за доверие, – снова заговорил он. – А ведь рассуди – разве это не доверие? Если капитан Белоненко тебя для этого дела выделил, значит, он сто раз передумал, годишься или не годишься. Как получили распоряжение подготовиться к приему несовершеннолетних, так и обдумывалось, кого к ним бригадиром поставить. Вот так-то…
Он достал из кармана плоскую железную коробочку, открыл ее, сунул туда окурок и встал с табуретки.
– К капитану пока не ходи. Не показывай своей слабости. Старайся сама как-нибудь головой соображать. День помучаешься, два, три, а потом что-нибудь и надумаешь. А с девчонками держись строго, не унижайся перед ними. Они любят, когда их уговаривают…
«Маша то же самое говорила!» – вспомнила Марина.
– Никуда они из зоны не денутся. Или в сушилке сидят, или в ящиках. Знаем мы эти фортели, видывали всякое.
– Так ведь они там и неделю просидят…
– Ну уж, так и неделю!
– И я думаю – не надо уговаривать, – вмешалась Вартуш, молчаливо сидевшая у окна. – Станет скучно – сами придут.
– А мы что делать будем? Нам на освоение три дня дали, а потом надо план выполнять.
– А ты не горячись, – наставительно произнес Свистунов. – Пойми: это они твои нервы испытывают, слабые места нащупывают. Как, мол, наш бригадир – выдержит или не выдержит? Экзамен… Понимаешь? Ты бы ко мне сразу пришла, поговорила бы, обдумали. Работать их сегодня не заставишь, у них еще завод не вышел, ну, а тебе психовать тоже не следует. А вон и Маша идет, – кивнул он на окно.
Добрынина вошла в цех и, увидев коменданта, расправила плечи, опустила руки по швам (в правой был зажат клубок шерсти и спицы с варежкой), сделала по направлению к коменданту три четких шага и остановилась, вытянувшись в струнку. Лицо ее было серьезно, а глаза смеялись.
– Гражданин начальник службы надзора, – торжественно начала она. – Разрешите доложить?
– Ох, Добрынина, – погрозил пальцем комендант, – дождешься ты у меня… Актриса… Ну, ну, разрешаю, докладывай.
– Пятнадцать человек обнаружено в фанерных ящиках за цехом, – Маша переменила позу и махнула рукой. – Старые номера тянут. Они думают – открыли эти ящики первые. А сколько в них дураков пересидело? Помните, гражданин комендант, в прошлом году? – Она положила на стол свою работу. – Постояла я там, послушала, что они говорят. Сидят и скулят, что надоело им здесь, что пойдут к начальнику, пусть в колонию отправляют. Там, говорят, хоть швейные машины, а здесь эти варежки – только старухам вязать.
– Им и машины не понравятся, – с раздражением произнесла Марина. – Они сами не знают, чего хотят.
– Факт – не знают! – подтвердила Маша. – Знали бы – не полезли в ящики.
– А еще о чем говорят? – спросил комендант.
– А еще говорят, что жрать хочется.
Комендант кивнул:
– Правильно: голод не тетка. Ну, так вот, бригадир. Обедом вы их накормите, хлеб утренний раздайте. – Он снова перешел на официальный тон. – А чтоб уговаривать – ни-ни. А ты, Добрынина, за ними поглядывай, и чуть что… Ясно тебе?
– Никак нет, не ясно мне, гражданин начальник службы надзора, – Маша сделала глуповатое лицо.
Варя рассмеялась. Улыбнулась и Марина: если Маша шутит, значит, все не так страшно – она уже целиком и полностью надеялась на свою помощницу.
– А если обедать кто не придет, то пусть себе постится. Ясно?
– Это ясно, гражданин комендант.
Когда он ушел, Марина укоризненно сказала Маше:
– Зачем ты его разыгрываешь? Он хороший человек.
– Потому и разыгрываю, что хороший. Да и не разыгрываю вовсе, а просто пошучу немного. Ему ведь тоже скучно – все работа да работа… Он на меня и не обижается.
– Значит, он про эти ящики давно знает? – задумчиво спросила Марина.
– Еще бы не знать! Я, например, в сушилке пряталась. Там тогда чисто было и сухо.
– Ты? В сушилке? – недоверчиво спросила Марина.
– Ох, бригадир! – Легкая тень пробежала по лицу Маши. – Если бы ты посмотрела на меня года три назад! Ну, да что там на старое оглядываться! – Она тряхнула коротко подстриженными волосами. – Дыши спокойно, бригадир, – доктор велел! Как-нибудь справимся…
Они не пришли обедать. Ни одна. И это так огорчило и встревожило Марину, что она готова была пренебречь советами коменданта, бежать к этим трижды проклятым ящикам и уговорить девчонок хотя бы пообедать.
– Ну подумай сама, каково им там! – Вконец расстроенная Марина не могла проглотить и ложки супа и только пощипывала кусочек хлеба.
– Ты мне головы не морочь, – сердито отозвалась Маша. – Ешь давай баланду. Скажите, какие нежности: проголодались, озябли… Еще что придумаешь? Захотят жрать – прибегут. Это они еще на сухариках, что в этапе получили, держатся. Так ведь не мешками у них сухари…
Вторая половина рабочего дня тянулась для Марины неимоверно долго. Несколько раз она хотела выйти из цеха, но Маша, зорко следившая за своим бригадиром, каждый раз останавливала ее. Вартуш тоже говорила Марине:
– Сиди, Марина-джан, послушайся нас…
Вечером Воронова сдала в кладовую выработку своей бригады: семь пар варежек отличного качества, связанных на спицах, и одну уродливую, с недовязанным пальцем – работа бригадира.
– Как хочешь, Маша, но ужинать я не пойду… Не могу… Ты понимаешь – не могу. Кусок в рот не лезет. И я просто не понимаю, как это ни начальник, ни комендант не обращают внимания, что они весь день ничего не ели! Может быть, они решили голодовку объявить? Я слышала в тюрьме, что это бывает.
– Эх ты, а еще боксу училась! Голодовку… А хочешь поспорить, что через полчаса они как миленькие будут баланду уплетать? Давай поспорим?
И Маша оказалась права: к ужину все девчонки, одна за другой, появились в бараке. Вид у них был не очень-то веселый. Марина это заметила, а Маша, когда раздался сигнал к ужину, вышла на середину барака и насмешливо оглядела приунывших девчонок.
– Ну вы, голодающие! Что-то у вас у всех бледный вид. Как там на курорте – мороженое-пироженое дают? Кто у вас за главного, Векша, что ли?
– Какая я тебе главная! – огрызнулась Лида.
– Нет, все-таки мне интересно, у кого из вас голова самая дырявая? Ну вот что, пацаночки, – Маша резко переменила тон, – последнее мое к вам слово. Хотите – слушайте, хотите – нет. Выбрали себе ящики – шут с вами, сидите там, а чтоб в столовой завтра как из ружья все были. Можете жрать, можете в носу ковырять, а на местах, как одна, чтоб сидели. Понятно?
– А до завтра что – на пустой живот ложиться?
Марина посмотрела в ту сторону, откуда прозвучал этот озлобленный, но на редкость звучный, грудной голос. Взгляд ее встретился с глазами высокой, угловатой, очень некрасивой девушки с большими руками, которыми она сейчас отжимала теплую шаль с длинной и грубой бахромой по краям. Видно, в ящиках изрядно протекало. Ей ответила Клава Смирнова:
– А ты зачем все сухари слопала? Уговаривались сберечь, а ты сожрала за один раз.
– Что мне на них – любоваться? – грубо ответила девушка и встряхнула свою шаль. – Послушалась вас, идиотка, промокла, как мышь, да еще не жравши весь день… Тьфу!
– Соньке мешок дай, и то мало, – презрительно проговорила Лида Векша. – Привыкла в своем колхозе по килограмму съедать.
– К чему я привыкла – тебя не касается. Не твой хлеб ела – заработанный. Тебе сдохнуть, а килограмма на трудодень не выгнать. Ваше дело – как хотите, а мне эта лавочка надоела. Я из-за вас голодная спать не лягу. Веди, бригадир, в столовую, хватит дурачка валять.
– Хоть одна нормальная нашлась, – сказала Маша Добрынина, – сварил котелок, хоть и с опозданием. Ну, так кто желает – айда в столовую! Пошли, Марина! А вы через десять минут приходите.
– Вот видишь – раскололись твои голодающие, кишки не выдержали! – смеясь говорила Маша, когда они с Мариной пробирались по намокшим от дождя доскам, проложенным от барака до столовой. – Взлетели-то они высоко, да вот где сядут – это бабушка надвое сказала.
Глава пятаяНачало сказки о синей птице
Осенние сумерки за окном. Неслышно моросит дождь.
В цехе тихо, только изредка звякнут спицы, да прошуршит клубок шерсти, потянутый за нитку.
Марина сидит спиной к двери и довязывает вторую за день варежку. Только вторую, хотя она очень старалась.
Утром повторилось все сначала: пустой стол в столовой, пустые табуретки в цехе.
Вчера после ужина, прошедшего в томительном молчании, Марина опять сказала Маше, что все-таки нужно поговорить с некоторыми девушками.
– Ну, например, с Лидой, Клавой и Ниной. Не может быть, что они не захотят помочь мне, если я очень их попрошу…
– А что они тебе – должны, что ли? – покосилась на нее Добрынина.
Марина смутилась. Нет, она совсем не имела в виду тот незначительный эпизод с розовым шарфиком Гусевой – она уже забыла об этом. Но просто ей хотелось верить, что девчонки поймут ее, если поговорить с ними с глазу на глаз.
– Они мне ничего не должны, но я чувствую, что они находятся под чьим-то влиянием. И скорее всего здесь главную роль играет Галя Светлова. Разве ты не замечаешь, как она держится и как все остальные прислушиваются к каждому ее слову. Да что там – к слову! Она говорит совсем мало – они ее взгляда слушаются!
Маша задумалась, и легкая морщинка легла на ее лбу.
– А что… – медленно проговорила она, – может быть, это и так. Знаешь, давай я сама поговорю? Нет, не с этими пацанками, а с Чайкой. Сначала с ней, а там видно будет. Хочешь, бригадир, я их заставлю работать? – Маша крепко стукнула сжатым кулаком по коленке. Они сидели на крыльце барака, где могли поговорить спокойно и без свидетелей. – Потолкую я с Чайкой по душам… А если сорвется, то все равно по-моему будет, а не по-ихнему!
– Ты мне скажи, Маша, только не сердись… Эту Галю Чайку ты раньше знала?
На столбе, рядом с крыльцом, висела электрическая лампочка, свет ее падал на лицо Маши Добрыниной, и Марина могла наблюдать, как менялось выражение этого милого, выразительного, с чуть заметными веснушками лица. Вот исчезла сердитая морщинка, и в глазах появилось новое, еще незнакомое Марине выражение – они стали грустными и тревожными.
– Если нельзя, то не рассказывай, – тихо добавила Марина.
Маша вздохнула:
– Всего не расскажешь, бригадир… Это нужно всю мою жизнь рассказать. А у тебя и своей печали хватает…
Она помолчала немного, и Марина боялась нарушить это молчание.
– Гальку Чайку я никогда не знала и в глаза не видела, – словно вспоминая что-то очень далекое и наполовину забытое, начала Маша. – Не знала я ее. А она про меня знала. И фотографию мою видела – у нас дома, на стене… Привел ее в наш дом мой брат Санька. Шуриком мы его звали. Чайка тогда еще не была Чайкой – это же ее воровская кличка. Ничего она в жизни не понимала, хотя уже хватила горя по самое горло. Ну, про это – потом. А Санька мой – это он мне все в письмах писал – помог ей однажды. Можно сказать, из рук одного подлеца вырвал… Чуть не зарезал его тогда Санька, да спасибо, при этом была его девчонка – Мурка. Словом, обошлось… Ну и привел Санька Галину к нам домой. Тогда еще мать наша была жива.
Маша опять замолчала. Ветер качнул лампочку – по лицу пошли тени.
– А потом так получилось, что Саньке с Муркой надо было из Москвы смываться… Куда Гальку деть? Мать тогда умерла наша… Ну и пришлось им брать ее с собой. Воровать они ей не позволяли, сами на пару бегали, а ей не позволяли. Сколько уж они так втроем прожили – точно не знаю, потому что мне Санька тогда редко писал, а потом и вовсе замолчал. Полгода ничего не знала, что с ними и где они. Потом от Мурки весточку получила. Тут с одного этапа наша московская девчонка была. Санька погорел на чем-то, дали ему год. Мурка все берегла Галину, а тут – война. Как уж там у них получилось, этого я тоже толком не знаю, но мне та девчонка сказала, что Чайка обратно в Москву поехала, у нее там отец где-то был. Говорят, большой начальник, только с матерью у них было неладно. Вот Галька и решила отца разыскать…
– Разыскала?
Маша с сомнением покачала головой:
– Вряд ли… Где уж там разыскать, когда война началась, все на фронт ушли? Да если бы разыскала, то разве воровать пошла? А то у нее что получилось? Мурка осталась в Таганроге, Санька в тюрьме, а девчонка одна-одинешенька по Москве мечется. Вот, я думаю, тут-то она и пошла воровать и засыпалась на первом же деле. Может, что и не так было, но я это себе так представляю.
– Значит, у нее и мать и отец были?
– Мурка писала, что они не жили вместе. Не то мать с кем-то спуталась и отца бросила, не то он от нее уехал, но только Галька мать свою просто ненавидела, а отца любила без памяти. Я, бригадир, всех подробностей не знаю. Что можно из писем узнать? Да и Галька, по всему судя, не очень-то о себе любила рассказывать. Шурик писал: скрытная она и гордая, а душа у нее вся искалечена.
– Ты думаешь, она тебя послушается? – тихо спросила Марина.
Маша сразу не ответила, потом вздохнула:
– Нет, не послушается. У нее сейчас в душе еще хуже, чем когда ее Санька к нам домой привел.
– Ну, так, значит, и говорить тебе с ней нельзя.
– Нельзя, – согласилась Маша. – Но девчонки меня послушаются! – Она опять стукнула кулачком. – Они про меня еще на воле слышали. Соловья вся Марьина роща знала, даром что я тогда уже второй срок отбывала. Меня за авторитетную воровку все жулье считало, так что с этими пацанками разговор будет короткий. Хочешь, бригадир, заставлю их работать? Тут ведь только двух-трех отколоть надо, а потом и все лапки кверху подымут. Хочешь?
– Нет, Маша, не хочу, – твердо ответила Марина. – Не хочу, потому что они работать начнут не по сознанию, а только потому, что им Соловей прикажет. А это значит – опять воровские обычаи, воровской закон. Ты на меня не сердишься за эти слова? – Марина положила свою руку на руку Маши. – Нельзя, чтобы они начали здесь свою жизнь по воровским законам. Понимаешь?
– Верно, бригадир, нельзя. И мне сердиться на тебя не за что. Слышала, как они мне кричали, что я «завязала»? Знаешь, что это такое? Это когда вор все свои старые дела «завязывает» и уходит из воровского мира.
– Навсегда?
– Если крепкий человек, то навсегда. Только ты меня больше об этом не спрашивай, бригадир… Рано тебе все знать, да и не поймешь ты ничего.
– Хорошо, не буду, – согласилась Марина. – Ну, а как же с бригадой?
– Что с бригадой? Подождем еще день-два.
– Нельзя ждать, Маша! У нас всего три дня на освоение, а потом норму надо давать. Я все-таки поговорю с ними сама.
– Ничего у тебя не получится, вот увидишь.
– Ну, тогда мне одно остается – к капитану идти и отказаться от бригадирства.
Маша рассмеялась:
– Ну, сходи, сходи… Поплачь. Послушай, что он тебе на это скажет. Нет, девочка, наш капитан знает, что делает, и уж если назначил тебя командовать, то никаких ему твоих слез не нужно. Ты, скажет он тебе, грамотная, образованная, комсомолка и все такое – умей людей на путь наставить. Вот что он скажет тебе, бригадир, и правильно скажет!
– А если у меня ничего не выходит? – сердито спросила Марина. – Что же я, так и буду с ними в прятки играть: девушки, где вы? А девушки сидят себе в ящиках да посмеиваются.
– Кто еще смеяться будет – неизвестно. Может быть, ты и посмеешься. Только все это не так скоро делается, как ты думаешь. Тебе все сразу хочется: раз! – в цехе сидят, два! – норму делают, три! – матом не ругаются, одними культурными словами говорят. А такая муть только в книжках пишется да в сказках рассказывается: поговорил добрый начальничек с заключенным, внушил ему, что хорошо, а что плохо, – и готово дело! – перековался вор, пошел работать отказчик, стала спекулянтка три нормы давать. А того не понимают эти сказочники, что из нашего брата надо тихонечко и незаметно, без крика и шума, одну душу вытащить, а другую на ее место положить. Да так положить, чтоб мы об этом не знали и не догадывались даже. Если догадаемся – назло свое будем доказывать. Так какое же терпенье надо тому человеку, кто захочет одну душу другой подменить? Это, подружка дорогая, потруднее, чем новый глаз человеку вставить… Ну, пойдем спать. Так мы с тобой до подъема проговорим.
В бараке все спали, только тетя Васена сидела у стола под лампочкой и вязала бесконечное кружево из ниток, добытых таинственными путями в швейном цехе.
– А если они еще неделю будут в ящиках сидеть? – задала Марина вопрос, который задавала уже, наверное, раз десять.
– Да что я тебе – на кофейной гуще сгадаю, что ли? – рассердилась Маша. – Спи давай, не морочь мне голову, утро вечера мудренее. – Она решительно отвернулась к стенке и натянула на себя одеяло.
Утром у хлеборезки, где все бригадиры получали хлеб, появление Марины и Маши вызвало веселое оживление. Казалось, что все только сейчас заметили, что на лагпункте организовалась еще одна бригада. Причем бригада какая-то особенная: с пониженной нормой выработки и с привилегиями в виде отдельных коек, новеньких одеял и занавесок на окнах. Кроме того, в эту бригаду начальник отдал лучших вязальщиц – Машу Соловья и Варю-армяночку. И наконец, бригадир этой бригады чем-то отличался от остальных бригадиров. Все уже знали, что Марина – «образованная». Но это еще полбеды: к «образованным» в лагерях относились или с почтительным уважением, или с пренебрежительной усмешкой – смотря по тому, как себя этот человек сумеет «поставить». Но вот инцидент в третьем бараке, о котором тоже знали все, приобрел новую и неожиданную для Марины окраску.
– Ты как – всех подряд по морде бьешь или по очереди? – с ехидством спросил Марину кто-то из бригадиров.
– А верно, что ты кашемировую шаль уперла?
– Это их так в вузах учат, чтоб жизни не боялись!
– Слышь, Воронок, берегись Нюрочки: она тебе за Мишку-парикмахера глаза выцарапает.
Кто такая Нюрочка, Марина, конечно, не знала, но поняла, что появляется еще одно лицо, с которым так или иначе, а ей придется познакомиться поближе.
– Не связывайся, бригадир, – шепнула ей Маша, – дыши спокойно – они не со зла. Ты не обижайся…
Не понижая голоса, Марина ответила:
– А я и не обижаюсь. Только кто такая Нюрочка?
Маша указала на худощавую черноволосую женщину лет тридцати, кокетливо подвязанную ярким платком низко над бровями. На затылке концы платка были завязаны широким узлом и спускались на спину – такова была «мода» на всех женских подразделениях лагеря.
Нюрочка заметила жест Маши, метнула на Марину недобрым взглядом и отвернулась, сказав что-то вполголоса стоящей рядом женщине с рябым лицом. Обе они громко рассмеялись. Марина поняла – говорят о ней и смеются над ней.
В столовой, как и вчера, сели за стол втроем: бригадир, помощник и инструктор.
Маша заметила:
– Однако наши пацанки чем-нибудь разжились.
Марина не поняла:
– Как разжились?
– Да очень просто – сплавили какие-нибудь свои тряпочки за зону. Когда это они только успели? Да и барахлишка-то у них ничего нет.
Вартуш подняла на Машу красивые, всегда немного печальные глаза и сказала:
– Вчера им Даша картошки принесла – печеной. А наша Эльза хлеба передала. Только это – не за тряпки, а так…
Маша помрачнела:
– На черта они не в свое дело лезут…
А Марина откровенно обрадовалась: она никак не могла избавиться от мысли, что девчонки сидят в своих ящиках голодные.
– Надо потолковать с Дашкой, – недовольно продолжала Маша. – А то она нам всю музыку испортит.
Марина возмутилась:
– Что же ты, собираешься их измором взять? Какие-то у тебя, Маша, методы странные…
– Странные или не странные, а уж какие есть. Тут сейчас на нас с тобой должно все работать: и что сухарики кончаются, и что вот дождичек припустил… Не очонь-то теперь в ящиках насидишься. Я тогда в сушилке три дня отсиживалась, и то стало тошно.
– Эльза сказала: больше хлеба не даст, сами на пайке сидят, – опять проговорила Вартуш.
– А картошка? – строго посмотрела на нее Маша.
– Кончили вчера картошку копать… – печально ответила Вартуш и вздохнула. – Мне Даша тоже дала. Вкусная… Вчера комендант разрешил по котелку в зону принести. Вот они и дали нашим девушкам. А больше не дадут – нету.
До обеда просидели в цехе, почти не разговаривая. Маша была внешне спокойна, только все чаще и чаще поглядывала в окно, где все настойчивее моросил холодный, мелкий дождь. А Марина, глядя на него, снова ощутила тревожное беспокойство: если до вечера они просидят в ящиках, то завтра большинство ляжет в стационар с температурой. Она вспомнила шелковое платьице Лиды Векши и сарафан Нины Рыбаковой. Впрочем, их всех теперь одели в новенькие телогрейки, так что, может быть, выдержат.
– Маша, а в этих ящиках сильно протекает?
– Тьфу ты, – вздрогнула от неожиданности помощница. – Я только-только песню одну вспомнила, а ты опять со своими ящиками! Ну что спрашиваешь? Фанера ведь! Ясно, что течет…
Марина опять погрузилась в невеселые свои размышления, но когда все трое – бригадир, помощник и инструктор – пришли в столовую, то их ожидал сюрприз: все девчонки, как одна, сидели за столом.
Маша крепко схватила Марину за локоть:
– Молчи, слышишь, бригадир! Виду не подавай!
И Марина погасила глупую улыбку, от которой, конечно, никакого проку не было, заметь ее девчонки.
– А почему Гальки Чайки нет? – спросила Маша, быстрым взглядом охватив бригаду.
Никто ей не ответил, и Маша пробурчала:
– Держит фасон… – и, взяв деревянный поднос, пошла занимать очередь к раздаточному окну. Марина молча последовала за ней, боясь каким-нибудь неуместным словом или жестом испортить все, что начало происходить с девчонками и предвещало, как ей казалось, уже несомненную победу.
За обедом девчонки вели себя примерно и, как ни в чем не бывало, спокойно принимали из рук Марины и Маши миски с супом. Но ели с жадностью, и Марина искренне жалела, что нельзя попросить добавки.
– Смотри, как уплетают, – не замедлила отметить Маша, – никакие тебе принципы не помогут, когда жрать захочется.
В Марине все больше крепла надежда на благополучный исход, и она была уверена, что после обеда девчонки пойдут в цех. Но Маша не разделяла радужных надежд бригадира и поглядывала на бригаду подозрительно. О Гале Чайке никто не произнес ни слова.
Стали раздавать второе – жидкую овсяную кашу, сверху которой застенчиво поблескивало какое-то масло – женщины утверждали, что это олифа, хотя повариха называла его подсолнечным.
Уже были добросовестно очищены миски, когда Соня Синельникова, та самая некрасивая девушка с красивым голосом, громко сказала:
– Хоть бы отправили куда… Тут удавишься с тоски…
Ей никто не ответил. Тогда она вдруг вскочила и со всего размаха пустила миску вдоль стола.
– Это все ее штучки! – крикнула она, и лицо ее искривилось. – Циркачка недоделанная! Зажала всех, красючка! Ей-то что – она стишки сочиняет, а тут сидишь как проклятая!
– Чего распсиховалась? – угрюмо проговорила Лида Векша. – Сиди и помалкивай в тряпочку…
– «Помалкивай»? – яростно повернулась к ней Соня. – Сама помалкивай, если тебе в ящиках сладко! А я плевать хотела на вашу Чайку! Она мне не указчица! – Соня перепрыгнула через длинную скамейку, задела кого-то ногой и выбежала из столовой.
Марина замерла: сейчас вспыхнут, закричат, заорут все тридцать человек, так, как это было в карантинном бараке, и в столовой начнется очередной «кордебалет». Она оглянулась: ни коменданта, ни дежурной. Ушли и другие бригады. Из окошка раздаточной выглянула повариха и поспешно задвинула фанерную дощечку – кому охота быть в свидетелях?
Маша тоже выжидательно смотрела на бригаду. Но девчонки словно застыли на своих местах, а Лида Векша опустила глаза и крепко сжала губы – будто боялась, что вылетит у нее непрошеное слово и тогда будет хуже. Прошла минута. Все молчали. Марина облегченно вздохнула, а Маша сказала:
– Учтите – чтоб на ужин все пришли. И эту вашу Чайку чтоб привели. Мне с вами чикаться надоело… – сквозь зубы добавила она.
– А ты что за бригадира расписываешься? – отозвалась Клава, и черные глаза ее метнули сердитый взгляд на Марину. – Чего она молчит? Пусть сама говорит, ее начальством поставили.
– Я с вами все разговоры кончила! – отважно сказала Марина, заметив предостерегающий взгляд Маши. – Не о чем мне с вами разговаривать. А кто хочет поговорить – милости прошу в цех.
– Грамотная больно… Видели мы таких, – буркнул кто-то без особенного подъема. Затем все поднялись и, не оглядываясь, направились к дверям.
Марина задержалась в столовой – сдать поварихе миски.
– Маша, пойди посмотри, куда они направятся.
– И не подумаю, – упрямо ответила помощница. – Сказала, не буду за ними гоняться. Все равно им долго не выдержать. Вон припустило как, – она опять показала на окно. – Куда им деться? В барак тетя Васена умрет, а не пустит. Кончились их штучки…
Марина торопилась в цех, скользя по узким доскам «тротуара», на котором уже накопилось порядочно грязи и глины, но, когда вошла в помещение, увидела там только Машу и Вартуш.
Подавленная, она села на свое место, взяла недовязанную варежку и молча сидела так долгое время, напряженно прислушиваясь к каждому шороху в тамбуре. Но это шелестел за окном дождь, и изредка стукалась о косяк плохо прикрытая наружная дверь.
Сумерки сгущались все больше. Марина пододвинулась к окну: в цехе стало почти совсем темно, а электростанция почему-то не давала свет.
Сотый раз упрекала она себя и в самонадеянности, и в «красивом жесте», и в «картинной позе» – за то, что произнесла в кабинете Белоненко неосторожную фразу: «Я хочу сама». Не надо было так говорить – это было несерьезно и необдуманно. Да еще, кажется, добавила: «Не торопитесь мне помогать», или что-то в этом роде. Ну вот, он и не торопится… Сама так сама. Напрасно рассчитывала она и на помощь трех подружек. Теперь Марина поняла, что и «кордебалет» и заступничество их перед Гусевой – все это было сделано совсем не из дружеских побуждений. Это было лишь мгновенным капризом, настроением. Им было «тошно», они должны были найти выход накопившейся энергии, вот и устроили «кордебалет». Кроме того – об этом заранее договорились… И заступничество за Марину было вызвано совсем не высокими моральными убеждениями – их просто, грубо говоря, «заело», что какого-то Мишку-парикмахера выдают за вора.








