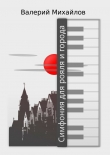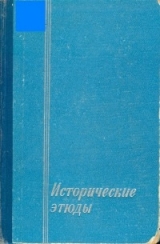
Текст книги "Исторические этюды"
Автор книги: И. Соллертинский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц)
Я напомню в двух словах несколько исторических дат, связанных с появлением романтизма. В 1793 году, как известно, началась диктатура якобинцев, 27 августа происходит кровавый переворот 9 термидора. Сен-Жюст, Робеспьер, Кутон – вожди якобинцев – отправлены на гильотину, торжествует богатая буржуазия. Наступает эпоха Директории. Переворот Наполеона 9 ноября 1799 года, иначе переворот 18 брюмера – по терминологии республиканского календаря – фактически ликвидирует французскую республику. В 1804 году провозглашена империя Наполеона. С 1804 по 1814 год Европа живет под эгидой наполеоновской монархии. В 1814 году происходит первое падение и отречение Наполеона, его отправка на остров Эльбу. В 1815 году, после кратковременного возвращения Наполеона, знаменитого периода «Ста дней», после битвы при Ватерлоо,– вто-
рое и окончательное падение Наполеона и ссылка на острой св. Елены. В Париж въезжает в позолоченной карете, украшенной гербами Бурбонов – золотыми лилиями, толстый, одутловатый, похожий на индюка, Людовик XVIII, брат казненного Людовика XVI. Вместе с ним отовсюду, из всех щелей, из всех дыр начинают появляться старые, траченные молью, одетые в старомодные одежды XVIII века, в кру-ягевные жабо, расшитые кафтаны белоэмигранты – те самые белоэмигранты, которые оптом и в розницу во время Республики и наполеоновской монархии продавали Францию интервентам, которые ничего не забыли и ничему не научились. Причем европейские монархи считают, что период Республики и наполеоновской монархии ликвидирован, а Наполеон – это, с точки зрения тогдашних монархов, все-таки плебейский император, тоже сын революции, хотя и удушивший при рождении свою мать.
В Европе начинается период сильнейшей реакции. Монархи объединяются в так называемый Священный союз, основы которого заложены во время Венского конгресса. Основным рычагом реакции является Австрия. Реакция связана прежде всего с политикой всем ненавистного канцлера Меттерниха. Эта реакция приводит к тому, что прежде всего провозглашается белый террор, расстреливаются или ссылаются в Гвиану, на каторгу, и бывшие якобинцы, и бывшие наполеоновские ветераны, старые генералы. Расстреливается маршал Ней, убивается другой наполеоновский сподвижник – маршал Брюно и т. д.
Считается нужным возвратить эмигрантам все то, чго отняла у них революция: земли, замки, имущество. Опять восстанавливаются все феодальные перегородки. Опять устанавливается пропасть между сословиями, опять для представителей мелкой буржуазии закрыты все дороги. Во время Наполеона говорили, что каждый солдат носит в своем ранце маршальский жезл. И действительно – сын провинциального адвоката Бернадот являлся маршалом Франции, а позже королем Швеции, сын трактирщика Мю-рат являлся маршалом Франции и королем Неаполя, сын конюха Лазарь Гош являлся одним из первых полководцев Республики и, наконец, сын невзрачного корсиканского мелкого чиновника Наполеон Бонапарт сумел сделаться повелителем всей Европы.
Отныне этот период феерических карьер, период мгновенно создающихся репутаций закончен. Все пути перед
Мелкой буржуазией, перед народом вновь закрыты. Для того чтобы в армии сделаться офицером, надо доказать, что ваши предки в течение трех или четырех поколений имели незамутненную, беспримесную дворянскую кровь. ЗакРы‘ вается в это время множество университетов, которые были созданы во время революции. Восстанавливается инквизиция. Страшно сказать: в 1826 году, год спустя после восстания декабристов и годом раньше смерти Бетховена, публично на площади в Тулузе был сожжен человек за оскорбление религии. Наполняются тюрьмы, необыкновенно давится и глушится свободное слово, печать и т. д.
3
Среди европейской интеллигенции в эту эпоху мрачной реакции водворяется пессимизм. Властителем дум может стать лишь тот художник, который выразит этот надрыв, который выразит в художественных образах эту модную новую болезнь – мировую скорбь. Таким властителем дум прежде всего становится английский поэт Джордж-Гордон Байрон.
Байрон создает образ одинокого человека, гениального мыслителя, который, однако, не находит себе места в действительности, которого гонит из одной страны в другую гложущая его тоска. И всюду среди улыбающихся картин природы он остается погруженным в себя, мрачным, всюду он видит насилие, обман, жестокость, всюду царит коварство. И этот герой жаждет смерти. Когда он, подобно Чайльд-Гарольду, наконец находит желанную смерть от руки бандитов во время оргии где-то в освещенной факелами пещере в Калабрии, он выпивает чашу с ядом спокойно, без малейшего вздоха, без малейшей тени сожаления, потому что «жизнь такова, что она вздоха не стоит».
Рядом с Байроном, обаяния которого не избежали и наши поэты – Пушкин, Лермонтов, Марлинский, выдвигается фигура другого замечательного порта, также проникнутого безысходностью,– это гениальный итальянский порт Джакомо Леопарди.
Какой бы мы ни взяли романтический тип художника или произведения, мы всюду найдем рту трещину пессимизма, глубокого разочарования в жизни, глубокого разочарования в истории. Отсюда, конечно, особая невротичность романтического художника и романтического искусства. Романтизм, повторяю, рождается в сгущенной, нагнетенной, болезненной атмосфере.
Но есть вторая, не менее характерная, нежели пессимизм, черта, объединяющая всех романтических художников без исключения. Эта черта опять-таки полемически направлена против предшествующего столетия. XVIII век, который называли веком философским, веком разума, веком просвещения, веком энциклопедистов,– этот XVIII век верил в решающую, движущую силу разума. Философы XVIII века были рационалистами, они считали, что именно разум есть высший источник познания. Больше того, разум не только управляет миром, разум двигает и историю.
Философы XVIII века – д’Аламбер, Дидро, Вольтер, Лессинг, Марли, Кондорсе и другие считали, что историей движут идеи. Отсюда их основная точка зрения – «просветительство»: достаточно лучом разума, прожектором философской критики осветить недостатки существующего общественного строя – и эти недостатки исчезнут сами собой. Достаточно философам доказать абсурдность религии, религиозных предрассудков католицизма, иезуитизма – и эти предрассудки сами собой уйдут во мрак средневековой ночи. Эта эпоха шла под лозунгом просветительской философии, ибо философы считали, что отныне абсолютизм, католическая инквизиция, неравенство людей, сословные перегородки – все эти остатки средневековых социальных отношений и суеверий – должны сразу же исчезнуть, уничтожиться, если провести настоящую просветительскую работу, если очистить общество огнем разума.
Абсолютная вера в могущество и силу разума и составляла главный пафос XVIII века – пафос писаний Дидро, Вольтера, энциклопедистов, Лессинга или молодого Гёте.
Именно в деятельности энциклопедистов заключалась идейная подготовка революции. Но что же в результате получилось? Отгремела революция, отгремели наполеоновские походы. Тысячи, десятки, сотни тысяч яшзней скошены, уничтожены, погибли где-нибудь в снежных равнинах далекой России, или в песках Египта, или в горах Пиренеев. Цвет трех или четырех поколений за эти двадцать пять лет революции и наполеоновской империи был сметен начисто. Были принесены богу истории гигантские жертвы, колоссальные человеческие гекатомбы. И что же получилось, к чему привели события? Опять в Европе царит реакция, опять воссели на троне Бурбоны, опять воздвигнуты перегородки между сословиями, опять люди неравны, опять церковь подчиняет себе свободную мысль, опять всюду снуют сутаны иезуитов, опять царит суеверие и т. д.
И у представителей нового поколения романтиков возникает мысль: очевидно, философы XVIII века не так вычислили, очевидно, не разум управляет историей. Взамен наступления социальной идиллии Европа опять оказалась в объятиях самой черной реакции. Где-то была совершена грандиозная ошибка. Разум доказал свое банкротство. И романтизм родится именно под лозунгом отрицания разума. Романтизм – направление антирационалистическое. В романтизме будут, наоборот, господствовать другие начала: чувства, страсти, стихийные силы. Это чрезвычайно существенная и характерная черта романтического искусства – низвержение рационалистических канонов, выдвижение на первый план именно чувства, пылкогр полета фантазии и т. п.
Любопытно перелистать томы тогдашних философских книг. Если вы развернете любое сочинение по философии XVIII века – скажем, Лейбница, Вольфа, Лессинга, пожалуй даже молодого Гегеля, вы увидите, что там всегда высшей инстанцией является наука, в частности философия. Философы XVIII века говорят так: можно разными путями постигать и понимать жизнь. Можно изучать жизнь путем искусства, можно подходить к пониманию жизни с помощью научного скальпеля, методом рационалистического мышления, методом логики. И философы XVIII века единогласно говорили: высший тип познания есть познание логическое, высший тип познания есть познание философское. Если вы посмотрите гегелевскую систему, то увидите, что искусство стоит двумя ступенями ниже, нежели философия. Философия венчает здание гегелевской системы.
У романтиков иное. Романтики объявляют, что высший метод познания жизни – это не философия, не наука. Наука дает знание в каких-то абстрактных понятиях, наука дает бледное, обескровленное представление о действительности. Подлинное познание действительности возможно не в науке, а в искусстве. Художник с помощью гениальной интуиции лучше понимает действительность. В свое время еще Бетховен говорил: я считаю музыку более высоким откровением, нежели наука или религия.
В этой системе искусств, которую выдвигают романтики, на самом почетном месте находится интуиция творца-худож-ника. Наиболее типичный в этом отношении философ, один
ИЗ лидеров романтической философии – эгш Шеллинг.
В «Эстетике» Шеллинга метод художественного познания находит свое высшее выражение. Шеллинг доказывает, что 1 искусство представляет собой самую глубокую философию.
Кстати, отсюда у романтиков совершенно иной подход и к художнику. Художник – это не обычный смертный. Именно романтики обоготворяют художника, возводят его па пьедестал. Художник – это особое существо, одаренное исключительной нервной системой и чрезмерной чувствительностью. То, что не задевает обычного человека, может привести в трепет художника. И этот художник находится в резком противоречии с обществом. Общество не может простить художнику его гениальности, общество не может простить, что художник является смертным иного, высшего качества. Отсюда – одна из основных тем романтизма (мы еще к ней много раз будем возвращаться) тема одиночества художника, тема глубокой непонятости художника.
4
Вернемся еще раз к месту искусства в романтической философии и в романтическом умозрении. Какое же из искусств, говорят романтики, является самым глубоким и содержательным? Если вы обратитесь к эстетическим сочинениям предшествовавшего XVIII века, то найдете обычно такую иерархию, такую лестницу искусств: низший вид – Это архитектура; архитектура имеет дело с тяжестью, с физическим законом массы, архитектура является наполовину прикладным искусством. Дальше, на второй ступени, стоит скульптура. Скульптура изображает уже формы прекрасного человеческого тела, но эти формы в скульптуре еще не являются одухотворенными. Дальше в системе искусств XVIII века идут живопись, музыка и, наконец, высшее искусство – искусство поэзии. Почему поэзия в XVIII веке почиталась высшим искусством? Потому, что поэзия имеет дело со словами, с разумом, с понятиями, с идеей. Вот почему поэзия находится на грани между искусством и философией.
Романтики меняют это соотношение. Они низводят поэзию и на ее место, на высшую ступень, ставят музыку. Именно музыка, с точки зрения романтиков, тем и глубока, что она постигает сущность мира не в отвлеченных
понятиях, не в словах – она берет эмоциональную сущность мира непосредственно. В «Эстетике» Шеллинга музыка объявляется голосом глубочайшей сущности мироздания. Гофман, Тик, Новалис – все они говорят, что мыслить звуками – это выше, чем мыслить понятиями. Музыка ведет нас в сферы стихийного чувства, столь глубокого, что оно не может быть высказано словами. Тютчевское знаменитое, так часто цитируемое «мысль изреченная есть ложь» – есть не что иное, как парафраз романтических построений. Именно Новалис, Тик, Шлегель, Гофман говорят о том, что слова бессильны; музыка вступает в свои права там, где никакая поэзия, никакое литературное мастерство, никакое красноречие не могут охватить настоящую глубину чувств.
Характерна еще одна параллель между XVIII веком и романтизмом. В XVIII веке обычно считали, что низшая форма – это музыка инструментальная, тогда как высшая форма – это музыка вокальная, и в частности оперная, потому что в опере или в вокальном искусстве, в песне, в музыку входит слово. Напоминаю, как Глюк говорил, что именно поэзия дает музыке содержание. Музыка – только краски, которыми раскрашивают рисунок; линии этого рисунка, образ, содержание этого рисунка даются поэтом, сценаристом, драматургом. У романтиков считали обратное: там, где музыка связана со словом, там музыка еще скована. Высшая форма музыки – это именно музыка абсолютная, музыка внесловесная, это музыка инструментальная, симфоническая.
Именно в симфонической музыке, с точки зрения романтиков, скажем Гофмана или Шлегеля, Новалиса, раскрывается настоящая суть, настоящая глубина. Больше того, если вы связаны со словом, вы не должны рабски следовать за ним. Задача композитора, сочиняющего романс или песню, заключается не в том, чтобы точно следовать ритмике или интонации стиха. Он может давать на базе стихотворения совершенно самостоятельную музыкальную форму. Сравните песни XVIII века, скажем, с песнями Шуберта. Вы увидите, насколько у Шуберта чисто музыкальные элементы, особенно в части фортепианного сопровождения, несравнимо более развиты.
Каково же содержание нового, романтического искусства, которое раскрывается средствами всех искусств и прежде всего музыки? О чем будут говорить романтические порты, художники, композиторы? Здесь надо прежде всего вспомнить о том, с чего я начал. Романтизм родился в необычайных муках и в очень напряженной атмосфере социальной реакции. Романтизм с самой своей колыбели был окрашен в тона мировой скорби, пессимизма. Поэтому первой и основной темой романтического художника является разрыв между человеком и действительностью. Обычный тип романтического героя, и прежде всего героя байроновского,– это тип бунтующего героя. Его бунт, увы, бессилен. Он бунтует против жестоких законов истории, против бессмыслицы человеческого существования, и отсюда, повторяю, глубокая внутренняя надтреснутость романтического героя. Кстати, лучше всего, мне кажется, можно доказать глубокую болезненность романтического искусства и атмосферы, его окружавшей, именно судьбами романтических художников.
Посмотрите, именно в первую половину XIX века мы наблюдаем ряд личных трагедий художника: сумасшествие Шумана, сумасшествие, связанное с алкоголизмом, Эдгара По, самоубийство Жерара де Нерваля, одного из крупнейших французских романтических поэтов, ранняя смерть Шуберта, ранняя смерть Шопена, огромное количество помешательств и самоубийств. В этом мы видим еще одно подтверждение наличия той болезненной атмосферы, в условиях которой рождается романтическое искусство. Конечно, судьба Гофмана, Новалиса, Шлегеля, Шуберта, Шумана, Шопена – все это социологически очень типичные явления.
Если композитор или художник и его герои находятся в разладе с действительностью, то, очевидно, одной из тем романтического искусства будет бегство от действительности. Романтический художник отворачивается от действительности, она ему кажется серой, сухой, будничной. Куда же он бежит, какие средства для ухода от действительности дает ему вымысел, его поэтическая фантазия? Здесь три пути, и по ним обычно идет романтическое искусство.
Первый путь – это бегство в прошлое, романтизация исторического прошлого. Второй путь – это бегство от действительности, так сказать, территориальное, географическое – эт° бегство в какие-то экзотические страны, где можно забыться, где можно совершенно отрешиться от будничных образов современной капиталистической действительности. Третий путь – это бегство в сферу чистого вымысла, чистой фантазии, это путь уединения художника в кругу духовных видений, фантастических образов, грез,
tot
Это путь фантастики. Романтизм и пойдет этими тремя путями: это будет историческая тема – бегство в прошлое, экзотическая тема – бегство в страны, еще не затронутые капиталистической цивилизацией, и, наконец, фантастическая тема – это гофманианство, которое, конечно, связано не только с фигурой Гофмана, но и, скажем, с фигурой Шумана.
5
Итак, художник-романтик бежит от современных тем. Для него прежде всего совершенно закрыта поэзия современного большого города. Романтический художник, наоборот, склонен представлять себе город как чудовище, как спрут, который высасывает кровь и мозг человека, который делает его расслабленным и анемичным. От современности, от поэзии современного большого капиталистического города романтик бежит в прошлое.
Какие же исторические эпохи художник-романтик берет по преимуществу? Зто> конечно, не античность. Античная мифология, греческая и римская история были использованы в классическом искусстве. Там мы встречали образы Ифигении, Агамемнона, Ахилла и Клитемнестры, образ Эдипа. Романтики открывают другую эпоху, которая как раз в XVIII веке у просветителей была очень не в чести,– средневековье.^ Любопытно, что огромное большинство романтических полотен, романтических повестей, драм, опер использует именно средневековый материал. Это поэзия старинных замков, соборов или башен, это поэзия руин, развалин, это галерея образов людей мощных, энергичных, словно высеченных из одного куска камня, людей, которые одеты в железные или стальные доспехи. Мы встречаем прежде всего у Вальтера Скотта богатейший цикл романов из средневековой жизни с любовным живописным воссозданием средневекового быта, романтики средневекового рыцарства. Известно, что Вальтером Скоттом в 20-х годах прошлого столетия зачитывается вся Европа. Им увлекаются и Пушкин, и Стендаль, и Бальзак. Вальтер Скотт раскрывает мир средневековья.
Интерес к средневековью вызывает также повышенный интерес к эпосу! Но уже не античный эпос, не «Илиада» Гомера и не «Энеида» Вергилия изучаются романтиками, а старинные средневековые сказания и баллады: эпос кельтских бардов, друидов, старинный скандинавский эпос, позже записанный руническими письменами («Эдда»), староисландские саги, знаменитый французский эпос XI века «Песнь о Роланде», вассале Карла Великого, который героически погибает в Ронсевальском ущелье, сражаясь вместе с кучкой доблестных друзей против полчищ сарацин, и, наконец, средневековый немецкий эпос («Песнь о нибелуи-гах»). Эти эпические сказания вдохновляют и драматургов и композиторов. Я укажу, к примеру, на Вагнера, который внимательнейшим образом изучает и скандинавские саги, и средневековый немецкий эпос и на этом материале создает свою тетралогию – «Кольцо Нибелунга».
Возьмите любой сюжет романтической оперы – например «Эврианту» Вебера или «Роберта-дьявола» Мейербера – всюду вы найдете средневековую тематику, которая впервые в таком масштабе овладевает искусством. В XVIII веке просветители – Вольтер, Дидро и другие относились к средневековью глубоко враждебно. Мы знаем, что на языке XVIII века самое слово «готический» означало варварский, дикий, невежественный, хаотический. Для просветителей XVIII века средние века были эпохой чудовищной жестокости, суеверий, инквизиции, схоластики, господства богословия и т. д.
Романтики, идеализируя докапиталистическую Европу, наоборот, склонны видеть в средневековье чуть ли не образец доблестной, патриархальной, героической жизни. Вместе со средневековьем, конечно, воскрешается и весь материал средневековой фантастики. Ведь это была эпоха, когда верили, что по развалинам замков бродят призраки и появляется тень Белой дамы; что из чащи выходят дикие чудовища, драконы, что по ночам из могил кладбища, освещенного луной, появляются призраки, упыри, вурдалаки, вампиры, которые пьют кровь; что где-то в Волчьей долине •справляет свою оргию нечистая сила и при диких звуках отливаются заколдованные свинцовые пули, которые убивают на любой дистанции и которые поражают любую цель; что по морям носится фантастический призрачный корабль с огненным багровым парусом, на котором мчится но волнам Летучий голландец, нигде не находящий себе пристанища, и т. д.
Эта поэзия средневековой фантастики ныне внедряется в романтическое искусство, и даже то, что казалось безобразным,– все эти образы чудовищ, грифов, саламандр где-нибудь на фронтоне собора Парижской богоматери,– сейчас приобретает глубочайший смысл.
Что же привлекает в средневековье романтического художника? Его привлекает прежде всего контраст между образом средневекового человека и образом человека современного. Вот этот самый гигант, закованный в латы, человек слепой веры, который мог отправиться за тридевять Земель отвоевывать Иерусалим,– этот образ кажется романтикам героическим, потому что он, сам романтик,– иного порядка человек. Это человек городской культуры, городского сплина, это человек, одержимый сомнениями, человек, который, пользуясь термином Гегеля, обладает «разорванным сознанием». И вот этому городскому человеку с этим разорванным сознанием необыкновенно привлекательным и величественным кажется образ какого-нибудь Зигфрида или Фридриха Барбароссы, или Роланда, который трубит в свой рог Олифант, призывая войска Карла так, что из его ноздрей течет кровь, и который одним взмахом меча Дурандаля сносит головы у целого полчища сарацин. Такие люди, обладающие необычайной цельностью сознания, не знающие колебаний и сомнений, являются идеалом для романтика. Конечно, он наделяет их положительными чертами, создает идеализированный тип рыцарства, который еще более контрастирует с современным миром наживы, низменных страстей и мелких интриг.
Такова первая историческая тема – тема средневековья. Ее вводят, повторяю, романы Вальтера Скотта. С поразительным живописным мастерством воссоздает средневековый город и Виктор Гюго в своем известном романе «Собор Парижской богоматери». Причем собор с его узкими витыми лестницами, колокольнями, готическими башнями, цветными окнами, сквозь которые едва-едва пробирается солнечный луч,– этот собор становится у Виктора Гюго символом средневековой цивилизации. Он является действительно главным действующим лицом романа.
Вторая тема – это, как я уже говорил, экзотическая тема. Художник-романтик стремится бежать туда, куда еще не проникли яд и сплин городской цивилизации. Вот почему Байрон будет воспевать идеальную жизнь прямых, примитивных, первобытных людей, которые не страдают бледной немочью современного городского человека. У Ша-тобриана герой удаляется в безбрежные просторы американских прерий, там стремясь найти забвение.
И среди европейских стран романтиков будут интересовать те из них, которые менее всего затронуты развитием капитализма, в которых еще живы образы, нравы, обычаи, одежды средневековья. Известен огромный интерес роман-1ИКОВ, например, к Испании. Причем, конечно, романтик интересуется Испанией не как политик: он интересуется Испанией не в отношении ее тогдашней очень интенсивной исторической жизни,– нет, его привлекает именно то, что осталось в Испании от прошлого. Это – необычайно красочные одежды, пунцовые розы и огромные инкрустированные гребни, сверкающие глаза гитаны, смертоубийственные страсти, кинжальные клинки, навахи, это – необычайная дикость, вспыльчивость, горячность цельного, не разжиженного городской культурой темперамента какого-нибудь баска или горца из Наварры. Так создается эта романтическая Испания, скажем, у Мериме.
На этом пути изучения различных национальных культур романтики впервые систематически обращаются к изучению фольклора. Влюбленность в прошлое вызывает потребность в собирании былин, баллад, легенд и сказаний, поговорок, сказок, народных песен и мелодий этих песен. Поэтому именно в романтическую музыку столь органично входит фольклорная тематика. Так, у Шопена раскрывается все богатство польского фольклора, так, Лист, а позже Брамс вводят в обиход европейской музыки фольклор венгерский; Лист использует не менее замечательный испанский фольклор и особенно – стиль «фламенко» (стиль андалузско-цыганско-мавританской песни). Действие «Дон-Жуана» и «Свадьбы Фигаро» Моцарта или «Фиделио» Бетховена также происходит в Испании. Но в партитурах Этих опер нет ни одной по-настоящему испанской темы или ритма болеро, фанданго или хоты!.. Начинается также необычайно внимательное изучение итальянского фольклора. Правда, романтики изучают фольклор под очень специфическим углом зрения: он им дорог именно потому, что это– прошлое, потому, что это принципиально отлично от современности, но, повторяю, в деле изучения музыкального фольклора романтики сыграли решающую роль.
Но темы экзотической природы или фольклора не снимают основной проблемы романтической тоски и одиночества. Огромная пропасть разделяет «Пасторальную симфонию» Бетховена от позднейших произведений, где встречаются пасторальные картины. У Бетховена полное слияние человека с природой. У романтиков иное дело. Между экзотической или вообще всякой природой и человеком существует глубокое противоречие. Природа величава, спокойна, холодна, равнодушна к человеческому страданию. И вот на фоне этой прекрасной, величественной природы мы видим мятущегося, не находящего себе покоя байронического человека.
Вот Манфред у Байрона или Шумана блуждает по отрогам Альп. Перед его взором развертываются ослепительные картины: снег, озаренный лучами солнца, ярчайшая белизна вершин альпийских скал. Где-то внизу пастбища, зеленеющие равнины, откуда-то издали доносится звук бубенцов коров. Возвращаются стада, солнце закатывается. Пастух на свирели наигрывает свою наивную песню, и эта картина природы дается именно как контраст к внутреннему миру человека. «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет» (Пушкин), и человек по-преяшему остается глубоко одиноким на фоне этой природы.
Таков сюжет симфонии «Гарольд в Италии» Берлиоза. Гарольда мы встречаем на фоне смеющейся, озаренной лучами солнца роскошной итальянской природы, но эта природа только подчеркивает контраст к опустошенности души Чайльд-Гарольда. Вот почему и среди американских прерии, и среди каких-нибудь пиренейских проходов, и Апеннинских или Абруццких гор этот романтический герой всегда остается верным себе, он не может преодолеть своей раздвоенности, своей тоски. Природа дается именно как необычайно контрастный фон для переживаний человека.
Поэтому романтическое искусство редко когда дает солнечный, ликующий, смеющийся пейзаж, чаще же всего – Это пейзаж ночной: кладбище, развалины замка, безбрежная, унылая гладь моря, седые туманы, дикие отроги скал, то есть поэзия природы^возвышенной и страшной. У романтиков этот пейзаж всегда как-то контрапунктирует с темой умирания: это – осень, поэзия вянущих, сохнущих листьев, поэзия одинокой, всеми давно забытой, поросшей мхом часовенки или развалин старого замка, которые говорят лишь о былом величии...
Сказанное относится, повторяю, не только к живописи. Возьмите любую романтическую балладу – и тут вы встретите ночь, блеск луны, кладбище, привидения и т. д. Возьмите морские пейзажи романтиков в музыке, скажем, ту изумительную картину, которую дал Мендельсон в «Финга-ловой пещере»,– это безбрежная, спокойная и необыкновенно тоскливая гладь моря, свинцовое небо, где-то вдали вода сливается с горизонтом... То же самое можно сказать относительно «Шотландской симфонии» Мендельсона, морского пейзажа в «Летучем голландце» Вагнера и т. д.
Наконец, третья тема (она неразрывно связана и со второй и с первой темой) —это тема фантастики, говорящая о своеобразном переплетении мира предметного, реального и мира потустороннего, вымышленного. На этом строится, в частности, вся романтика Гофмана. У Гофмана иной раз самые простые люди, самые обыденные вещи вдруг оборачиваются совершенно иной стороной, и вы видите, что это не скромный портной, а какой-то маг и волшебник, это не просто кошка, а какой-нибудь дух, это не просто хижина или же пропитанная табачным запахом комната в каком-нибудь погребке, но вместилище каких-то иных сил, которые действуют вокруг человека и в руках которых человек является только марионеткой, пешкой.
6
Таким образом возникает еще одна тема – тема глубочайшей раздвоенности между действительностью и мечтой, между реальностью и вымыслом, между жизнью и сферой грез, которую создает художник. Любопытно, что романтики по-новому поворачивают, например, тему о «Дон-Кихоте». Дон-Кихот – это не смешной чудак, это не маньяк. Дон-Кихот у романтиков – это глубоко трагическая фигура. Трагедия Дон-Кихота заключается именно в том, что он – в подлинном смысле слова романтический герой; что он живет мечтой; что эта мечта иной раз настолько сгущается перед его мысленным взором, что заслоняет собой действительность. Дон-Кихот – именно благородный и трагический безумец, и в том, что он верит, что это не грязная девка Альдонса, а прекрасная Дульсинея, что это не простое стадо баранов, а непобедимые войска сарацинского царя Али-фанфарона, что на голове цирюльника не медный таз, а шлем Мамбрина,– в этом трагедия Дон-Кихота. И его трагедия – это трагедия всякого художника, который создает творимую легенду. И беда этого художника заключается только в том, что время от времени ему приходится падать из мира вымыслов на землю, и тогда его пробуждение будет страшным и трагичным. Ибо тем страшнее разочарование, которое постигает Дон-Кихота, когда он убеждается, что он жил бредом, вымыслом, прекрасной мечтой.
Характерно, что если романтики берутся за изображение современной темы, они выбирают прежде всего тему о творце-художнике. Не полководец, не какой-нибудь легендарный Ахилл со своим Мирбидонским щитом, не фиванский парь Эдип,– нет] героем романтического искусства чаще всего является сам художник, и трагедия художника заключается именно в его глубоком одиночестве, глубоком раздвоении между действительностью и тем прекрасным миром, который он сам создает.