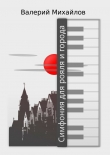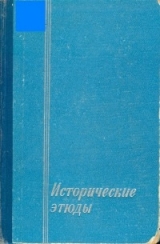
Текст книги "Исторические этюды"
Автор книги: И. Соллертинский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 28 страниц)
1859. «Радость любви», романс Мартини, инструментовка для малого оркестра.– «Орфей» Глюка, обработка для Лирического театра.
1860—1861. «Всемирный храм», кантата на текст Бодена для двойного хора и органа. Написана для Международного фестиваля в Лондоне, ор. 28.
1861. «Альцеста» Глюка, обработка для парижского театра Гранд-опера. Гимн для освящения новой скинии, для трехголосного хора.
1860—1862. «Беатриче и Бенедикт», комическая опера в двух актах, по комедии Шекспира «Много шуму из ничего». Текст Плувье и композитора. Написана для открытия театра в Баден-Бадене 9 августа 1862 г. Веймарская премьера 10 апреля 1863 г.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ СОЧИНЕНИЯ БЕРЛИОЗА
1. «Voyage musical en Allemange et en Italie», 2, vol. Paris, 1844.
2. «Traite de l’instrumentation suivi de la theorie du chef d’or-chestre». Paris 1844 et 1856.
3. «Les soirees de Torchestre» 2 vol. Paris, 1852.
4. «Les grotesques de la musique». Paris, 1859.
5. «А travers chants». Etudes musicales, adorations, boutades et critiques. Paris, 1863.
6. «Memoires», 2 vol. Paris, 1817. Русский перевод Гектор Берлиоз* Мемуары. Перевод с французского А. В. Оссовского, СПб, 1896.
7. Ряд сборников писем – к Эмберу Феррану, к княгине Сайн-Витгенштейн и др.
г «МОРЯК-СКИТАЛЕЦ» ВАГНЕРА
1
«Драматическая баллада» – так определил сам автор тот жанр, к которому принадлежит «Моряк-скиталец» («Летучий голландец»).
Старинная морская легенда положена в основу этой романтической оперы. Корни ее, по-видимому, восходят к эпохе «великих открытий», конквистадоров и первых колониальных экспедиций. Впрочем, литературную ее фиксацию мы встречаем впервые в XIX столетии – в английской мелодраме Фицбалля, шедшей в Лондоне в 1827 году, в известном романе капитана Мариетта (1839) и т. д.
Вагнер наталкивается на легенду о моряке-скитальце у Гейне. Отправной точкой для него служит следующий пассаж из «Воспоминаний господина фон Шнабелевопского»:
«Предание о летучем голландце – это история околдованного корабля, который никогда не может достичь гавани и с незапамятных уже времен носится по морю. Если он встретится с другим судном, то некоторые моряки из таинственного экипажа подъезжают к нему на лодке и покорнейше просят захватить с собой пакет с письмами. Письма Эти должны быть накрепко прибиты к мачте, иначе с кораблем приключится несчастье, особенно же если на борту судна нет библии, а на фок-мачте – подковы. Письма всегда адресованы людям, которых никто не знает и которые давным-давно умерли, так что иногда случается, что кто-либо получает любовное письмо, отправленное его бабушке, которая уже больше сотни лет покоится на кладбище. Этот деревянный призрак, этот страшный корабль носит имя своего капитана-голландца, который некогда поклялся всеми дьяволами, что он обогнет мыс, название которого я запамятовал, вопреки жесточайшему урагану, хотя бы ему пришлось носиться под парусами вплоть до страшного суда. Дьявол поймал его на слове, и голландец должен скитаться по морю до самого второго пришествия, если только его не освободит от заклятия женская верность». Эту последнюю черту, по-видимому, присочинил к легенде сам Гейне.
«Ночью,– продолжает поэт,– я внезапно увидел большой корабль с поднятыми кроваво-красными парусами; он казался темным великаном в широком багровом плаще. Был ли то Летучий голландец?»
С рассказом Гейне Вагнер познакомился еще в Риге, летом 1838 года. «Этот сюжет привел меня в восторг,– пишет он,– и неизгладимо запечатлелся в душе; но во мне не было еще необходимых для его воспроизведения сил». Вскоре, однако, литературная традиция скрещивается с личным опытом. Вагнер бежит из Риги, где он занимал скромный пост капельмейстера, в Париж. Бежит, спасаясь от многочисленных кредиторов, угрожающих долговой тюрьмой, тайком – при помощи местечковых контрабандистов – переходит границу и в маленькой восточно-прусской гавани Пиллау садится на парусное судно, чтобы плыть морем до Лондона. Путешествие длится три недели; на море бушует шторм; утлый парусник не приспособлен для перевозки пассажиров; о комфорте нет и речи; спасаясь от бури, судно укрывается в одном из норвежских фиордов. Перипетии морского путешествия производят на Вагнера потрясающее впечатление; из уст матросов парусника – бывалых «морских волков» – он вновь слышит предание о призрачном корабле и о загадочном голландском капитане. Контуры будущей оперы внезапно проступают с поразительной отчетливостью. В 1840 году драма набросана, в 1841 – закончена. «Я начал с хора матросов, и песни за прялкой, – пишет Вагнер в автобиографическом эскизе. – Все мне стремительно удавалось, и я громко ликовал от радостного внутреннего сознания, что я еще музыкант. В семь недель была сочинена вся опера. К концу этого времени меня вновь начали одолевать самые тягостные заботы о существовании; прошло целых два месяца, пока я наконец смог написать к уже законченной опере увертюру, хотя я и носил ее почти готовой в голове». Премьера оперы состоялась под управлением самого Вагнера 2 января 1843 года в дрезденском Королевском театре. В роли Сенты выступила великая трагическая певица Вильгельмина Шрёдер-Девриент.
2
В одной из ранних статей, написанной в Париже (1842) и посвященной разбору оперы Галеви «Королева Кипра», Вагнер приступает к развитию мысли, которая позже займет выдающееся место во всем его музыкально-философском мировоззрении: совершенное оперное произведение возможно лишь при условии соединения порта и композитора в одном лице.
Эту идею Вагнера иные комментаторы склонны были понимать упрощенно: композитор-де сам должен сочинять свои либретто. Вагнер же говорит о другом: не о либретто, имеющем служебное назначение относительно будущей оперы, но о подлинной поэтической драме, принадлежащей большой литературе, хотя и требующей дальнейшего музыкального оформления. И если в предшествующей опере – «Риенци» – Вагнер все-таки был в большей мере либреттистом, инсценирующим роман Бульвер-Литтона и перекраивающим его в помпезную «большую оперу», то в «Моряке-скитальце» он выступает с самостоятельной портико-драматической концепцией.
Прежде всего, по сравнению с легендой и вариантом Гейне, Вагнер осложняет и углубляет образ таинственного голландца. Это – не просто лихой капитан, который попадается дьяволу в сети за фанфаронскую браваду, подкрепленную изрядной порцией сногсшибательных морских ругательств. Голландец Вагнера скорее сродни Одиссею, или «вечному жиду» – Агасферу, или байроновскому Манфреду. Чем вызвано страшное проклятие – так и остается до конца не разъясненным. Это окружает его ореолом тайны. С жуткой эффектностью подготовлено его первое появление: среди неистово бушующих волн, на горизонте, при вспышках прорезающих мглу молний виден корабль, несущийся к береговым рифам с фантасмагорической быстротой. Молча, без обычных песен и возгласов, совершаются приготовления к высадке: медленными шагами выходит на берег призрачно-бледный капитан, закутанный в темный плащ, с чертами лица, искаженными усталостью и отчаянием. Следует большой трагический монолог. Тот, кого мы готовы были принять за ночной мираж, оказывается глубоко страдающим человеком.
Голландец стал хронологически первым действительно трагическим героем Вагнера. Ибо, если отвлечься от всей романтической аппаратуры – ревущего океана, сверкающих молний, пушечных выстрелов, угрюмых скал и развеваемых ураганом черных плащей,– перед нами один из вариантов «молодого человека XIX столетия», одержимого «мировой скорбью». Летучий голландец – романтическое выражение трагедии мелкобуржуазного интеллигента-ху-дожника, бездомного, гонимого непризнанием и нуждой, скитающегося по европейским столицам в тщетных поисках родины. Проблему рокового и двусмысленного положения художника в капиталистическом мире Вагнер ставил на разные лады – и в теоретических работах, и в памфлетах, и в музыкальном творчестве. Автобиографические черты (и в то же время типологические черты «трагедии художника») проступают в «Голландце» совершенно отчетливо. Сам Вагнер писал, сравнивая «Риенци» и «Моряка-скитальца», чта в промежуток времени между сочинением ртих двух опер с автором произошло нечто значительное. Пребывание
Ш
в Париже углубило психологический кризис Вагнера. «Моряк-скиталец» полон зловещих и мрачных страниц. Правда, это еще далеко не законченное мировоззрение; впереди еще предстоят революционные схватки, дрезденские баррикады и судьба политического эмигранта. Пессимизм «Голландца» – это скорее пессимизм юношеских «бури и натиска», и в известной мере прав немецкий музыкальный критик Макс Граф, когда он проводит параллель между «Моряком-скитальцем» и «Вертером» Гёте.71 Впрочем, сходство этих произведений лежит отнюдь не в плоскости общей идеи или развертывания сюжета, но скорее в общей психологической тональности.
3
«Моряк-скиталец» интересен и в другом отношении: в нем впервые выступает идея искупления, которой в дальнейшем творчестве Вагнера суждено будет занять центральное место. Желанная и недоступная смерть для голландца наступит лишь тогда, когда его проклятие будет искуплено любовью женщины, приносящей себя в жертву. Миссию искупительницы принимает на себя дочь норвежского моряка Даланда – Сента: в заключительной сцене оперы она бросается со скалы в море – и в ту же минуту погружается на дно заколдованный корабль со всем экипажем; «пытке бессмертием» наступает конец.
Баллада Сенты о летучем голландце становится центром действия и зерном всей оперы. Сента полна предчувствий; она подолгу всматривается в портрет чернобородого незнакомца в плаще, висящий на стене в комнате отца (прием, заимствованный Вагнером у представителей так называемой «драмы рока» – «Schicksalsdrama»: ЗахаРиаса Вернера, Гувальда, Мюлльнера и др., в чьих трагедиях фигурируют всевозможные «роковые предметы»). Драматизм усиливается с появлением Эрика – жениха Сенты, персонажа, неизвестного легенде и введенного Вагнером для создания трагического конфликта. Эрик рассказывает вещий сон, где фигурирует незнакомец с портрета. Экзальтированная Сента доходит чуть ли не до полной галлюцинации. Внезапно раскрывается дверь: входят Даланд и голландец – оригинал таинственного портрета, его живой двойник...
Вся эта фантастика, ведущая поэтическое начало от романтических баллад Бюргера, Уланда и их английских параллелей, от выше упоминавшихся «драм рока», а музыкальное – от опер Вебера и Маршнера (особенно от «Ганса Гейлинга»), от замечательных, у нас далеко не оцененных баллад Лёве,– уживается у Вагнера с известными элементами реализма. В любопытных «Замечаниях по поводу исполнения оперы „Летучий голландец"», характерно обрисовывающих Вагнера как режиссера, композитор всячески подчеркивает необходимость реалистического изображения не только природы – океана, движущегося корабля (давая при этом технические указания декоратору и машинисту), но и героев оперы. В отношении наиболее трудной роли – Сенты он предостерегает: «Никоим образом не изображать мечтательное существо в духе модернистической, болезненной сентиментальности! Напротив, Сента – коренная уроженка Севера и при всей своей кажущейся сентиментальности сплошь наивна. Именно на такую наивную девушку, со всем своеобразием ее северной натуры, баллада о летучем голландце и портрет бледного моряка могут произвести столь сильное впечатление, чтобы внушить мысль об искуплении проклятого героя». И дальше Вагнер распространяется об особой восприимчивости норвежских девушек, желая тщательно мотивировать с точки зрения этнической психологии поведение Сенты. Поэтому вряд ли композитор присоединился бы к мнению тех комментаторов, которые видят в Сенте лишь воплощение принципа «вечно женственного» вроде Гретхен из II части «Фауста», а в диалоге ее с Эриком – столкновение «идеального сострадания» с «эгоистической реальностью мира».
Однако и реалистические тенденции Вагнера в «Мо-ряке-скитальце» не следует переоценивать. Непрерывное балансирование между фантастикой и действительностью, миром иллюзорным и миром реальным характеризует не только Вагнера начала 40-х годов, но и его музыкальных предшественников; Гофмана, Вебера, Шпора, Маршнера. Выйти на дорогу большого реалистического искусства немецкая опера первой половины XIX века не смогла, как не смогла и немецкая литература стать на путь реалистического романа в духе Бальзака или «Мадам Бовари» Флобера. Вот почему и в «Моряке-скитальце» преобладает романтическая раздвоенность: Сента находится на полпути
между простой крестьянской девушкой и экстатической
визионеркой, одаренной мистическим прозрением; сам «летучий голландец» – на полпути между Агасфером или байро-новским Каином и стандартным героем приключенческого морского романа. И лишь Даланд – не вполне удавшаяся бытовая (впрочем, отнюдь не комическая, как трактуют иногда исполнители) фигура старого моряка – отца Сенты, чересчур поспешно сватающего свою дочь за богатого незнакомца,– да эпизодические типажи норвежских матросов Даландова экипажа замышлялись автором целиком в реалистических тонах. Что касается Эрика, то, по вагнеровской ремарке, он менее всего «сентиментальный пискун» или рутинный лирический тенор; автор даже советует выпустить из его партии несколько мест (например, заключительную каденцию из каватины III акта), если они будут способствовать слащавому исполнению роли; однако нельзя отрицать, что Эрик – достаточно традиционная фигура в доваг-неровской немецкой опере: вспомним веберовского Макса или охотника Конрада из «Ганса Гейлинга» Маршнера.
И тем не менее, несмотря на раздвоенность общей концепции, на романтическую бутафорию, на явственные следы влияний предшествующей немецкой оперы, на ряд штампованных мест, на риторику, временами подменяющую трагический пафос, «Моряк-скиталец» является громадным шагом вперед в истории становления вагнеровской музыкальной драмы. От «Риенци» его отделяет если не пропасть, то, во всяком случае, серьезная дистанция. В нем есть единство музыкального замысла. Если песню рулевого, песнь за прялкой, каватину Эрика и можно еще рассматривать как некие оперные «номера», хотя и включенные в музыкальнодраматическую ткань оперы, то баллада Сенты есть ее подлинный стержень. «В этом отрывке, – пишет Вагнер, – я бессознательно заложил тематическое зерно всей музыки оперы: это был мой творческий эскиз всей драмы, как она вырисовывалась в моей душе, и, когда я должен был озаглавить готовую работу, я был не прочь назвать ее „драматической балладо й”».72
Оперу предваряет широко задуманная драматическая увертюра, ныне одна из популярных концертных вещей. Лист в своем превосходном разборе «Летучего голландца» «(Dramaturgische Blatter, 2-я часть) по праву называет рту увертюру подлинной «инструментальной драмой». Центральный музыкальный образ увертюры – бушующий океан, по которому игрушкой ветров носится корабль-привидение. Портика моря всегда привлекала композиторов-романтиков: лучшие примеры тому – элегические пейзажи «Фингаловой пещеры» и «Шотландской симфонии» Мендельсона. Увертюра «Моряка-скитальца» выдержана в тонах «бури и на

тиска»; океан ревет и неистовствует; в валторнах и фаготах трагически звучит тема проклятия, интонирующая преимущественно тонику и доминанту. Ей сопутствует тремоло

скрипок в высоком регистре, к которому на шестом такте присоединяются хроматические пассажи альтов и виолончелей. У медных инструментов преобладают тревожные сигналы. Основному мотиву противопоставлена мелодия

Сенты (английский рожок, валторна), соответствующая одной из фраз баллады II акта. Вновь воцаряется основной темп с характеристикой бури и проклятия; у скрипок, флейт и гобоев слышны интонации большой и сумрачной арии – монолога голландца из I акта. После большого нагнетания звучности, когда вновь возникает образ мчащегося по волнам призрачного корабля, – как контраст звучит веселая морская песенка. Еще раз возникает картина шторма, последние трагические перипетии в оркестре – и увертюра заканчивается апофеозом мотива баллады об искуплении.
Несмотря на кажущуюся разорванность, увертюра является одной из высших точек музыкального действия оперы. Кульминационные пункты есть и в каждом акте: в I – мрачный монолог-ария голландца; во II – баллада Сенты и развернутый дуэт; в III – ярчайший контраст оживленного хора подвыпивших людей Даланда и мертвой тишины на корабле голландского капитана, за которой следует странный демонический хор, немного в стиле гротеска Берлиоза, заканчивающийся сатаническим хохотом Экипажа призраков. Вместе с тем в опере встречается много неудачных мест: временами теряется драматическая напряженность (например, финал II акта, действующий после предшествующего дуэта расхолаживающе); есть пустоты и провалы; многое эскизно намечено. (Не следует забывать и о двадцатисемилетнем возрасте композитора; тем более, что – в отличие от Моцарта или Берлиоза – музыкальный гений Вагнера формируется довольно медленно.)
«Моряк-скиталец» в целом не принадлежит к числу наиболее излюбленных опер Вагнера. В известной мере это справедливо: в сравнении с «Тристаном» или «Гибелью богов» он может показаться примитивным, романтически-вы-епренним, декоративно-мелодраматичным, порою даже аляповатым. Ортодоксальные вагнерианцы обычно ставят ему в вину «оперность». Вагнер-де не реализовал в нем того идеала музыкальной драмы, которому впоследствии суждено будет раз навсегда ликвидировать всяческую оперную условность и который воплотился в «Кольце Нибелунга». Именно по этим соображениям несколько недооценивают «Моряка-скитальца» многие из правоверных байрейтского круга. Однако подобная точка зрения в настоящее время все более теряет убедительность. Ибо, после того как рассеялся байрейтский гипноз, стало ясно, что Вагнер отнюдь не ликвидировал оперные условности; в лучшем случае он несколько подновил их. Разве не остались в тетралогии всевозможные переодевания, русалки, вещие пряхи-норны, бутафорский дракон, волшебные напитки и магические заклинания, охотничьи приключения, клятвы о кровном братстве и романтические убийства, трескучие монологи и бесконечные экспозиции «валгалльских дрязг», которые вывели из себя Чайковского в бытность его в Байрейте?
С этой точки зрения, «Моряк-скиталец» неожиданно выигрывает: театральность в нем более неподдельна, сконцентрирована, красочна: контрасты более драматичны, действие более стремительно, нежели в том же «Кольце Нибе-лунга». В «Голландце» нет утомительных и запутанных повествований, где в сотый раз рассказывается то, что давным-давно известно слушателю, но неизвестно кому-либо из действующих лиц, вроде рассказа Логе Вотану о похищении рейнского золота, которое зрители только что сами видели и о чем позже вновь будет рассказывать Вотан Брунгильде. В «Голландце» нет казуистических договоров, так усложняющих композицию «Кольца» тетралогии. Его драматическая структура ясна, характеры резко очерчены. При этих бесспорных сценических преимуществах «Моряк-скиталец» знаменует собой крупную веху и в становлении музыкального языка Вагнера. В нем уже отчетливо даны элементы лейтмотивной системы, хотя опять-таки далеко не в том рационалистически расчлененном, анатомизированном виде, что в «Кольце Нибелунга». Во всяком случае, мы вправе утверждать, что именно с «Моряка-скитальца» начинается вагнеровский этап истории европейской музыки.
О «КОЛЬЦЕ НИБЕЛУНГА» ВАГНЕРА
1
В 1848 году, за год до дрезденского восстания, Вагнер приступает к сочинению самого гениального и самого монументального своего произведения. Содержание его почерпнуто из двух источников: «Здды» – скандинавского эпоса, возникшего в VIII—IX веках, и «Песни о нибелунгах» – немецкого эпоса начала XIII века. В 1848 году появляется первый литературный набросок вагнеровского текста – «Смерть Зигфрида». Вскоре Вагнер убеждается, что 6 рамках одной драмы невозможно уложить все глубокое содержание мифа о нибелунгах, для чего в 1851 году прибавляет вторую часть, которую называет «Молодой Зигфрид». Позже, когда композитор уже начал работать над музыкой «Кольца Нибелунга», он пришел к еще более радикальному убеждению, что и в две музыкальные драмы все содержание мифа не вместится, и поэтому задумал грандиозный цикл из четырех музыкальных драм – отсюда и появилось название «тетралогия».
Вагнер работает над частями тетралогии в следующем порядке: в 1853—1854 годах он создает партитуру первой части (предвечерья) – «Золото Рейна»; в 1854—1856 годах заканчивает вторую часть (первый день) – «Валькирия»; в 1856 году Вагнер принимается писать третью часть (второй день) – «Зигфрид», но внезапно бросает этУ тему и начинает лихорадочно работать над новой оперой – «Тристан и Изольда», законченной в 1859 году в Венеции. Затем композитор снова обращается к «Зигфриду»; однако работа опять прерывается новым замыслом, который зрел у него уже давно, но был осуществлен в 1862 году. Зто – бытовая комедия, озаглавленная «Нюрнбергские мейстерзингеры». Лишь в конце 60-х годов Вагнер наконец принимается за «Зигфрида» и в 1871 году заканчивает партитуру. Еще раньше, нежели была завершена партитура «Зигфрида» в 1870 году, Вагнер приступает к работе над последней, пожалуй наиболее гениальной, частью тетралогии – «Гибель богов» (третий день) и в 1874 году дописывает последнюю строчку. Таким образом, работа над всей тетралогией заняла 26 лет – с 1848 по 1874 год.
За этот период утекло много воды, и самый замысел Вагнера претерпел очень серьезные изменения. В истории искусства «Кольцо Нибелунга» занимает совершенно исключительное место. Его можно сравнить с таким многочастным и многотемным произведением, каким является «Человеческая комедия» Бальзака. По мысли гениального романиста-реалиста, оно должно было охватить всю картину жизни тогдашней Франции сверху донизу; в 1850 году смерть прервала работу Бальзака над гигантской эпопеей. Можно сравнить «Кольцо Нибелунга» и с другой серией романов – «Ругон-Маккары», принадлежащей перу Змиля 30ЛЯ* Наконец, по масштабности идейного замысла уместно сравнить тетралогию с такими выдающимися произведениями мировой литературы, как «Божественная комедия» Данте или «Фауст» Гёте.
Вагнер приступает к сочинению «Кольца Нибелунга» непосредственно под влиянием революционных событий. Естественно возникает вопрос: какова связь между дрезденской революцией 1849 года и замыслом «Кольца»? В Дрездене Вагнер встречался с Бакуниным, распространял прокламации и сражался на баррикадах, – а в «Кольце Нибелунга» будут фигурировать мифическая обитель Валгалла, бог Вотан с одним глазом, одетые в панцирь валькирии, рейнские русалки, волшебные напитки и поединки. Что общего между миром скандинавских и немецких сказаний и кипучей общественно-политической действительностью Германии середины XIX века?
Может быть, Вагнер просто бежал от этой действительности в область прошлого? Таков путь, который нередко избирали романтики, которые, отворачиваясь от кричащих социальных противоречий современности, идеализировали средневековье. Но Вагнер стоит на другой точке зрения, и в ртом отношении он не романтик.
Вагнер говорит: поэт должен брать свои сюжеты не из модного романа и даже не из истории, потому что и история иной раз отражает нечто случайное. Темой подлинной музыкальной драмы должно быть отстоявшееся всеобщее содержание, которое можно найти только в народной сокровищнице – в легенде, в мифологии. При этом Вагнер ссылается на античность. Откуда черпали свои сюжеты великие греческие трагики Эсхил» Софокл, Еврипид? – Из мифов и легенд, из цикла рассказов о Троянской войне, о мщении Ореста за смерть Агамемнона, о царе Эдипе и целом ряде других великих мифологических, легендарных героев. Драгоценная особенность мифа, говорит Вагнер, заключается в том, что миф есть продукт индивидуального творчества или личного каприза художника, – миф творится народом. Эт0 есть откристаллизовавшаяся и отстоявшаяся народная мудрость в неповторимом сочетании идеи и конкретной образной формы. Так, солнечный миф претворился в легенду о страдающем боге Дионисе, мифическое истолкование грома породило представление о Юпитере-громовержце или боге Доннере в германской мифологии. Миф вечен: с одной стороны, он универсален, а с другой – каждая историческая эпоха прочитывает его по-своему и находит в нем отражение того, что глубоко современно и злободневно.
Какие же стороны мифа о нибелунгах больше всего волнуют Вагнера?
Прежде всего Вагнер считает остро современной основную тему этого мифа. Речь там идет о кладе, о золоте, о роковом кольце, сделанном из золота и несущем с собой раздоры, вражду, кровопролития, междоусобицу; о золоте, благодаря которому брат восстает на брата, сильный эксплуатирует слабого; о золоте, которое уродует и ломает человеческую психику. Разве это не современная тема? Вагнер говорит: у меня носителем клада является уродливый карлик Альберих; но переоденьте этого Альбериха из его чешуйчатого зеленого камзола в современный смокинг, дайте ему в руки портфель биржевого дельца – разве вы не признаете в нем современного капиталиста?
Вторая тема, которую Вагнер берет из мифа и которая кажется ему также глубоко современной – это тема гибели богов, гибели Валгаллы. Античная греческая и германская мифологии не знают представления, существовавшего в очень многих восточных религиях, о боге вечном, всемогущем, вездесущем. Боги Греции являются теми же людьми, только более могучими, более прекрасными, и над богами, как и над людьми, возвышается третья власть – власть безликой и неумолимой судьбы – «ананке». Такая же концепция характерна и для германской мифологии. И там существуют люди, существуют боги, но их могущество не бесконечно, боги не всесильны: и над ними довлеет безликая, неумолимая сила судьбы. Воплощением этой судьбы являются три вещих парки-норны, которые прядут нить жизни. Вмешаться в их работу не могут боги: они также обречены на гибель; наступит время – и Валгалла сгорит в мировом пожаре.
Вагнер спрашивает: разве наше время (т. е. 50—60-е годы XIX в.) не наполняет душу человека, следящего за историческими событиями, сознанием близости какой-то страшной мировой катастрофы? Разве нет у современного человека ощущения, что в огне мирового пожара должен родиться новый социальный строй, новое человечество, уже свободное от рокового гипноза золота?
По мысли Вагнера, мир может быть избавлен от власти золота социалистом-искупителем, простым смертным, который пожертвует своей жизнью. Это будет герой-одиночка, так как в представлении Вагнера революционер – всегда одинокий герой (вспомним Риенци). Такова центральная фигура «Кольца Нибелунга» – лучезарный, солнечный, абсолютно свободный от власти золота, лишенный эгоизма Зигфрид.
Для того чтобы понять роль Зигфрида, необходимо остановиться на связи вагнеровской концепции мифа с тем философом, который в 40-х годах оказал на композитора огромнейшее влияние. Это был знаменитый немецкий материалист Людвиг Фейербах.
Фейербаховскую философию часто называют антропологической философией, потому что ее основой является не бог, не вселенная, а человек, причем – я сошлюсь на знаменитую книгу Фейербаха «Сущность христианства» – человек не есть создание рук божества. Наоборот, он сам создает богов по своему образу и подобию. И Юпитер-Зевс громовержец, и богиня красоты Афродита, и Аполлон с лучезарным хороводом муз, и Арей – бог войны, – не что иное, как идеализированное порождение человеческой фантазии. Вагнер главным героем тетралогии, который спасет не только людей, но и богов, делает человека ЗигФРида. Больше того: подвиг Зигфрида может совершиться лишь при условии, что никакая божественная сила не будет ему помогать. Сам человек, своим человеческим подвигом, человеческими руками должен спасти мир от проклятия золота. Такова роль человека Зигфрида, которая противопоставлена бессилию бога Вотана.
От Фейербаха Вагнер берет и другое положение. В «ан-тропосе» борются два принципа; один заставляет человека замыкаться в своей скорлупе, в собственном «я», – это принцип себялюбия и эгоизма. Его выражением является воля к власти, к могуществу и, как одно из средств к достижению этого, страсть к деньгам. Именно в воле к власти эгоизм достигает своего наиболее сильного воплощения; чтобы самому стать повелителем, человек топчет другое «я», другую индивидуальность.
Принципу эгоизма Фейербах противопоставляет иной принцип – альтруизма. Высочайшим выражением этого принципа является любовь, ибо из любви человек готов пожертвовать собой ради другого существа, именно любовь позволяет ему преодолеть свой эгоизм, обрести настоящее бессмертие в памяти человечества.
Этот ход размышлений Фейербаха отражается на вагнеровской концепции. В тетралогии золотом может овладеть лишь То существо.– будь то бог или человек, – которое
209
И. Соллертинский. т 1
Откажется от любви, проклянет ее, обречет себя на безлю-бое существование; такой человек и будет абсолютным эгоистом. Наоборот, лишь свободный от власти золота герой, приносящий свою жизнь в жертву, сможет спасти мир. Этот человек будет совершенным выразителем нового принципа любви. Так фейербаховская философия образно претворилась в «Кольце Нибелунга» Вагнера.
2
В «Кольце Нибелунга» действуют три группы персонажей. Во-первых, мир богов – обитателей неслыханно прекрасного дворца, который воздвигнут на берегу Рейна на высокой скале и называется Валгаллой. В этом мире фигурируют следующие, в высшей степени важные персонажи: прежде всего центральный образ, один из самых сложных в германской мифологии и у Вагнера, – бог Вотан, повелитель Валгаллы, закованный в латы, с мечом Нотунгом, с копьем; его сопровождают два ворона. Вотан, который совмещает в себе и великий ум, и великую жажду власти, который является одновременно и Фаустом и Мефистофелем, желая знать будущее и тайны судьбы, когда-то пожертвовал своим глазом, чтобы обрести настоящее знание, но это Знание оказалось роковым. Он узнал, что боги совершат преступление, и этим преступлением будет все та же роковая жажда власти; поэтому мир богов обречен на гибель в огне, и только человек, абсолютно бескорыстный, лишенный чувства эгоизма, может сделать попытку спасти его.
Рядом с Вотаном встречаем его супругу, воинственную Фрику; богиню весны и молодости Фрейю, которая питает своими золотыми яблоками богов и дает им возможность сохранить вечную юность; бога-громовержца Доннера и, наконец, наиболее загадочное существо, одновременно и помощника, и предателя богов, противоречивого, лживого, обманчивого и в то же время демонически прекрасного Логе– бога вьющегося, змеящегося огня.73