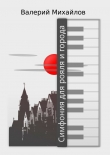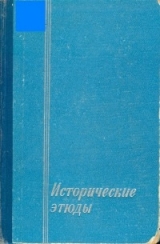
Текст книги "Исторические этюды"
Автор книги: И. Соллертинский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 28 страниц)
произведениях – «Песни о земле», Девятой симфонии и незаконченной Десятой.
Музыка была для него совершенно неотделима от социально-этических, мировоззренческих задач, стоящих перед человеком. Процитируем еще раз письмо к Бруно Вальтеру: «Поразительно. Когда я слушаю музыку,– также и во время дирижирования,– я слышу совершенно отчетливые ответы на все мои вопросы, и во мне все проясняется и успокаивается. Или, точнее – я ощущаю совершенно отчетливо, что это вообще не вопросы».
Любимым автором Малера был Достоевский. Не реакционный политический писатель, ядовитый памфлетист «Бесов», не апологет православия,– но творец «Бедных людей», «Униженных и оскорбленных»... Малер где-то обмолвился, что всю жизнь сочиняет музыку собственно на один вопрос Достоевского: «как могу я быть счастлив, если где-нибудь еще страдает другое существо». Романтик-утопист, Малер пытался найти выход не в политической борьбе, но в моральном подвиге, проповедью которого и должен был служить его симфонизм, полный высокого социально-этического пафоса. Уже современникам и критикам бросалось в глаза, что нерв творчества Малера – сострадание к горестям «большинства человечества, страдающего под игом стригущего купоны меньшинства» (статья Ганса Редлиха в посвященном Малеру номере австрийского музыкального журнала «Musikblatter des Anbruch», 1930, № 3). Никаких иных узко музыкальных задач Малер перед собой не ставил, к формальному новаторству отнюдь не стремился, эпатировать новыми звучаниями пресыщенную концертную публику вовсе не хотел. Глубокая душевная трагедия Малера и заключалась в сознаний бесплодности утопической проповеди социального сострадания среди жестоких законов капиталистического мира. Трагедия непризнанного музыканта была лишь одним из следствий, частным случаем Этой основной трагедии – несовершенства мира и социальной нужды, крушения идеалистических методов его улучшения. Последние произведения Малера, рассматриваемые вГ биографическо-психологическом плане, – потрясающие человеческие документы, свидетельствующие о крушении романтического, идеалистического и гуманистического мировоззрения. Экзальтация сменяется трагической иронией.
Помимо всех более глубоких причин, частично нами уже приведенных, необходимо указать еще на одно обстоятельство.
С Малером-композитором повторилась история, имевшая в свое время место с Листом. При жизни в них видели главным образом замечательных исполнителей – интерпретаторов чужих произведений. Малер был известен и русским слушателям как гениальный дирижер, создавший новую Эпоху в дирижерском искусстве.
Вот как описывает Малера за дирижерским пультом его биограф, австрийский музыковед Гвидо Адлер: «Когда маленький человек с живыми движениями входит за пульт, воцаряется полная тишина. Он приветствует с дружеской симпатией музыкантов, которые, как только поднята палочка, всецело подчинены его взору и его ведущей воле. Его лицо серьезно, глаза блестят... Во время репетиций можно наблюдать, как шаг за шагом он помогает оркестру завоевывать симфонию, как при тончайшей отделке мельчайших деталей он не упускает из виду ни на мгновение целого. То он приводит разъясняющее сравнение, то насвистывает или напевает мотив или ход, рисует рукой и кистью мелодические линии, простирает руки в воздух, то вырастает при crescendo до гиганта, то уменьшается при diminuendo до роста карлика; выражением лица, нахмурившимися бровями, просящими уголками рта, грозным лбом он вызывает самые интимные и самые мощные нарастания в оркестре от ррр до ///. Он то поощрит юмористическим словцом, то отпустит саркастическое замечание – и все для того, чтобы продвинуть оркестранта или певца «на новые геройства». Или он расскажет какую-нибудь историю, чтобы возбудить фантазию исполнителя. Он заметит певца в большом хоре, который интонирует октавой ниже, или же скрипача, который в общем tutti берет верную ноту, но не на той струне, на которой нужно эту ноту взять»...
Любопытно отметить, что П. Чайковский в бытность свою в 1892 году в Гамбурге, где Малер дирижировал тогда в опере, слышал его, и он произвел на русского композитора сильное впечатление. Вот что пишет о Малере Чайковский своему племяннику В. Давыдову (7/19 января 1892 г.) «Кстати, здесь капельмейстер не какой-нибудь средней руки, а просто гениальный и сгорающий желанием дирижировать на первом представлении (речь идет о предстоящей постановке в Гамбурге «Евгения Онегина».– И. С.). Вчера я слышал под его управлением удивительней шее исполнение «Тангейзера». Певцы, оркестр, режиссеры, капельмейстер (фамилия его Малер)—все влюблены в „Евгения Онегина"».
Не менее высокую оценку дал Малеру Брамс, слышавший под его управлением Девятую симфонию Бетховена и «Дон-Жуана» Моцарта...
2
.. .Музыкальное наследие Малера состоит из 10 симфоний:
Первая симфония D-dur (1885—1888) —в четырех частях.
Вторая симфония c-moll с участием солирующих контральто, сопрано и смешанного хора (1894) —в пяти частях.
Третья симфония d-moll с участием контральто соло, женского хора и детского хора (1896) —в шести частях.
Четвертая симфония G-dur с участием колоратурного сопрано соло (1899—1900) —в четырех частях.
Пятая симфония, без определенной тональности (1902) – в пяти частях.
Шестая симфония a-moll (1904) —в четырех частях.
Седьмая симфония, без определенной тональности (1905) – в пяти частях.
Восьмая симфония Es-dur с двумя солирующими контральто, двумя сопрано, тенором, басом, баритоном, детским хором и двумя смешанными хорами (1906—1907) —в двух частях.
«Песнь о земле» (1908), симфония для тенора и контральто (или баритона) соло, на тексты китайских портов VIII века нашей эры – в шести частях.
Девятая симфония (фактически десятая), без определенной тональности (1909) —в четырех частях.
Десятая симфония (фактически одиннадцатая) – осталась незаконченной.
Симфонии эти не изолированы друг от друга, но могут быть рассматриваемы как десять глав грандиозной философской поэмы. Каждая из них последовательно вытекает из предшествующей. Группируются они следующим образом:
Пролог: Первая симфония.
Первая трилогия: Вторая – Четвертая симфонии. Помимо общей концепции, их объединяют тексты: все они написаны на слова песен из немецкого народного сборника «Чудесный рог мальчика», который Малер обработал в виде цикла песен с оркестром. Цикл этот и является мелодической и философской основой первой трилогии симфоний. Все три, помимо оркестра, требуют участия солистов и во Второй и Третьей – хора.
Вторая трилогия: Пятая – Седьмая симфонии. Мелодическая их основа – другой цикл песен с оркестром – «Песни об умерших детях» на слова немецкого романтического порта Рюккерта. Симфонии, входящие во вторую трилогию, носят чисто инструментальный характер.
Кульминационный пункт: Восьмая симфония – знаменитая «симфония тысячи участников». II часть этой симфонии – заключительная сцена из «Фауста» Гёте. Симфония как бы синтезирует обе трилогии. Симфония «вокальна» от начала до конца.
Эпилог: «Песнь о земле» и Девятая симфония.
Кроме симфоний, у Малера имеется ряд вокальных циклов с оркестром: «Песни странствующего подмастерья», уже упоминавшиеся песни из «Чудесного рога мальчика», «Песни об умерших детях» и «Семь песен последних лет». Все оркестровые песни написаны в камерно-симфоническом плане. К ним можно добавить ранние произведения – «Жалобную песнь» для солистов, хора и оркестра, написанную еще двадцатилетним юношей,– и три тетради песен под аккомпанемент рояля, также относящиеся к юношескому периоду. Этим наследие Малера исчерпывается.
Таким образом, ни фортепианных произведений, ни квартетов, ни даже опер (что особенно примечательно, ибо Малер как дирижер в течение почти тридцати лет работал в оперных театрах) мы у Малера не найдем. Песенные циклы – лишь мелодический (и вообще музыкально-философский) материал для симфоний. Они органически сращены с соответствующими симфоническими трилогиями.
.. .Музыкальные образы и оркестровый стиль Малера полны двойственности. Это – сочетание исступленной проповеди и сарказма, величайшего пафоса и колючей иронии, обусловленной в последнем счете сознанием полной бесплодности этой проповеди. Так, по народной легенде, долго и тщетно проповедовал Антоний Падуанский на берегу озера рыбам, рекомендуя им воздерживаться от пожирания себе подобных. Карпы, щуки, осетры, сомы не без удовольствия послушали моралиста, а затем возобновили свои охотничьи подвиги. Легенду о «проповеднике среди рыб» – язвитель-йую пародию на «Цветочки» Франциска Ассизского 100 – Ма^ лер переложил в оркестровую песнь, а затем обработал ее в гениальное символико-автобиографическое скерцо Второй симфонии: героизм, искреннейшая лирика, отчаяние, шутовской глум придают этому скерцо характер, пожалуй, единственный в своем роде во всей симфонической литературе.
Обличительный характер ряда частей малеровских симфоний приводит композитора к мJLEL 0 т е ск а-Капиталистическая действительность оскаливается жуткой гримасой; малеровские скерцо (во Второй, Шестой, Седьмой, особенно два скерцо из Девятой симфонии) в карикатурной выпуклости образов могут состязаться с Гойей, Ропсом или Георгом Гроссом. Сюда же относится знаменитый «Траурный марш в манере Кал л о» из Первой симфонии (еще в середине 80-х гг.), воссоздающий образы народных сказок. Лесное зверье хоронит умершего в лесу охотника; зайцы и лисицы утирают лапками притворные слезы. Малер превращает эту картину в одно из лучших своих произведений, где кошмар, ирония, гримаса и серьезность неотделимы друг от друга. Карикатурный марш начинается с соло литавр, на фоне которых у засурдиненного контрабаса соло в высоком регистре выступает монотонный канон на старую студенческую песню «Брат Мартин, ты еще спишь». Затем выступает в пародийном плане сверхсентиментальная цыганская мелодия, сопровождаемая то торжественным пением труб, то кваканьем кларнетов-пикколо в фантастически жутком окружении. В середине марша – контраст: простая, лирическая, задушевно-грустная песнь. Затем вновь возобновляется канон в убийственной монотонности, с внезапными взрывами дикого веселья. Пожалуй, это одна из наиболее острых и жутких страниц мировой музыки, к тому же не имеющая себе предшественников; разве только «Шествие на казнь» из «Фантастической симфонии» Берлиоза может быть в какой-то мере отдаленным аналогом. Лучше сравнить этот марш с кошмарными «Капричос» Гойи или картинами Босха и Брейгеля.
Необходимо подчеркнуть: «гротеск» Малера, явный в его симфонизме еще в 80-х годах, не имеет ничего общего с «гротеском» и «пародийностью» урбанистов XX века —
Стравинского, Кшенека... У урбанистов «Гротеск» – скорее формальное остроумие либо опять-таки формальная пародия. Это метод «десентиментализапии», «деэмоционализа-иии» музьши, выхолащивания из нее всякого патетического, романтического, психологического или проблемно-философского содержания. Принципиальная пропасть отделяет, например, «Маленькую сюиту» Стравинского от любого «саркастического» скерцо Малера. У Стравинского – остроумное зубоскальство по адресу штампов бытовой мещанской музыки (вальс, полька). У Малера – патетический срыв маски с сентиментального буржуазного благодушия, метод музыкального обличения капиталистического inferno – Дантова ада в модернизованной редакции. Вспомним соответствующую систему эпиграфов из Данте в «Жане-Кристофе» Ромена Роллана.
Вообще, малеровский гротеск^вернее будет назвать «тра-^ической иронией», ибо трагическое в нем всегда является скрытым или отчетливо проступающим аккомпанементом. Когда один из венских критиков охарактеризовал уже упоминавшийся нами «Траурный марш в манере Калл о» из Первой симфонии как добродушно-веселое произведение, Малер всегда приводил этУ рецензию как пример явного непонимания. Эта часть, говорил он друзьям, должна быть «раздирающей, трагической иронией, она служит как бы подготовкой к внезапному взрыву отчаяния в последней части. Это голос раненной до самой глубины и опустошенной души». Малер менее всего склонен пародировать «форму» или «жанр». Содержанием «гротеска» является обличение «зол земли». Это голос интеллигента-мыслителя, раздавленного империалистическим пангерманизмом и американизированным индустриализмом.
Как о классических образцах малеровского «гротеска», следует упомянуть о двух скерцо Девятой симфонии – лендлере в До мажоре и «бурлеске» в ля миноре. Оба нарочито, подчеркнуто тривиальны. Два танца – две маски. Первая – лендлер, где с идиотической монотонностью шарманки повторяется одна и та же тема: от идиллизма, уюта, сентиментальности филистерской Вены нет и следа. Второй танец – торопливый, синкопированный, лихорадочный танец большого капиталистического города, с памфлетной остротой вскрывающий механизированную его сущность. Это любопытный образец экспрессионистской пародии на урбанизм, когда – благодаря гениальной интуиции Малера – пародирующее произведение чуть ли не предвосхищает по времени объект пародии. Притом пародии уже не в формальном, но в социально-философском плане.
Другое лицо Малера – это экстатическая проповедь, приводящая к судорожному трагизму. У него назревает сознание невозможности найти в империалистической Европе в качестве философского стержня симфонии великую обобществляющую идею. Поэтому симфонический мир Малера – мир непрерывной экзальтации, мир судорог, конвульсий: все вещи даны в состоянии пароксизма. Любопытно проследить за динамическими обозначениями в его партитурах, особенно в «трагических» частях – финале Шестой, II части Пятой, I части Седьмой симфоний: все время гигантские судорожные контрасты; оглушительные взрывы всего оркестра чередуются то с напряженно драматическим, то с лирическим рр; динамические знаки меняются буквально по нескольку раз внутри такта, изобилуют crescendi и sforzati. Музыка приобретает характер порывистости, нервности и исключительного эмоционального напряжения, доводимого почти до крика. Создается впечатление, будто страницы партитуры буквально написаны кровью...
3
.. .Пролог. Первая симфония – большое четырехчастное произведение, с первых же тактов обнаруживающее глубокую оригинальность симфонического мышления и языка Малера. Не забудем, что она писалась сразу же после смерти Вагнера и Листа, когда Брамс только что закончил свою Четвертую симфонию. Малер сумел уже в Пятой симфонии избежать подражания, эпигонства, ученичества и выступил с оригинальной концепцией, смелой, острой, парадоксальной и в то же время необычайно свежей и непосредственной.
Обоснованием замысла Первой симфонии Малера является созданный им на основе народных песен юношеский цикл «Песен странствующего подмастерья». Молодость и задор, юношеский энтузиазм, восторженное исповедание природы, любовь и мечтательность, первые горькие разочарования («так ли прекрасен этот мир?») и оптимистическая уверенность в лучшем будущем, жажда дела, подвига составляют содержание этого цикла. Первая симфония и есть развитие этого песенного цикла в законченную симфоническую концепцию. Мелодическая связь между ними очевидна в I и середине III части; – общая же, эмоционально-идейная – в любом такте. I часть симфонии построена на глубочайшем переживании природы и ее скрытых сил. Симфония возникает из абсолютного покоя и тишины: шестьдесят два такта вступления на органном пункте ля (флажолеты у всей струнной группы пианиссимо). Время от времени тишина нарушается таинственными ходами по квартам и отдаленными приглушенными фанфарами (кларнеты, затем засурдиненные трубы). Наконец из квартового хода рождается тема (излагаемая сначала виолончелями), и симфония переходит в маршеобразное движение пасторального характера, под конец части превращающееся в экстатический дифирамб природе. Однако – что чрезвычайно важно – в этом исповедании природы нет не только элементов имитации и звукоподражания, но и элементов созерцательности, пассивности: у Малера отношение человека к природе дано в разрезе активном и героическом. Природа развязывает силы человека, укрепляет его мускулы для борьбы. Пасторальное у Малера непрестанно переходит в героическое.
Остановимся вкратце на остальных частях. II часть – венский вальс, заразительно бодрый, построенный, однако, не на мелодическом изяществе, но на стихийной силе ритма; в идиллическом трио как бы возрождается шубертовский лендлер. Ход симфонии резко меняется с III части; идиллия исчезает, обступающий одинокого юношу-подмастерья мир оскаливается гримасой; следует знаменитый, нами уже упоминавшийся «Траурный марш в манере Калло». За ним – исступленный финал драматического характера, полный контрастов, с неистовствующей медью. Финал но музыке неровен; двадцативосьмилетний возраст композитора дает себя знать. Лучшее в нем – певучая кантилена побочной партии. Удачно вводятся реминисценции из I части. Однако есть места судорожно захлебывающиеся, бесформенно экстатические. Конец симфонии – грандиозный апофеоз торжествующей молодости. Герой (не в программно-литературном смысле, но в духе «героя» из Третьей или Пятой симфонии Бетховена) на этот раз из схватки с темными силами мира выходит победителем.
Заметим, что финал симфонии по протяжению равен чуть ли не всем первым трем частям вместе взятым и является не формальным завершением симфонии, но кульминационным пунктом действия. Именно в финале решаются судьбы симфонии. Это перенесение центра тяжести с I части на финал, как установил Пауль Беккер в своем большом аналитическом исследовании «Симфонии Густава Малера» (1921), является одним из основных законов конструирования Малером симфонии. С развернутым финалом мы встретимся и дальше – во Второй, Шестой, Восьмой симфониях и в «Песне о земле».
Мы умышленно остановились подробней на Первой симфонии Малера. Свойственные ее музыке черты становятся более выпуклыми в последующих симфониях.
Первую трилогию образуют Вторая, Третья и Четвертая симфонии. Симфонии эти, написанные между 1892 и 1900 годами, наиболее популярны из всего малеровского наследия. Особенно известна Вторая симфония, действительно, неизменно производящая- сильнейшее впечатление.
Фундаментом этих симфоний – двух грандиозных: Второй и Третьей – и их полуидиллического, полупародийного эпилога – камерной Четвертой симфонии – являются песни из знаменитого немецкого народного сборника «Чудесный рог мальчика», записанного и приведенного в порядок романтическими литераторами Арнимом и Брентано. Малер переложил оттуда на музыку двенадцать песен, сделав из них два цикла оркестровых песен. Содержание их много сложнее, нежели в «Песнях странствующего подмастерья»: глубокое отчаяние от несовершенства мира и пламенная экстатическая жажда его преобразования, народный юмор и горький сарказм, шутовство и романтическая скорбь, трагедия и идиллия переплетаются как в песнях «Чудесного рога», так и в симфониях чрезвычайно своеобразно.
Связь этого песенного цикла с первой симфонической трилогией – помимо общего философско-эмоционального содержания и мелодического материала – еще более непосредственна: саркастическая оркестровая песня «Проповедь Антония Падуанекого рыбам», уже нами упоминавшаяся, становится инструментальным скерцо Второй симфонии; оркестровая песня «Изначальный свет» прямо вставляется в ту же симфонию на правах IV части. Точно так же V часть Третьей симфонии и IV часть (финал) Четвертой симфонии суть не что иное, как непосредственная вставка в симфонию оркестровой песни. Некоторые из них играют в конструктивном плане роль камерных интермеццо, продолжая сохранять за собой, однако, ведущую идейную роль. Если Первая симфония была чисто инструментальна, и песенные мелодии поручались скрипкам, деревянным или даже медным инструментам, то во Вторую, Третью и Четвертую симфонии вводится вокальный элемент, притом не только как заключительный хор (наподобие Девятой симфонии Бетховена), но и в средние части. Так, в пятичастной Второй симфонии в IV часть введено солирующее контральто, а в V – контральто, сопрано и смешанный хор. В Третьей симфонии – шестичастной – IV часть опять поручена контральто, в V части к нему присоединяются женский и детский хоры; финал же, VI часть – инструментальное адажио. Наконец, последняя часть Четвертой симфонии имеет в качестве протагониста (ведущего лица) колоратурное сопрано. Это внедрение вокального элемента в симфонию является специфическим именно для малеровского симфонизма и придает ему особое своеобразие. В письме к немецкому музыкальному писателю Артуру Зейдлю сам Малер говорит об этом так: «Когда я задумываю большое музыкальное полотно, всегда наступает момент, где я должен привлечь слово как носителя моей музыкальной идеи».
Необходимо, однако, заметить, что введение Малером в симфонию инструментальной или вокальной песни далеко не означает фиксации некоей литературной программы в духе Берлиоза, Листа или Рихарда Штрауса. Общая концепция всегда остается музыкальной, развертывание действия происходит на основе симфонической логики, а не литературного сюжета. Из песни берется в симфонию ее эмоционально-философское содержание и его мелодическое выражение, а не литературный образ. Симфонизм Малера – это не беллетристический роман (как, например, «Фантастическая симфония» Берлиоза или «Дон-Кихот» Штрауса), но философская лирика. Малер как бы отвечает на вопрос Тика: «Разве не позволительно мыслить звуками и музицировать словами и мыслями?» Во всяком случае, ни одной малеровской симфонии нельзя дать программно-литературного (в берлиозовском смысле) истолкования. Можно говорить только об общих философских идеях.
Так, идея Второй симфонии, суровой, трагической и грандиозной по размерам (она длится более полутора часа и занимает собой целый концерт), – идея личной смерти и вечной жизни человечества. Третья симфония развертывает как бы романтическую космогонию – от пробуждения природы от зимнего сна (1-я часть) и жизни цветов (замечательный менуэт 2-й части) к животному миру (скерцо 3-й части с почтовым рогом за сценой) и, наконец, человеку (4-я часть на слова застольной песни Заратустры Ницше: «О человек, берегись, что говорит глубокая полночь?», 5-я часть – на слова из «Чудесного рога мальчика» и 6-я часть – оркестровое адажио). Здесь еще в большей мере, нежели в Первой симфонии, природа берется не отвлеченно и созерцательно: наоборот, природа, бурно ломающая льды и выходящая из берегов, как бы перекликается с человеческим коллективом, сокрушающим старые отношения во имя новых. Недаром именно в I части этой симфонии – гигантском шествии, открываемом рельефной темой восьми валторн в унисон, с трагическими взлетами, с нагнетаниями, доводимыми до кульминационных пунктов нечеловеческой силы, с патетическими речитативами валторн или солирующих тромбонов, как бы призывающих к восстанию,– критики слышали поступь рабочих колонн, идущих на первомайскую демонстрацию.101 По героическому напряжению, по ликующему энтузиазму I часть Третьей симфонии (которая одна длится 45 минут, занимая первое отделение, и по размерам равняется лишь финалу «Трагической», Шестой симфонии) является одним из величайших созданий Малера первого периода.
Нельзя отрицать: во Второй и – в значительно меньшей мере – в Третьей симфонии существуют еще элементы романтической метафизики и даже некоторого мистицизма (в двух последних частях Второй симфонии), впоследствии преодолеваемые. Впрочем, мистика лишена какой бы то ни было церковности или богословских тонкостей: она либо восходит к пантеизму и религии человечества в духе Руссо и Девятой симфонии Бетховена; либо, ведя свое происхожу дение от народной немецкой песни, она наивна, простодушна и материальна. К тому же мистика эта подается всегда с некоторой иронией, а в эпилоге первой трилогии – в Четвертой симфонии переводится в оригинальный идиллически-шутовской план. Финал симфонии – наивная и трогательная песенка «о небесных радостях» с точки зрения бедного крестьянского ребенка, о царстве, где много яблок и слив, где ангелы заняты печеньем вкусных хлебцев, апостол Лука закалывает быка для ужина, а святая Марта орудует в переднике в качестве кухарки. Жажда небесных утешений – это голодные ребяческие мечты; в реальной жизни мальчика ждет тяжелая борьба. Четвертая симфония развенчивает романтическую метафизику, переводя ее в умышленно инфантильный план. Тем самым она открывает дорогу второй трилогии «земных» симфоний.
Если первая симфоническая трилогия условно может быть названа «Человек и природа», то вторая трилогия (Пятая, Шестая и Седьмая симфонии сочинялись от 1901 по 1905 г.) может быть названа «Человек и история», «Человек и общество». В ней нет романтической метафизики и космических устремлений; человек сталкивается липом к лицу с реальностью, с миром лихорадочной деятельности, слез, наживы, преступлений и подвигов. Эта трилогия – трагедия мыслителя-гуманиста среди жестоких законов капиталистического мира. Венская элегическая «шубертианская» культура здесь исчезает. Музыка становится судорожной, истерической, конвульсивной, жесткой; о красивости, приглаженности не может быть и речи. Музыкальная выразительность доводится до крика (ср. с «Shreidramen»—«драмами крика» послевоенных экспрессионистских драматургов Германии); ее нерв – отчаянная попытка вновь обрести коллективистическое мировоззрение, восстановить «распавшуюся связь времен», утвердить бетховенианскую идею о братстве человечества среди ужасов эксплуатации империалистической Европы. Это скорбь, но скорбь не отречения, а исступленной проповеди. Пятая симфония открывается траурным маршем; Шестая симфония (наиболее трагическая среди этих трех симфоний) заканчивается страшной катастрофой, где жуткий рев колоссального оркестра покрывается тремя глухими ударами молота; наконец, в Седьмой симфонии Малер пытается преодолеть эти настроения, обратившись к бетхове-нианской (в философском смысле слова) концепции финала.
Все три симфонии, входящие в состав второй трилогии, чисто инструментальны – без участия человеческих голосов. Но и здесь нетрудно проследить рождение симфонии из песни. Основа второй трилогии – цикл «Песни об умерших детях» (на слова немецкого романтического поэта Рюккерта), откуда берется не только мелодический материал (который мы в точности находим в траурном марше Пятой симфонии или анданте Шестой, но и общая идея: преодоление личного страдания. Очень характерно и то обстоятельство, что в этих симфониях крестьянская песня все более замещается городской; появляются элементы урбанизма, венский вальс (в Пятой, частично в скерцо Седьмой симфонии) все более переводится из шубертианского в драматико-сатирический план. Вообще, усиливаются элементы гротеска, пародии (вальс в Пятой, Седьмой симфониях), ирония утрачивает характер добродушия; от бидермейеровского благополучия не остается и следа. В этих симфониях Малер с большими основаниями, нежели кто другой из композиторов Запада, может быть назван, подобно Достоевскому, «жестоким талантом».
Несколько особняком стоит Седьмая симфония. В ней композитор пытается найти исход из трагического конфликта, и поэтому музыка ее строится на противопоставлении полярных образов ночи и дня. Судорожно-драматическая 1 часть (опять же – одна из лучших у Малера) – минувший день, полный отчаяния и горести. Три средних части – два гениальных ноктюрна (Nachtmusik) и скерцо, обозначенное в партитуре трудно переводимым немецким словом «Schattenhaft» («игра теней»),– знаменуют ночь. Особенно замечателен первый ноктюрн, дающий как бы переложение на язык музыки содержания знаменитой картины Рембрандта «Ночной дозор»: на уснувших улицах города гулко отдаются шаги таинственного патруля, где-то вдали перекликаются приглушенные рога, испуганно кричат на черных ветвях потревоженные птицы. . . Рембрандтовская светотень – если продолжить сравнение дальше – мастерски передана одновременным сочетанием До мажора и до минора. Скерцо – причудливая игра теней, фантастический танец, куда грубо врываются время от времени звуки тривиального вальса. Второй ноктюрн – с введением гитары и мандолины – откуда-то издали доносимая ночным ветерком серенада. «Parfums de la nuit» – «ароматы ночи» в обоих ноктюрнах переданы не менее тонко, нежели у Дебюсси или Равеля. Наконец, финал симфонии – в духе финала Пятой симфонии Бетховена или увертюры «Мейстерзингеров» Вагнера – говорит о ликующем, освободительном новом дне.
Синтезом обеих трилогий является самое монументальное создшяие Малера – его Восьмая симфония, так называемая «Симфония тысячи участников», последняя грандиозная и гениальная попытка повторить «Оду к радости» Бетховена в новой исторической обстановке. «Это – самое значительное, что я до сих пор написал», – сообщает Малер по окончании симфонии знаменитому голландскому дирижеру и неутомимому пропагандисту малеровского симфонизма Виллему Менгельбергу: «Вообразите, что вся вселенная начинает звучать. . . Все мои прежние симфонии – только прелюдии к этой. В них – все еще субъективный трагизм, здесь же – великая радость».
Симфония вокальная от начала до конца, оперирует гигантскими хоровыми и оркестровыми массами и органом. Она распадается на две части, причем последняя (написанная на текст заключительной сцены «Фауста» Гёте), в свою очередь делится на адажио, скерцо и финал, непрерывно вытекающие один из другого. В Восьмой симфонии Малер делает крайние выводы из принципа финала Девятой симфонии Бетховена. Но проповедь всеобщего братства в эпоху империализма и пролетарских революций утопична. Такой замысел был обречен на идейно-художественную неудачу. Малер осознал это – и для него судьба Восьмой симфонии явилась катастрофой...
4
Крушение малеровского симфонического замысла, высшим напряжением которого была Восьмая симфония, приводит – в качестве одного из следствий – к изменению содержания и структуры последних произведений композитора. Две «посмертные» симфонии («Песнь о земле» и Девятая) – результат страшного кризиса, полной катастрофы утопической иллюзии возможности всеобщего братства, катастрофы всего гуманистически-идеалистического мировоззрения Малера. Отречение, трагическое сознание глубокой бесплодности дела собственной жизни, последнее самоуглубление в ожидании скорой и неотвратимой смерти составляют содержание этих произведений.
«Песнь о земле» – шестичастная симфония-кантата для тенора (в 1-й, 3-й и 5-й частях) и контральто или баритона (в четных – 2-й, 4-й, 6-й частях). Словесно-сюжетный материал – тексты китайских лирических портов VIII века нашей эры – Ли Бо – «китайского Гёте», – Чрнь Шрня и Ван Вря, известных Малеру по немецкому переводу Ганса Бетге. I часть – «Застольная песня о бедствиях земли». Ее центральный образ: освещенная луной, торчит на могильной плите кладбища обезьяна, ее неистовый вой врывается в благоуханную тишину южной ночи. Общий колорит части – дикий, возбужденный, фантастически-жуткий, с пронзительными воплями валторн и засурдиненных труб, перекрикивающими визг, рев и свистящие тремоло деревянных, струнных й глокеншпиля. Отчаяние, горечь, ирония, экстаз, оиьянен-ность, демонизм доминируют в музыке. Среди оргиастических Звуков мастерски вводится контрастная лирическая кантилена. II часть – «Одинокий осенью» – рисует меланхолический колорит увядания земли и осыпающихся желтых листьев; безучастно повторяющаяся фигура аккомпанемента у засурдиненных скрипок, усталая, монотонная песнь гобоя говорят о пустоте и одиночестве; внезапный, страстный взрыв – и опять однообразное журчанье скрипок и приглушенные вздохи гобоя...