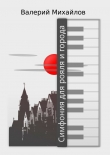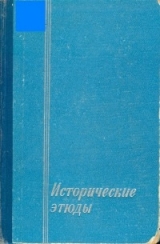
Текст книги "Исторические этюды"
Автор книги: И. Соллертинский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 28 страниц)
Следуют три контрастирующих части: III, озаглавленная «О юности», IV – «О красоте» и V – «Пьяница весною». «О юности» – гениальное по своеобразному мастерству миниатюрное скерцо: в зеркальной воде пруда отражен фарфоровый павильон, где, чинно рассевшись, болтают юные друзья. «О красоте» – медленный менуэт, прерываемый взрывом неистового марша: молодые китаянки рвут цветы лотоса на берегу реки; внезапно проносится бурная кавалькада юношей на взмыленных конях; и одна из девушек, тщетно пытаясь сохранить гордый вид, смотрит долгим и страстным взглядом вслед умчавшимся всадникам. «Пьяница весною» – трагикомический диалог между пьяницей, просыпающимся на пороге дома, и птичкой, щебечущей высоко над его головой на ветке о пришествии весны. Три интермеццо кончены; исчезли видения—молодость, весна, дружба, застенчивая девичья улыбка...
Последняя центральная часть – «Прощание» – возвращает нас к основной теме – одиночеству и смерти. Это потрясающая песнь в больших трех строфах, каждой из которых предшествует речитативный рассказ; перед третьим речитативом – траурное оркестровое интермеццо. Преобладает состояние приглушенной, почти беззвучной скорби. В конце части – примиряющий До мажор вечно голубеет небо, вечно белеют вдали снежные вершины гор, вечно обновляется весной земля; человек уходит в последнее свое странствование. Все тише становятся серебристые звуки арф, челесты и мандолины; как бы истаивает в воздухе основной мотив у флейт в низком регистре – последние повторения темы земли. До предельного pianissimo доводится последний неразрешенный аккорд до – соль – до – ми – ля.
Стилистически характерны для «посмертного» периода творчества Малера прежде всего камерный характер симфонизма и полная свобода симфонической структуры, ведущая к преодолению симфонической формы в классическом смысле и замене ее свободной многочастной рапсодией.
Несмотря на эти стилистические изменения, Малер остается верен основному: стремлению к выразительности во что бы то ни стало и выведению симфонии из песни. Оба эти принципа в «Песни о земле» и Девятой симфонии доводятся до крайних возможных для Малера пределов. Каждый инструмент становится послушным орудием выразительности; ухо, чувственная красивость самодовлеющего звука перестают играть всякую роль. Местами, особенно в Девятой симфонии, создается впечатление, будто музыка непосредственно исходит от обнаженных нервов. В европейской музыке XX века трудно найти более искренние, глубоко выстраданные и трагические страницы, нежели вся «Песнь о земле» или I часть Девятой симфонии. Пожалуй, это лучшее, что оставил Малер.
От Десятой симфонии (точнее – одиннадцатой) сохранились только эскизы. Она задумана в пятичастном плане: одно адажио и четыре скерцо. Построение, повторяющее в еще более утрированном виде парадоксальную структуру Девятой симфонии. Две части – I, адажио и III, интермеццо (под заглавием Purgatorio – чистилище) – закончены и в таком виде – в редакции Кшенека, восстановившего их партитуру,– неоднократно исполнялись. Адажио – торжественная песнь просветленного характера. В многочисленных скерцо – страшные конвульсии, почти эпилептическая напряженность нервов, демонические пароксизмы. На полях Эскизов – надписи бредового свойства. Симфония говорит о мучительной агонии и оставляет странное и жуткое впечатление. Передают, что перед самой смертью Малер настаивал на ее полном уничтожении. . .
«Песнь о земле» и Девятая симфония суть нечто большее, нежели эпилог личной судьбы гениального композитора-неудачника (неудачника не в индивидуально-биографическом, но в культурно-философском смысле слова). Это конец бетховенской традиции в Западноевропейском симфонизме. С последними тактами малеровских симфоний высыхают последние капли героического симфонизма. После Малера на Западе существуют лишь единичные эпигонские симфонии, но симфонизма в бетховенском смысле слова нет. Современная буржуазная Европа живет главным образом урбанистическими ритмами, джазом, механизированной, аэмоцио-нальной музыкой, живет всевозможными архаизмами, стилизациями, экзотическими новинками или изысканностью импрессионистических гармоний. Законодателем мод является Стравинский, наиболее антибетховенианская фигура современного музыкального мира. Малер был последним, кто пытался в Европе – внутри буржуазной культуры – построить «симфонический мир» на основе героико-философского пафоса.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ СИМФОНИЧЕСКОЙ ДРАМАТУРГИИ
История мировой симфонической культуры вступила в ту стадию своего развития, когда решающую роль в ней призван сыграть молодой советский симфонизм. Ему выпадает на долю выдвинуть и решить все те большие проблемы, которые остались трагически неразрешенными у многих великих представителей и западноевропейского и русского симфонизма XIX – начала XX века.
Как бы значительны и прекрасны ни были отдельные достижения советского симфонизма в наши дни, – все же в целом это только пролог, эскиз, черновик той грандиозной симфонической культуры, которая будет создана в нашей стране. В этой необъятной всемирно-исторической перспективе – великий и подлинный пафос нашего «симфонического строительства».
О том, что такое симфонизм как метод, в чем особенности подлинного симфонического мышления – писалось достаточно много. Цель настоящей статьи – предложить на обсуждение ряд замечаний, касающихся проблемы исторических типов и жанров симфонизма. Советский симфонизм– законный наследник лучших традиций классического симфонизма. Ориентироваться в этих традициях – задача, существенная не только для историка, но и для композитора.
1
В нашем музыковедении все еще имеет хождение некая «бетховеноцентристская» концепция развития мирового симфонизма. Суть этой концепции – в несколько схематизированном виде – сводится к тому, что в истории музыкальной культуры досоциалистического общества существовал всего лишь один кульминационный пункт развития симфонизма и этой кульминацией является именно симфонизм Бетховена в том виде, в каком он был воплощен в «Героической», Пятой и Девятой симфониях. Это – так сказать – экстракт, конденсат симфонизма, единственная полноценная залежь симфонического радия, это – та ось, вокруг которой могут быть расположены все прочие симфонические проблемы. Всякий другой композитор получает право именоваться симфонистом лишь в той мере, в какой он освоил бетховенский метод симфонического мышления и стал сопричастен «бет-ховенианству». Самые термины «симфонизация» и «бет-ховенизация» стали совпадать.
Разумеется, эта бетховеноцентристская концепция соответствующим образом аранжировала и историю музыки. Все композиторы-инструменталисты рассматривались либо как «предтечи», в творчестве которых наличествовали зародыши будущего бетховенского симфонизма, либо как продолжатели, эпигоны, разлагатели бетховенских традиций – что-то вроде диадохов, поделивших империю Александра Македонского и не сумевших задержать ее стремительный распад.
В этом разрезе особенно не повезло Моцарту и Гайдну. Их поместили в передней европейского симфонизма. В них ценили не то, что делало Гайдна Гайдном, а Моцарта Моцартом, но лишь то, что в той или иной мере предвосхищало Бетховена: они рассматривались не как гениальные музыканты с неповторимой творческой индивидуальностью, хотя и полностью исторически обусловленной, но как «недоразвившиеся Бетховены», эмбрионы, личинки бетховенианства. Их лишали права именоваться симфонистами в подлинном значении этого слова. После подобных утверждений невольно возникает вопрос: к какому же типу и жанру музыки отнести, скажем, великолепные (и отнюдь не «эмбриональные») бытовые и юмористические симфонии Гайдна? Неужели же весь своеобразнейший мир его «лондонских» симфоний должен быть аннулирован в своем симфоническом достоинстве только потому, что «это еще не Бетховен»? А как быть с таким абсолютным шедевром симфонической архитектоники, как «Юпитер» Моцарта, который, право же, в своей симфонической динамике не уступает лучшим симфониям Бетховена? Или же с гениальным воплощением «вертерианства» в музыке – моцартовской солъ-минорной симфонией, от которой протягиваются нити и к «Неоконченной симфонии» Шуберта, и к Четвертой симфонии Брамса, и, наконец, к Чайковскому? Ведь эпоха просветительства, «бури и натиска» и подготовки французской буржуазной революции имела свою симфоническую культуру (и симфоническую Эстетику, одна из исходных точек которой – философия чувства Руссо: отнюдь не Бетховен первым ввел руссоизм в музыку!). Бетховеноцентристская концепция вынуждена ее отрицать или сводить к «предвосхищающим элементам». Не говоря уже о том, что при подобной постановке вопроса не только снимается возможность понимания симфоничности оперных финалов Моцарта, но повисает в воздухе и кардинальная проблема инструментализма Баха. Либо, еще более искажая историческую перспективу, мы должны будем в Бахе выискивать «предвосхищение»!
Происхождение этой бетховеноцентристской концепции установить не так уже трудно. Это – работы итальянского музыкального писателя Джанотто Бастианелли (особенна «La crisi musicale europea»), которые хорошо знал и точки зрения которых популяризировал в своих выступлениях и статьях на музыкальные темы А. Луначарский. Это – с воодушевлением и блестящим знанием первоисточников написанные книги о Бетховене Ромена Роллана, где элементы бетховеноцентризма выступают очень отчетливо (Гендель – по Роллану – «скованный Бетховен» и т. д.) и где общая концепция – при всей яркости – все же одностороння. Взгляды Ромена Роллана у нас же часто целиком, без всякой критики, вбирались в работы советских музыковедов. Наконец, – это брошюра Пауля Беккера – «Симфония от Бетховена до Малера», переведенная на русский язык в 1926 году и очень популярная еще во времена ACM.1 Позже эта бетховеноцентристская теория была положена – в вульгарно-социологической транскрипции – в основу одностороннего выпячивания Бетховена у теоретиков РАПМ.102 103 По традиции она в значительной мере бытует в советском музыковедении и поныне.
Разумеется, полемика с бетховеноцентристской концепцией в истории музыки не имеет ничего общего с попыткой умалить великое историческое значение симфонизма Бетховена. Речь идет лишь о том, чтобы понятие симфонизма не покрывалось сполна понятием бетховенианства. Иначе под определение симфонизма нельзя будет подвести ни «Реквием» Берлиоза, ни симфонии Бородина, ни многое другое.
Бетховен был великим симфонистом и создал один из основных типов мирового симфонизма. В свою историческую Эпоху этот тип оказался самым плодотворным и значительным. Этому типу, надо думать, принадлежит большое будущее и в советском симфонизме. Но – при всех его исключительных возможностях – это не единственный, а всего лишь один из возможных типов симфонической драматургии.
, Этот тип симфонизма прежде всего можно определить как симфонизм, построенный на объективном и обобщенном отражении действительности и совершающихся в этой действительности процессов борьбы; как симфонизм драматический, ибо драма есть процесс, действие, где наличествует не одно, а несколько человеческих сознаний и воль, вступающих друг с другом в борьбу; следовательно – как симфонизм полиперсоналистический (прошу извинения у читателя за несколько «гелертерский» термин, но не могу подобрать другого, более точного и более легкого), «многоличный». Словом, симфонизм бетховенского типа исходит не из монологического, а из диалогического принципа, из принципа множественности сознаний, множественности противоборствующих идей и воль, из утверждения – в противоположность монологическому началу – принципа «чужого я». (Кстати, эта тема «чужого я» в симфонической драматургии Бетховена могла бы быть предметом интересного исследования в области философской проблематики бетховенского творчества и показала бы, к примеру, отличие бетховенского мышления от иных ответвлений классического германского философского идеализма, например от Фихте.)
Такой тип симфонизма я условно назову симфонизмом шекспиризирующим. Речь идет, разумеется, о шек спиризмах не в сюжетно-фабульном, программном истолковании. Шекспиризация здесь понимается в том смысле, что именно ^Шекспир развил до возможных художественных пределов искусство драматического «полиперсонализма», рол-ного психологического перевоплощения, изощреннейшей психологической характеристики самых разных человеческих образов и типов. Ни одного из своих персонажей Шекспир не делает рупором авторского «я»; идея пьесы возникает из объективного изображения судеб героев, а не из лирического или дидактического высказывания автора.
Характерно, что у многих, писавших о Бетховене, мысль о том, что симфонизм этого композитора отображает какие-то объективные процессы драматического становления, уже возникала. Сколько раз, например, доводилось читать, что увертюра «Кориолан» в своей экспозиции построена по принципу диалога, где первая тема воплощает образ неистового героя, «пившего ненависть к людям из полноты любви», а вторая тема – голос матери. Любопытно, что у большинства комментаторов возникали как раз ассоциации шекспировского порядка.
В настоящий момент я не буду касаться вопросд об особенностях мелодического строения симфонических тем, принадлежащих к рассматриваемому типу симфонизма. Во всяком случае, достаточно сопоставить первую тему «Героической» или Пятой симфонии Бетховена – типичную тему-«толчок», тему-«ракету», содержащую в себе начало противоречия и движения, – с темой первого Allegro Четвертой симфонии Чайковского или хотя бы лейтмотивом «Фантастической симфонии» Берлиоза, чтобы понять специфическое строение тем бетховенского симфонизма.
2
Развитие инструментальной музыки после Бетховена выдвигает другой тип симфонизма, тесно связанный со всей вообще романтической философией и эстетикой, романтическим миропониманием и «стилем жизни». Это тип лирического или монологического симфонизма. Монологический симфонизм вовсе не является «снижением», «разложением», «оскудением», «распадом» симфонизма бетховенского типа: это особый тип симфонизма, и истоки его можно проследить в музыке эпохи «бури и натиска» и пред-ромаитизма, в частности – в иных субъективно окрашенных произведениях Моцарта и прежде всего в его солъ-манорной симфонии.104.
; В монологическом симфонизме весь реальный процесс борьбы идей, личностей, мир социально-этических конфликтов дан через преломление глубоко индивидуального авторского я, лишь одним голосом авторского сознания. Музыка превращается в ряд страстных личных высказываний, в стра-
ййцу из дневника, в пламенную и порой мучительную иепб-ведь. Это будет – вновь в условной рабочей терминологии – | тип байронизирующего симфонизма. Речь идет опять-таки не только о «Гарольде в Италии» Берлиоза или «Манфреде» Шумана и Чайковского... В ртом разрезе симфония Листа «Фауст» – произведение, не в меньшей мере принадлежащее «байронизирующему» симфонизму. Но дело в том, что именно^ Байрон создал такой тип поэмы, при котором все образы – Чайльд-Гарольд, Каин, Манфред и прочие – суть варианты одного и того же образа и этот образ по существу глубоко автобиографичен. Когда мы произносим «байронический герой», нам трудно определить, о ком идет речь: о Гарольде или о самом Байроне, – настолько эти образы срослись друг с другом, настолько улетучилась дистанция между поэтом и его героем.
Особую трудность в монологическом симфонизме представляла проблема отображения объективного мира. Так легко было растворить его в субъективном авторском сознании, в потоке страстных лирических эмоций. Не один раз симфонисты монологического толка останавливались перед опасностью своеобразного солипсизма. Примером может служить та же «Фауст-симфония» Листа, в которой главный герой оторван от историко-бытового фона, от готической Германии, от прагматического действия трагедии Гёте: все I растворено в изображении внутреннего мира героя; отдельные темы I части симфонии являются как бы музыкальными иероглифами тех или иных сторон «фаустовской души».
| Либо объективный мир превращался в констрастный фон для страданий погруженного в гамлетические раздумья, разъедаемого рефлексией и скептицизмом героя, равнодушно взирающего на залитые солнцем ландшафты и наивное веселье поселян: такова драматургическая линия «Гарольда в Италии» Берлиоза, где Гарольд всегда одинок, всегда безучастен, и его альтовая характеристика никогда не сливается с общей жизнью оркестра.
Отсюда – сужение в монологическом симфонизме картины объективного мира и – в то же самое время – отчаянная борьба за ее сохранение. Мне думается, что именно здесь кроется одна из существенных причин возникновения программного принципа в музыке. Романтики-симфонисты чувствовали, что они стоят перед опасностью утерять объективность внешнего мира. Именно для того и создан был программный симфонизм, чтобы в какой-то мере – через
поэтический или изобразительно предметный, живописный образ – сохранить внутреннюю связь симфонического монолога с реальной действительностью, чтобы не расплыться в глубоко субъективном преломлении этой действительности, в зачастую хаотическом и зыбком, чтобы не раствориться в потоке раскаленной, иной раз трагически мучительной лирики. Большие сюжеты – Шекспир, Байрон, Гёте, Данте – как бы удерживали фантазию романтиков в пределах некоторой поэтической реальности. Но в целом, однако, диалектика развития европейского симфонизма была такова, что музыкальная разработка шекспировских тем отходила^ все более от методов шекспировского полиперсонализма и бетховенского объективного отображения обобщенных процессов. Вот почему был, по существу, обречен грандиозный замысел Берлиоза «внедрить в искусство музыки гений и могущество Шекспира»: каковы бы ни были красоты лучшего симфонического создания Берлиоза – «Ромео», это тоже одна из разновидностей байронизированного симфонизма, а центральный герой является вариантом «молодого человека XIX столетия».
f Характерно, что в лирико-монологическом симфонизме мы наблюдаем еще одну попытку вырваться за пределы индивидуального сознания: это путь экстаза, когда стихийно, в мгновение нестерпимого озарения, словно рушатся рамки индивидуальности, и человек в порыве неизъяснимого счастья растворяется в космосе. Выразителями идеи экстаза явились – после Листа и Вагнера – Брукнер и Скрябин, два величайших «экстатика» неоромантической музыки. Разумеется, идея экстаза по существу возникает на сугубо индивидуалистических предпосылках и часто окрашивается в пантеистические, мистические или даже теософски-оккультные тона.
3
Несравнимо более сложен симфонизм Чайковского и Малера. Оба эти великих музыканта мне представляются глубоко родственными в своей общей творческой направленности. Отличаясь повышенным эмоционализмом, шлифуя, до степени художественного совершенства, песенные, в частности – фольклорно-городские интонации (и получая за это упреки в эклектизме и банальности), оба/шли из сферы субъективно лирического в «жестокий мир» обступавшей их действительности, не стремясь укрыться от нее никакими Эстетическими и стилизаторскими фикциями. Оба мучительно ставили в своих симфониях «проклятые вопросы» века, оба жаждали больших философских обобщений и, по существу, ^тяготели к симфонизму бетховенского типа. Но и у них героическое начало изображения борьбы отступало перед патетическим, то есть субъективным переживанием героического. Оба стали самыми патетическими композиторами европейской музыки.| Внешний же мир вторгается в патетическую картину поединка героя с темными силами или с самим собой как враждебное начало: как видение города-спрута в скерцо Пятой симфонии Малера, как фанфара судьбы в Четвертой симфонии Чайковского, как таинственный натиск злых начал в скерцо-марше его Шестой симфонии. . . Характерно, что когда Чайковский покидал сферу патетического и пытался дать финал – решение симфонии– в объективно-бетховенском плане, «симфоническое резюме» получалось двусмысленным: я имею в виду финал Пятой симфонии, оставляющий двойственное впечатление, – то ли победа над роком, то ли триумфальное шествие самого рока. И сам композитор своим предельно чутким и правдивым музыкальным сознанием чувствовал это: Пятая симфония принадлежала к числу нелюбимых автором произведений.
Что до (Малера, – у него начинает все больше обнаруживаться новый тип лирического высказывания. Метод прямой лирики (наиболее вдохновенно воплощенный в заключительном Adagio из Третьей симфонии, в последней части «Песни о земле» и в особенности в I части Девятой симфонии – самом прекрасном из всего, что когда-либо писал Малер) начинает комбинироваться с методом косвенной или эксцентрической лирики, где лирическое дается не «в лоб», а замаскировано гротескной интонацией. Лирика, завуалированная гротеском, лирика через эксцентриаду, глубокая человечность под защитной маской шутовства – все это роднит Малера с другим крупным художником Запада – Члрли Чаплином. Такие страницы малеров-ского симфонизма, как карикатурный «Траурный марш в манере Калло» из Первой симфонии, как проповеднически-шутовское скерцо из Второй симфонии, финал с колоратурной песенкой из Четвертой симфонии, лендлер и бурлеска из Девятой симфонии, – являются великолепными примерами подлинной «чаплиниады» в симфонизме Малера, причем нередко «чаплиниада» переключается у него на трагическую иронию. Отметим попутно, что только при таком понимании «эспентрической лирики» у Малера становится ясной – на первый взгляд парадоксальная до нелепости – драматургия незаконченной его Десятой симфонии: одно Adagio, За которым следуют четыре скерцо.
Добавлю, что этот метод переинтонирования гротеска в плане косвенно-лирического высказывания бесспорно присущ через Малера – и Шостаковичу. Это, несомненно, один из путей Шостаковича к большой лирике (хотя, конечно, не единственный и не самый главный). В частности, в свое время изумившая многих структура Шестой симфонии Шостаковича опять же становится понятной, если истолковать ее драматический замысел как противопоставление глубокой философской «прямой лирики» (I часть) лирике «косвенной» (последние две части). Вся симфония, разумеется, поразительно цельна (это ощущаешь при первом же прослушивании, несмотря на кажущуюся пеструю разнородность частей) и вся – от первого до последнего такта – насквозь лирична. Путь к лирике из эксцентрико-юмористических интонаций можно, пожалуй, проследить и на финале его же Фортепианного квинтета.
Особую трудность для XIX века представляла проблема Эпического симфонизма.
Что методы эпического симфонического развертывания в корне отличаются от методов драматического симфонизма шекспиризирующего типа, понятно само собой. Но был ли дан где-либо этот эпический симфонизм в европейской музыке XIX века? И был ли он вообще возможен исторически?
Романтическая философская эстетика на этот вопрос, в общем, отвечала отрицательно. Памятны блестящие рассуждения об эпосе в лекциях по эстетике у Гегеля. Эпос не может быть создан искусственно;105 он предполагает эпическое состояние мира, героическую ступень его развития, большие коллизии народов, народные войны, храбрость, как настоящую эпическую добродетель... Поэтому эпос кончается с средневерхненемецкой «Песнью о нибелунгах», с испанскими романсами о Сиде, с «Лузиадами» Камоэнса.
Ныне эпос невозможен, место эпоса занял роман – эпос частных лиц, а не народов. Поэтому в искусстве XIX века для эпоса нет воздуха и места.
В известной мере концепция Гегеля имела свою историческую правоту: в той обстановке, в какой читались эти лекции по эстетике, в негероической послереспубликанской, посленаполеоновской Европе о больших эпических коллизиях, действительно, говорить было трудно. И все же кое-какие элементы эпического симфонизма в европейской музыке расслышать было можно.
Что характерно для эпического симфонизма? Думается, лирика, но не отдельной творческой личности, а|лирика целого народа, целой культуры, лирика, откристаллизовавшаяся в течение столетий, связанная с национальногероическими преданиями, с великим историческим прошлым народа.
Мне представляется, что, быть может, единственным образцом эпического симфонизма на Западе в чистом виде явился гениальный Реквием Берлиоза. Это – последний отблеск героических битв французской революции. Он был рожден воспоминаниями о баррикадных боях Июльской революции 1830 года, он говорит об этих боях менее всего байроническими интонациями (которые были типичны для Берлиоза в «Фантастической симфонии», «Гарольде», «Ромео», «Осуждении Фауста»), но языком, обобщившим интонации и бетховенского симфонизма, и республиканской оперы Керубини и Лесюэра, и песен, маршей и траурных шествий французской буржуазной революции – Мегюля, Госсека, Руже де Лиля и многих народных певцов, и даже той музыки, которая столетиями звучала под сводами собора Парижской богоматери. Берлиоз действительно сумел подняться до гениального, единственного в своем роде обобщения многовековых интонаций всей музыкальной культуры французского народа. Вот почему ему удалось создать подлинно эпическую симфонию на романтической основе.
У Вагнера было много предпосылок создать произведения эпического склада. Он понимал, что такое монументальность и величие. Его «Зигфрид» задуман в лучшую ЭРУ творческой жизни Вагнера, связанную с дрезденскими уличными боями и со страстной ненавистью к капиталистическому угнетению; его тетралогия, могла бы стать – рядом с «Человеческой комедией» Бальзака – величайшим антика-питалистическим художественным произведением XIX века.
Но Вагнер стал на скользкий путь антиисторической модернизации эпоса: его Вотан философствует, словно защитил докторскую диссертацию в одном из немецких университетов XIX века, его Брунгильды и Изольды начитались Новалиса и обладают психологическим анализом героинь Флобера и Гонкуров. Сочетание эпического панциря и меча с флоберизмом и было, думается мне, тем внутренним противоречием, на котором потерпел крушение вагнеровский замысел симфонического эпоса. Трагический пафос «Кольца Нибелунга» – пафос романтических конфликтов XIX века, а не суровых эпических коллизий седого прошлого.
И все-таки в XIX веке великая традиция эпического симфонизма была создана. Всемирно-историческое значение русской классической симфонической культуры заключалось в том, что она не только возродила к новой жизни все, дотоле существовавшие типы симфонизма, почти отсутствовавшего на Западе. Гений Глинки – всеобъемлющего русского композитора – вывел его на путь бетховенианского драматического симфонизма шекспиризирующего типа («Иван Сусанин», от которого прямая дорога ведет к «Борису» Мусоргского с его симфонизацией вокальной интонации и чисто шекспировским методом социально-психологической портретизации) и на просторную дорогу симфонизма эпического. От «Руслана» протягиваются нити к «Игорю» и «Богатырской симфонии» Бородина, к сказочно-эпическому симфонизму Римского-Корсакова (разумеется, эпический симфонизм включает в себя и пейзажно-природное йкчало: в эпосе стихии природы неотделимы от судеб человеческих, и это отлично понимали и Глинка, и Римский-Корсаков, и Бородин) и, наконец, к величайшему эпическому произведению, созданному уже на рубеже XIX века,– «Сказанию о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Римского-Корсакова. То, что русская музыка смогла в XIX веке создать Эпос, нас не должно удивлять: в силу исторических путей развития Россия в XIX веке разрешала ряд ренессансных проблем, выдвинув своего Шекспира – Пушкина (тогда как на Западе ни один драматург XIX века, даже Бюхнер в «Смерти Дантона», не мог приблизиться хотя бы отдаленно к шекспировским масштабам), своего Сервантеса в образе Гоголя (чья поэма «Мертвые души» является самым гениальным «плутовским романом» всей мировой литературы).
Русский эпический симфонизм также явился великолепным обобщением многовековых интонаций русского народа на протяжении всего его великого творческого пути. И Глинка, и композиторы Новой русской школы творили, имея богатейшие предпосылки в русской песенности, фольклоре, сокровищнице былин и исторических преданий. Воздействие русского эпического симфонизма нельзя недооценить. Он приобретает исключительное значение для путей развития советского симфонизма, в частности для молодых симфонистов наших братских республик: и «Давид Сасун-ский», и «Джангар», и «Калевала», и многие другие великие создания эпического народного творчества являются темами советского эпического симфонизма.
Мы охарактеризовали несколько основных типов мирового классического симфонизма. Существуют и другие. Особая тема – симфонизм бытовой и комедийно-юмористиче ский; у нас есть все основания ожидать появления и «советского Россини», и «советского Гайдна». Оставим в стороне Эту тему. Пока что, в заключение, сделаем следующие выводы.
Русская музыкальная культура не только творчески освоила и развила на новой национальной основе все существующие типы европейского симфонизма (бетховенско-драматический симфонизм «шекспиризирующего» типа, лирико-монологический «байронизирующий» симфонизм), но и создала в целом неведомый Западу тип эпической симфонии. Эти типы должны быть продолжены и творчески развиты советским симфонизмом. Вероятно, он же закономерно создаст и новые симфонические типы и жанры, предугадывать очертания которых сейчас, быть может, и преждевременно. Во всяком случае, было бы ошибкой односторонне культивировать какой-либо излюбленный тип, например лирического симфонизма (некоторый крен в эту сторону, и притом нередко в плане суженной, упрощенно понятой лирики, без сомнения у нас существует). Именно универсальный охват, многообразие тем, типов, жанров, интонаций, выразительных средств вообще должны быть присущи советскому симфонизму. Он принимает на себя симфоническое представительство во всемирно-историческом масштабе. К его голосу взволнованно прислушиваются все честные, жаждущие выхода из мучительных, далеко не всегда до конца преодоленных противоречий, ищущие новых творческих путей, передовые, лучшие музыканты всех стран мира. На наших советских симфонистов возложена великая исто рическая ответственность,
ЗАМЕТКИ О КОМИЧЕСКОЙ ОПЕРЕ
Жанру комической оперы в советской музыке пока что не слишком уделялось внимание. По вполне понятным причинам наши композиторы обращались прежде всего к героической и историко-революционной тематике. Тут были оперы на тему о восстании Ивана Болотникова («Комарин-ский мужик» Желобинского), о Степане Разине («Степан Разин» Триодина), о Пугачеве («Орлиный бунт» Пащенко), о трагедиях крепостного быта («Тупейный художник» Ши-шова, «Именины» Желобинского, незавершенная «Анна Колосова» Щербачева), о декабристах (опера Шапорина), о революции 1905 года («Броненосец ,,Потемкин“» Чишко), о перерастании империалистической войны в гражданскую («Тихий Дон» Дзержинского), о героических годах гражданской войны и интервенции («Щорс» Фарди, «Черный яр» Пащенко, «Мятеж» Ходжа-Зйнатова) – вплоть до недавних событий нашего великого времени («Поднятая целина» Дзержинского).