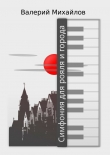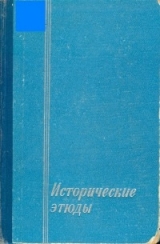
Текст книги "Исторические этюды"
Автор книги: И. Соллертинский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 28 страниц)
3
Сюжетным источником последней оперы Бизе послужила вышедшая в свет в 1847 году повесть знаменитого французского писателя Мериме «Кармен».
Проспер Мериме (1803—1870) представляет собой на фоне европейской литературной жизни прошлого столетия в высшей степени своеобразную фигуру. Он известен как разносторонне образованный человек, археолог и историк, неутомимый путешественник, дипломат, увлекательный рассказчик, замечательный стилист, великий мастер литературной мистификации (как известно, даже Пушкин в «Песнях западных славян» попался на его удочку, приняв сочиненный Мериме сборник «Гузла» за подлинные записи иллирийских песен, якобы принадлежавших сказителю-певцу Иа-кинфу Маглановичу, на самом же деле – лицу, вымышленному самим Мериме). Он рано выходит на литературное поприще, начав опять-таки с мистификации: со сборника маленьких драм «Театр Клары Газуль» (1825), будто бы принадлежащих перу некогда прославленной испанской актрисы (причем к сборнику для пущей достоверности было приложено ее воображаемое жизнеописание). Псевдоним скоро был раскрыт, и о таланте Мериме заговорили. Гёте в известных беседах с Эккерманом неоднократно отзывался о Мериме с большими похвалами.
В эти годы Мериме находится под сильным влиянием Стендаля, настроен антиклерикально и антимонархически. Об этом красноречиво свидетельствует его замечательная историческая драма-хроника «Жакерия» (1828) с ярким и темпераментным изображением средневекового крестьянского восстания. Мировую славу Мериме завоевывает своими новеллами «Взятие редута» (драматический эпизод из истории наполеоновских войн), «Маттео Фальконе» и «Коломба» (нравы корсиканских крестьян), «Двойная ошибка», «Души чистилища» (оригинальная обработка легенды о Дон-Жуане), «Кармен», «Локис» (у нас известная по кинофильму «Медвежья свадьба») и др. Стиль повествования Мериме – в отличие от театрального пафоса романтиков – точный, лаконический, элегантный, слегка иронический, иногда остроумно парадоксальный. Нотки скептицизма и пессимизма усиливаются во второй половине жизни. Особая заслуга Мериме – в ярко талантливой пропаганде русской литературы. Овладев русским языком, он переводит Пушкина, Гоголя, Лермонтова и др.
Развитие сюжета в опере Бизе несколько разнится от хода повествования Мериме. В новелле Мериме рассказ ведется от имени автора, который осенью 1830 года предпринял путешествие в Андалузию с археологическими целями. В лесу он встречает человека, в котором его проводник из Кордовы сразу узнает известного бандита, Хозе Лиззарабен-гоа, баска из Наварры. Он имел «белокурые волосы, голубые глаза, большой рот, прекрасные зубы, маленькие руки, рубашку тонкого полотна, бархатную куртку с серебряными пуговицами, гамаши из белой кожи и пегого коня». В следующей главе Мериме описывает встречу в Кордове на набережной Гвадалквивира с цыганкой Кармен: 86 она была «молода, мала ростом, хорошо сложена и имела очень большие глаза», «в волосах ее был большой букет жасмина, цветы которого в вечернем воздухе излучали дурманящий аромат». Дикая красота Кармен производит на автора неизгладимое впечатление. Впоследствии Мериме узнает, что Хозе находится в тюрьме и ожидает казни. Автор навещает бандита в темнице, и тот рассказывает ему исповедь своей жизни, свою любовную трагедию. Он был бригадиром полка Альмансы; под влиянием любви к Кармен стал контрабандистом, дальше разбойником, не останавливавшимся перед убийствами; позже он предложил Кармен бежать вместе с ним в Америку, чтобы покончить с преступным прошлым;
однако Кармен, увлеченная пикадором Лукасом, отказалась следовать за Хозе, и тот, в бешеном порыве ревности, убил ее.
Рассказав свою жизнь, Хозе просит автора передать проживающей в Наварре старухе-матери медальон: «Скажите ей, что я умер, но не говорите, какой смертью».1
Такова повесть Мериме, послужившая источником гениального создания Бизе. Либретто оперы принадлежит двум известным и опытным французским драматургам Анри Мельяку (1831—1897) и Людовику Галеви (1834—1908), авторам многих оригинальных пьес и остроумным сценаристам Оффенбаха.
Либретто «Кармен» сделано мастерски; экспозиция проста, действие стремительно развивается вперед, все время держа слушателя в состоянии напряженного интереса. Следуя в основном за повестью Мериме, Мельяк и Галеви внесли некоторые изменения; так, ими введен в драму образ крестьянской девушки Микаэлы как лирический контраст к фигуре Кармен.
Известно, что в первоначальной редакции «Кармен» музыкальные номера (арии, дуэты, ансамбли, марши, танцы) чередовались с прозаическими диалогами. Впоследствии разговорная речь была заменена музыкальной – речитативами, которые написал ближайший друг Бизе, композитор Эрнест Гиро (1837—1892). Гиро подошел к эт°й труднейшей задаче с замечательной стилистической чуткостью, как бы стараясь вжиться в манеру письма Бизе, дабы речитативы не выпадали из общего музыкального замысла оперы. Гиро это блестяще удалось: достигнута полная иллюзия, будто речитативы написаны той же рукой, что и вся опера.87 88
При первом представлении в парижской Комической опере «Кармен», как сказано, успеха не имела, несмотря на Замечательное исполнение артисткой Галли-Марье роли Кармен. По свидетельству Галеви, хлопали лишь дуэту Хозе и Микаэлы в I акте, бисировали вступление ко II действию и аплодировали куплетам Эскамильо; в III акте понравилась лишь ария Микаэлы; последний акт был принят ледяным молчанием. Гиро рассказывает, что всю ночь после премьеры – вплоть до утреннего рассвета – Бизе в молчаливом отчаянии бродил по спящим улицам Парижа, мучительно переживая провал любимейшего своего создания.
Нелегко уяснить причины этого провала в наше время, когда «Кармен» давно уже сделалась любимейшей оперой в репертуаре. Некоторый свет проливают тогдашние рецензии. Одни упрекали Бизе в «вагнерианстве» (хотя методы музыкальной драматургии Бизе прямо противоположны методам Вагнера!), другие – в отсутствии мелодии (!), третьи– в том, что песенка Хозе за кулисами («Драгун из Алькала») «обладает расплывчатым рисунком и вычурной гармонией» (хотя, как известно, эта песенка написана без инструментального сопровождения). Укоряли Бизе и за «непонятность»: «это – кохинхинская музыка» (?). Но главное– «Кармен» был брошен упрек в «безнравственности»! Пример подал Камилл дю Локль, туповатый директор Комической оперы, «почтительнейше» ответивший министру, обратившемуся к нему с просьбой предоставить ложу на премьеру «Кармен», что опера «неприлична» и что пусть лучше г-н министр сам придет на генеральную репетицию и лично решит, может ли он взять свое почтенное семейство на столь рискованный спектакль!
Итак, буржуазная мораль, в свое время не смущавшаяся соблазнительным разрезом платья «Прекрасной Елены» и сногсшибательными канканами Оффенбаха, сочла нужным стать в позу оскорбленного целомудрия при виде «Кармен»! Почему же великосветский Париж Третьей республики выступил в защиту ханжеской морали гувернантки?
Ларчик открывался просто. Французская буржуазия 1875 года, еще не успевшая оправиться от панического страха перед Парижской коммуной, не могла простить Бизе, что он – впервые на оперной сцене – вывел на подмостки не трафаретных принцесс и рыцарей, но живых людей
ИЗ народных низов: работницу табачной фабрики, солдата, крестьянку, контрабандистов. Ибо, конечно, Хозе менее всего – сентиментально-галантный оперный красавец-тенор: Это – живая человеческая фигура. В I акте он – суеверный крестьянский парень, затянутый в драгунский мундир. Он «ест» глазами начальство. Он помнит проповеди деревенского патера о нечистой силе и впрямь убежден, что Кармен– ведьма, околдовавшая его демоническими чарами. Во II акте его дезертирство – вовсе не результат сознательного бунтарства; он растерян, он потрясен одновременно и чувственной страстью к Кармен, и фактом нарушения военной субординации; он – игрушка в руках рокового стечения обстоятельств. В последнем акте Хозе – выбитый из жизненной колеи крестьянин среди шумного городского празднества. Высшее, на что он способен,– это исступленный протест мелкого собственника, находящий потрясающее выражение в финальном дуэте и убийстве цыганки. Бизе дает с поразительной реалистической силой живой образ страдающего, бессильного и жалкого человека.
Не менее рельефен и непобедимый тореадор Эскамиль0> очерченный несколькими выразительными штрихами. Он – не более, как цирковая примадонна, кокетливый фат, кумир истерических дам испанского высшего света; впрочем, ради популярности (да и амурных интрижек) он не прочь заигрывать и с «чернью». При всем том он лишен мужества и темперамента.
Новейшая французская эстетская критика (Ландорми, Готье-Вилл ар, Лапарра и др.) склонна упрекать Бизе в штампованности образа Микаэлы. Обвинение направлено не по адресу и должно быть обращено к тем исполнительницам, которые превращают Микаэлу в благонравную институтку. Микаэла – это добросердечная, трогательная и в то же время мужественная крестьянская девушка (она не боится идти ночью в стан контрабандистов) с обветренным и загорелым от работы под палящим зноем лицом. Ее появление в III акте – вовсе не предлог для вставной лирической арии, но глубоко драматический момент.
Высшим достижением реалистического мастерства Бизе, разумеется, является образ цыганки Кармен. Ее выход на драматических акцентах оркестра, хабанера и сегидилья в I акте, танец в таверне, гениальная по психологической силе сцена гадания в горах, фа-минорный монолог, где Кармен поднимается до высот подлинного трагического величия, не менее потрясающий дуэт последнего акта, – последовательно раскрывают единственный в своей неподражаемой правдивости образ Кармен. Такой героини оперная сцена XIX века не знала.
А как великолепно поданы Бизе жанровые сцены и персонажи – все эти табачницы, цыганки, солдаты, контрабандисты, красочно пестрая толпа, предвкушающая острые ощущения корриды (боя быков)! Все это живет, движется, волнуется, спешит, буйствует в безудержном веселье, полно кипучего южного темперамента. Ритмическая гибкость и интонационная выразительность хоров в «Кармен» опять же не имеют ничего общего с обычной штампованной трактовкой оперной «массы». В хоровых сценах «Кармен» бьет ключом настоящая жизнь.
Этого-то не могли переварить в гениальном творении Бизе парижские буржуа и оперные завсегдатаи Третьей республики. Свои впечатления они резюмировали обошедшей «столицу мира» фразой: «Какая правдивость! но. .. какой скандал!».
5
Крупнейшим достоинством «Кармен» является полное, в точном смысле слова абсолютное совпадение сценического и музыкального действия. Статически-описательных моментов нет вовсе; оркестр никогда не отвлекает внимания от драматических событий. На первый взгляд кажется, будто вся «Кармен» состоит из чередования маршей, арий, куплетов и танцев. На самом деле она представляет собой поразительное композиционное единство. Все «номера» спаяны между собой железной музыкально-драматической логикой. Связующими элементами являются прежде всего несколько «сквозных» мотивов. Таков, например, знаменитый роковой мотив из пяти нот с увеличенной секундой (типичной для андалузско-цыганской мелодии – так называемого стиля

18 и. Соллертннский, т. 1
273
«фламенко»). Этот мотив впервые появляется в конце увертюры у виолончелей, подкрепленных кларнетом, трубой и фаготом, на фоне возбужденного тремоло струнных, и дальше проходит красной нитью через всю партитуру оперы, появляясь то в основном, то в замаскированном или видоизмененном виде во всех решающих для судеб героев моментах действия – вплоть до сцены убийства, когда он прорывается с трагическим торжеством на мощном фортиссимо всего оркестра. Далее – это мотив тореадора, звучащий и в увертюре, и в куплетах в таверне Лилас-Пастья, и в зловеще настороженной тишине финала III акта, и в триумфальном марше последнего действия. Можно указать еще на эпизодически появляющийся мотив страсти Хозе и Кармен (он впервые взволнованно звучит в том месте I акта,

когда Кармен бросает солдату цветок), на мотив бегства в горы ради вольной жизни (II акт), на мотивы матери (I и III акты)... Зт° но навязчивые лейтмотивы, но своеобразные эмоционально-звуковые символы или напоминания.
Большая часть мелодического материала «Кармен»—оригинальные создания Бизе, обнаруживающие интонационное родство скорее с провансальским, нежели испанским фольклором. В Испании Бизе никогда не был. К подлинным испанским мелодиям относится прежде всего мотив хабанеры I акта; он взят – хотя и в несколько измененном виде – из песни «Е1 arreglito» («Обручение»), помещенной в сборнике




испанских песен Себастьяна Ирадьера, изданном в Париже в 1864 году; впрочем, ритмика хабанеры – не испанского, а креольско-американского характера (что подчеркивается и названием «хабанера» – от Гаваны, города на острове Куба) и приближается к ритму медленного танго. При всем том поразительно мастерство, с которым Бизе сделал из скромной танцевально-лирической песенки Ирадьера гениальный в своей драматической выразительности монолог, раскрывающий характер и «философию любви» Кармен. Испанского происхождения и мелодия знаменитого фанданго – вступление к IV акту, – навеянная одной из песен в сопровождении гитары некогда прославленного тенора Мануэля Гарсиа (отца двух не менее прославленных певиц – Мари Малибран и Полины Виардо). И здесь Бизе из незатейливой песенки создает громадную, полную напряженного трагического ожидания неумолимой развязки, музыкальную картину. Типичные для андалузско-цыганского стиля «фламенко» мелодические обороты можно найти и в открывающей сцену в таверне песне Кармен. В остальном
Бизе мелодически совершенно самостоятелен, хотя благодаря замечательному стилистическому чутью не раз создает иллюзию подлинно испанской музыки.
В пределах настоящего очерка нет никакой возможности, хотя бы в общих чертах, охарактеризовать все музыкальное богатство величайшего создания Бизе, его чисто моцартов-ское уменье достигать сильнейших эффектов более чем скромными средствами, его ритмическую изобретательность, его – подмеченные еще Чайковским – гармонические новшества (чего стоит – возьмем наудачу – хотя бы секвенция из увеличенных трезвучий в хоре контрабандистов III акта!). Все это отмечено печатью подлинной гениальности и все это, – что тоже подчеркнул Чайковский, – никогда не является самоцелью, но с потрясающим искусством раскрывает глубоко человечное содержание драмы. Именно этот углубленный музыкальный реализм бесконечно возвышает Бизе над всеми его оперными современниками – Тома, Гуно, Массне, Сен-Сансом и прочими – и позволяет назвать Бизе, рядом с другим при жизни пе признанным гением, Гектором Берлиозом, – первым композитором Франции. Вдохновенное же создание Бизе – «Кармен» – бесспорно принадлежит к числу величайших произведений всей мировой музыки.
СИМФОНИИ БРАМСА
1
К созданию больших симфонических партитур Брамс подошел в зрелом возрасте. Во время завершения работы над Первой, до-минорной симфонией (сентябрь 1876 г., судя по пометке в рукописи) композитору исполнилось сорок три года. Правда, эта симфония – «десятая симфония Бетховена» по крылатому определению Ганса Бюлова – в отличие от последующих трех симфоний – вынашивалась годами, если не десятилетиями: ее I часть – за исключением поразительного по напряженности, в своем роде не имеющего прецедента во всей мировой симфонической литературе, медленного вступления со зловеще отстукиваемыми восьмыми у литавр – была в черновике закончена еще в 1862 году. Эт0 – вдохновенное, хотя и в муках рожденное (как в длительных страданиях рождалась и Девятая симфония Бетховена), детище брамсовских лет «бури и натиска», гениальное воплощение всех противоречий его творческой души, его «фаустовская» или «прометеевская» симфония. Остальные симфонии были созданы сравнительно быстро: осенью 1877 года была закончена идиллическая Вторая симфония D-dur; далее, после некоторого промежутка, в течение которого были написаны скрипичный концерт D-dur (1879), «Академическая» и «Трагическая» увертюры (1881) и Второй фортепианный концерт B-dur (1882), создается Третья симфония F-dur (1883) —по архитектонике наиболее совершенное инструментальное произведение Брамса, вслед за которым симфонический путь Брамса достойно увенчивается потрясающей Четвертой симфонией e-moll (1884—1885).
Свое «боевое крещение» симфонизм Брамса получил в Вене в тех же 70—80-х годах прошлого столетия: он оказался в центре страстной и продолжительной дискуссии между «листо-вагнерианцами» и «браминами» (этой иронической кличкой враги обзывали приверженцев музыки Брамса), по своей непримиримой ожесточенности напоминавшей войну между «глюкистами» и «пиччинистами», разыгравшуюся в оперных фойе и литературно-философских салонах Парижа столетием раньше. В печати лидером брам-сианцев выступал саркастический, тонкий и умный критик Эдуард Ганслик; его поддерживали великие и пламенно Энтузиастические пропагандисты творчества Брамса – скрипач Йозеф Иоахим, дирижер и пианист Ганс Бюлов...
В свою очередь неукротимый Вагнер – кстати, на редкость искусный мастер поднимать вокруг своего дела оглушительный полемический шум – мобилизовал против Брамса целую армию своих адептов – музыкальных писателей, журналистов, молодых композиторов, студентов и просто восторженных юношей. Среди них впоследствии выделится ярко своеобразная фигура Гуго Вольфа, который своими резкими и пристрастными статьями по адресу Брамса в «Венском салонном листке («Wiener Salonblatt», где в 1884 – 1887 гг. он был постоянным рецензентом) будет подливать немало масла в огонь дискуссии.
В этих спорах очень характерна позиция самого Брамса: он начисто воздерживается от каких бы то ни было печатных или публичных выступлений, и вовсе не потому, что хочет остаться в тени и руководить дискуссией закулисно – он нисколько не сочувствует полемическому темпераменту ни друзей, ни противников. Брамс был художником, который в точном смысле слова стоял на высшей ступени современной ему цивилизации. Его литературные и музыкальные вкусы были на редкость широки и разносторонни.89Он вполне понимал и высоко ценил музыку своего яростного врага Рихарда Вагнера – особенно партитуру «Мейстерзингеров», – что не мешало ему горячо восхищаться Реквиемом Верди и почитать «Кармен» Бизе своей любимой оперой.
И все-таки, как ни глубоко ценил Брамс музыку Рихарда Вагнера (как и пианистическую гениальность Листа), разделять творческие принципы и установки байрейтского маэстро или веймарской школы, созданной Листом, он не мог. Всем его убеждениям, всей его «философии культуры», воспитанной на чувстве исторической преемственности между прошлым и настоящим, органически претил сам вагнеровский замысел «музыки будущего», для которой вся классическая музыкальная традиция – лишь трамплин для прыжка в неизвестное, которая не признает великих мастеров XVII—XVIII веков (ибо Вагнер, в сущности, не понимал ни итальянцев, ни Баха, ни Генделя, и даже Моцарта и Глюка принимал со множеством оговорок) и которая начинает свое летосчисление лишь с Бетховена, рассматриваемого в качестве «предтечи». Вагнеровская идея «синтетического произведения искусства» («Gesamtkunstwerk»), возникающего на основе музыкального театра и отменяющего все дотоле существовавшие отдельно музыкальные жанры – симфонию, сонату и т. д., – не могли не казаться Брамсу дилетантской утопией. Еще менее мог согласиться Брамс с теорией отмирания чисто инструментального симфонизма, проповедуемой Вагнером: будто Бетховен исчерпал в первых своих восьми симфониях все возможности инструментальной музыки, а в финале Девятой симфонии капитулировал перед силой поэтического слова, тем самым доказав невозможность продолжать оперировать дальше одними оркестровыми средствами. Поэтому-де, по мысли, Вагнера, финал Девятой симфонии
Бетховена – это тот дифирамб (в древнегреческом смысле слова), из которого – подобно античной – родится музыкальная трагедия будущего. Именно потому с таким сектантским негодованием встретили вагнерианцы появление «десятой симфонии Бетховена» – Первой симфонии Брамса: самый факт возможности ее создания являлся живым творческим опровержением вагнеровских теоретических прогнозов!
Самое же главное: Брамс с поразительной проницательностью и дальновидностью понимал, что от листо-вагнеровских эротических томлений и экстазов, от шопенгауэровского, буддийского или неокатолического пессимизма, от тристановских гармоний, от мистических озарений, мечтаний о сверхчеловеке – прямой путь ведет к модернизму и декадентству, к распаду классической европейской художественной культуры. Именно эти бациллы декадентства, скрыто или явно наличествовавшие в «музыке будущего», и вызывали наибольшие опасения Брамса. Он ясно понимал, что – если отбросить весь полемический задор, всевозможные личные аргументы, газетное остроумие и обязательный в таких случаях бранный лексикон – принципиальный смысл дискуссии очень серьезен. Спор шел ни больше, ни меньше, как о дальнейших судьбах европейской музыкальной культуры в целом: удержится ли она в лучших классико-романтических традициях, связанных с великим музыкальным прошлым, или неудержимо покатится по декадентскому наклону – ко всяческим «измам», к разрушению классических жанров, структур и связей, их нигилистическому отрицанию, к формальному гениальнича-нию, истерии и внутренней безыдейности – ко всему тому, что будет характеризовать этически опустошенное искусство загнивающего капитализма... Этого-то Брамс и страшился больше всего. Задержать распад европейской музыкальной культуры, ориентировать ее на великие классические Эпохи прошлого, охватить ее железным обручем строгой классической формы, бороться с рыхлостью, расплывчатостью, дряблостью неоромантических эпигонов – такова была великая историческая задача Брамса. Поверхностным критикам эта задача казалась рожденной в голове упрямого консерватора и архаиста: по существу она была во всяком случае не менее дерзновенно смелой, нежели вулканический замысел «музыки буду щ его!»
Своеобразие музыкального языка и стиля Брамса изучено все еще далеко не достаточно.90 Нет полной ясности и в членении творческой биографии Брамса на основные периоды. Кстати, одна из редких особенностей становления Брамса-композитора заключается в том, что он не культивирует преимущественно какой-либо один жанр (как это имело место у Вагнера и Верди – с оперой, у Брукнера и Малера– с симфонией и т. д.) и не совмещает на одном и том же этапе работу над разными жанрами (подобно Моцарту, Бетховену или Чайковскому), но обычно обращается к одному из них, бросает на него все свои силы, а затем, словно исчерпав свои творческие возможности в данном жанре, переходит к другому, чтобы к предыдущему больше не возвращаться. Так, все три фортепианные сонаты Брамса (C-dur, fis-moll и f-moll) написаны между 1852—1859 годами и принадлежат к числу самых ранних опусов (1, 2 и 5). Далее Брамс переходит к сочинению фортепианных вариаций и несколько позже – композиций для струнного ансамбля с фортепиано (фортепианные квартеты g-moll соч. 25 и A-dur соч. 26, фортепианный квинтет f-moll соч. 34). Опусы от 41 до 55 вокальны (за исключением 51-го, вмещающего в себя два струнных квартета c-moll и a-moll): тут и песни, и хоры, и вальсы для вокального квартета и фортепиано в 4 руки, и проникновенный «Немецкий Реквием» – одно из самых монументальных творений Брамса, и кантаты «Ринальдо» (по Гёте), «Песнь судьбы» (по Гельдерлину), «Триумфальная песнь» (на текст отрывка из 19-й главы Апокалипсиса) и величавая рапсодия для контральто соло, хора и оркестра (по «Зимнему путешествию в Гарц» Гёте). Далее наступают годы работы над оркестровыми концертами, симфониями и увертюрами. Сочинения последних
лет – вновь камерного плана; среди них в жанровом разрезе особо выделяются произведения с участием кларнета. Трио a-moll для фортепиано, кларнета и виолончели (соч. 114), гениальный Квинтет h-moll для кларнета и струнных (соч. 115), две превосходные сонаты для кларнета и фортепиано f-moll и Es-dur (соч. 120).
Исходная точка стилевой эволюции Брамса – Бетховен и в особенности Шуман: это становится очевидным хотя бы при поверхностном ознакомлении с первыми опусами – фортепианными сонатами. Напутствуемый Шуманом в его Эпохальной для молодого композитора статье «Новые пути» (1853), Брамс как бы становится «творческим душеприказчиком» Шумана, полноправным наследником и продолжателем его музыкального дела; перефразируя известное высказывание Берлиоза о своей преемственности Бетховену, Брамс мог бы утверждать, что он «взял музыку там, где Шуман ее оставил». В это время Брамс – романтик чистейшей воды, целиком впитавший в себя романтическое мироощущение, романтическую философию искусства, романтическую этику и стиль жизни. Верно, однако, и то, что уже в эти годы двадцатилетний Брамс – и это не могло не поразить Шумана – сполна владеет трудным искусством большой формы: романтические интонации, романтический музыкальный материал у него как-то иначе, строже организованы, заключены в чеканную оправу. Нет импровизационной расплывчатости, многословия. Во вдохновенной творческой работе незримо присутствует суровая и мужественная внутренняя дисциплина. Это еще не означает, что романтическая порывистость и страстность полностью обузданы могучим интеллектом. И тем не менее уже в раннем периоде творчества Брамс обнаруживает неуклонное стремление к глубоко индивидуальному синтезу романтического комплекса чувств и чисто классического структурного мышления. Именно благодаря этому стремлению Брамс не мог принять созданный Листом жанр программной симфонической поэмы: его отталкивала от него рапсодическая импровизационность, рыхлость формы, швы, рамплиссажи– искусственные заполнения пустых мест; ему казалось, что в симфонических поэмах подобного рода музыкальная логика насилуется ради «литературщины». Оттого в начале 50-х годов Брамс категорически воздержался примкнуть к модному тогда программно-симфоническому направлению, несмотря на гипнотическое обаяние авторитета Листа и попытки листианцев вовлечь столь одаренного юношу в веймарскую орбиту.
Воля классическим принципам музыкального мышления и формообразования заставила Брамса обратить свой взор – после того как Бетховен и Шуман были творчески освоены– на все грандиозное музыкальное наследие великих маете™ ров добетховенского времени: Генделя, Баха и дальше – нидерландских, итальянских, германских полифонистов
XVI– XVII веков. Они интересуют Брамса вовсе не в плане пышной декоративной стилизации (которая всегда предполагает «пафос дистанции» между художником-стилизатором и стилизуемым объектом: стилизуют обычно то, что принципиально и хронологически далеко от современности, по существу чуждо ей, и стилизация есть особый метод именно из этой «далекости» и «чуждости» извлечь особое эстетическое наслаждение; так буржуа трезвого и делового XIX века с легкой руки Гонкуров стремились «вживаться» в стилизованное дворянское искусство XVIII века и создали сноби-стический культ рококо).
Искусство Баха и старинных контрапунктистов Брамс стремится понять изнутри, как живую музыку, а отнюдь не как великолепные памятники мертвой культуры прошлого (а именно так – и то в лучшем случае – их воспринимали вагнерианцы). Поэтому он глубоко проникает в духовный мир великих зодчих монументальной музыкальной классики
XVII– XVIII веков: как сказано выше – без ретроспективной стилизации, без «смакования старинки» – и в то же время без модернизации, без «гальванизации» классиков при помощи романтико-трагедийного пафоса (что нередко делал Лист, обращаясь к Иоганну-Себастьяну Баху). Брамс хочет постигнуть живой человеческий, драматический смысл любой классической формы-структуры, внутренний творческий стимул, ее породивший.91 Только поэтому ему удается вдохнуть огненную жизнь в такие формы-структуры, как классическое сонатное аллегро, тема с вариациями, пассакалья, чакона и т. д. В ртом разрезе непревзойденным шедевром Брамса является гениальный финал его Четвертой симфонии – чакона с тридцатью двумя вариациями, где завоевано совершеннейшее единство сложнейшей формы и сквозного потока раскаленной эмоции, целостного трагического действия. .. Единственный во всей мировой музыкальной литературе его аналог – вариационный финал Героической симфонии Бетховена. Здесь Брамс полностью, до конца, выдерживает состязание с Бетховеном и может по праву пожать ему руку как равный равному...
И все же, при таком методе музыкального построения, перед Брамсом естественно могла возникнуть опасность отвлеченного академизма или рационализма. Этой опасности Брамс счастливо избежал благодаря своей органической и крепкой связи с народной песней. Ибо истоки музыкального языка Брамса – это не только Шуман, Бетховен, Бах, старинные контрапунктисты XVI—XVII веков: Это в то же время и венгерская, немецкая, славянская народная песня...
Совершенно исключительную роль в музыкальной биографии Брамса сыграл венгерский фольклор. Брамс сроднился с ним еще в юности, в «годы странствований», когда на родине Брамса – в Гамбурге – временно оседали на пути в Америку венгерские политические эмигранты после 1849 года. Позже дружба с венгерскими музыкантами-скрипачами – Ременьи, Иоахимом – закрепила эту связь Брамса с венгерскими народными напевами. Венгерская музыкальная речь становится для Брамса буквально родной. Дело не только в том, что, начиная с 1853 года, когда были написаны фортепианные вариации на венгерскую тему (позже изданные как соч. 21 № 2), Брамс обращается к венгерскому мелосу, блестяще используя его, в частности, для бурных и ослепительных финалов своих инструментальных сочинений (например, последние части фортепианных квартетов g-moll и A-dur, Скрипичного и двойного – для скрипки и виолончели – концертов с оркестром и т. д.). Более существенно то, что Брамс, отнюдь не прибегая к цитатам, пользуется типическими венгерскими оборотами и интонациями («унгаризмами») всякий раз, когда ему нужно создать патетический или драматический образ (тогда как для идиллических образов Брамс чаще всего обращается к венскому городскому фольклору). Именно венгерскими интонациями насыщены многочисленные пламенно-драматические страницы его симфоний.
Говоря о венгерских темах и интонациях, трудно не упомянуть Листа. И все же следует подчеркнуть, что Брамс проникает в стихию венгерской песенности много глубже, нежели Лист. Это верно подметил В. Стасов, утверждая, что сочинения Брамса с венгерской тематикой являются «достойными своей славы и далеко оставляющими за собой венгерские рапсодии и фантазии Листа, – в этих последних вместе со многими достоинствами и великим одушевлением слишком много листовского концертного пианизма, личного вкуса и ненужной орнаментики». Это совершенно справедливо, но дело не только в этом. Для Листа – несмотря на то, что в жилах его текла венгерская кровь, – венгерская музыкальная речь – не родная; он вскоре забывает ее и выучивается ей заново впоследствии – после парижского пребывания, после увлекательного знакомства в России с цыганами. В сущности, в своих рапсодиях Лист разрабатывает не столько венгерские, сколько цыганские темы (а это далеко не одно и то же). Больше того: когда Лист обращается к воплощению волнующих его философско-поэтических идей-образов («Фауст-симфония», «Данте-симфония» и «Данте-соната» и т. п.) или к иным крупным композициям (например, соната h-moll), он совершенно перестает мыслить венгерскими интонациями; в этих основополагающих для Листа сочинениях «унгаризмов» не найти.