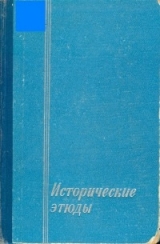
Текст книги "Исторические этюды"
Автор книги: И. Соллертинский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц)
Но – странное дело: в своем музыкальном письме Берлиоз обнаруживает влияние Бетховена в самых редких случаях. Пожалуй, одни лишь музыкальные пейзажи «Пасторальной симфонии» (кстати, наиболее описательной, «программной» у Бетховена) явственно проступают в соответствующих по изобразительной тематике частях симфоний Берлиоза. Это относится прежде всего к «Сцене у ручья» и «Грозе», сильно отпечатлевшихся на «Фантастической (да и не на одной только «Фантастической») симфонии». В остальном Берлиоз внешне независим от Бетховена – и в мелодике, специфически французской, необычайно рельефной и динамичной, и в гармониях, то варварски жестких, то по изысканности не уступающих импрессионистам, и в ритмах, нервных и с частой переменой размеров, и подавно – в инструментовке.
Дело не во внешнем сходстве. В том-то и заслуга Берлиоза, что, не копируя «буквы» Бетховена, он остался верным его «духу» и первый понял идейную сущность и великое революционное значение творчества Бетховена.
О Бетховене он пишет не иначе, как со слезами исступленного восторга: «Это музыка высшей сферы: Бетховен – Это титан, это архангел, это само всемогущество. В сравнении с его творческим делом весь остальной музыкальный мир кажется лилипутом...» «Это – музыка звездных сфер»,– пишет он Эмберу Феррану. Музыка Бетховена должна вызывать не тихое наслаждение, но глубочайшее потрясение всего организма, подлинные пароксизмы страдания и счастья. В одном из фельетонов Берлиоз с упоением рассказывает, как при исполнении Пятой симфонии в консерватории знаменитая певица Малибран упала в обморок от волнения, и ее на руках вынесли из концертного зала.
Д’Ортиг, музыкальный критик, дружески относившийся к Берлиозу, передает следующий диалог между великим французским композитором и каким-то меломаном, имевший место после исполнения в концерте одной из бетховенских симфоний:
«– Согласитесь, однако, г-н Берлиоз, что цель музыки – доставлять приятное ощущение нашему слуху.
– Да нет же. Я хочу, чтобы от музыки меня лихорадило, чтобы нервы мои напрягались до крайности. .. Неужели же вы воображаете, милостивый государь, что я слушаю музыку ради какого-то удовольствия?»
Этот разговор как нельзя лучше раскрывает отношение Берлиоза к музыке. Не чувственная красота звука, а выразительность, ради которой можно нарушить любые правила из учебника голосоведения, любые академические рецепты, не считаясь с негодующими воплями «париков» из консерватории,– таков первый принцип его музыкального мировоззрения. «Берлиоз вовсе не хочет казаться учтивым и Элегантным»,– пишет Шуман в своей известной статье о «Фантастической симфонии», первым подметивший эту особенность композитора: если он ненавидит, то яростно вцепляется в волосы, если любит – готов задушить в объятиях. Стремление к экспрессии любой ценой приводит порою к кажущейся растрепанности симфонического повествования, к разрыву формы (часто мнимому), к неожиданным скачкам без соблюдения обычной модуляционной последовательности, к нелогичному* на первый взгляд, использованию материала. Впрочем,: по этому поводу тот же Шуман не без справедливости заметил, что можно быть плохим логиком (в формально-школьном смысле) и хорошим философом.
Эго убеждение в глубокой и принципиальной содержательности симфонического произведения, в философском достоинстве симфонии, Берлиоз унаследовал от Бетховена. Он включается в великую традицию европейского героического симфонизма, выросшего на почве буржуазной революции XVIII века. И наоборот: развлекательную музыку – «легкий жанр» – он ненавидит всей своей кровью.
Более того, он ополчается на всю феодально-придворную музыку XVIII века. Это приводит его к явной недооценке Моцарта и особенно Гайдна: ему кажется, что и они отравлены тепличной атмосферой дворянского салона. Вот, к примеру, из фельетона о Гайдне:
«Это музыка столовой, писавшаяся для того, чтобы облегчить процесс пищеварения князю Эстергази, патрону Гайдна. Первая часть (симфонии) – под жаркое, анданте – под дичь, менуэт – под сладкое, финал – к десерту. Последний аккорд отгремел, и князь посылает своему капельмейстеру стакан токайского, а исполнителям несколько бутылок рейнвейна, а затем встает из-за стола, делая всем знак покровительственной удовлетворенности. Мне кажется, что дело происходило именно так.. .»
Совершенно в духе бетховенского симфонизма и обращение Берлиоза к «властителям дум» – Шекспиру, Байрону, Гёте – для философского «перевооружения» симфонии. Не так важно, что в девяти бетховенских симфониях нет конкретных литературно-философских образов: мы
знаем, что идея музыкальной разработки «Фауста» Гёте относилась к числу предсмертных мыслей Бетховена. Характерно, что Рихард Вагнер в своем известном истолковании бетховенской Девятой симфонии счел возможным под-1екстовать под нее того же «Фауста». А дальше именно к «Фаусту» обращается ряд великих композиторов XIX века: Берлиоз («Осуждение Фауста»), Лист («Фауст-сим-фония»), Вагнер (увертюра «Фауст»), Шуман (музыка к «Фаусту»). Философская программность, высокий идейный пафос – все это относится к плодотворному развитию бетховенских принципов.
Наконец, в плане бетховенского же симфонизма лежит обращение к более широкой массовой аудитории и соответственное увеличение физической звучности оркестра, приведшее Берлиоза к употреблению гигантских инструментальных и хоровых масс и полному преобразованию оркестрового аппарата. Но здесь Берлиоз вступает в другую
Ш традицию, идейно родственную бетховенской, но еще более непосредственно связанную с французской буржуазной революцией. Берлиоз не только продолжатель Бетховена, но и наследник массовых празднеств революционного Парижа i 790-х годов, музыкально оформлявшихся Мегюлем, Гретри, Лесюрром и особенно Госсеком, Живым посредником между ними и нашим композитором является Лесюрр, консерваторский учитель Берлиоза.
7
Связанные темой, мы лишены возможности подробно рассмотреть музыкальное оформление массовых празднеств французской революции и потому отсылаем читателей к популярной книге французского музыковеда Тьерсо («Песни и празднества французской революции»). Музыку французской революции – при всем теоретическом внимании к ней – у нас все же знают мало: преимущественно по талантливой и ученой композиции Б. В. Асафьева – балету «Пламя Парижа». По-видимому, музыку французской революции слишком рано сдали в музей, хотя бы и в музей революции. Ибо немыслимо предположить, чтобы среди множества торжественных и траурных маршей, гимнов, од, кантат Керубини, Госсека, Лесюрра, Мегюля, Кателя, Руже де Лиля и других не сохранилось ничего, достойного звучать в наши дни. Э^а музыка заслуживает деятельного, практического внимания прежде всего потому, что это – музыка не салона и даже не концертного зала, но музыка площадей, улиц, политических демонстраций, проводов и встреч революционных войск, похорон героев революции – Лепелетье де Сен-Фаржо, Марата и др.
От музыкальной практики революции Берлиоз берет прежде всего ставку на массовость исполнения. В своих больших композициях – «Траурно-триумфальной симфонии» (сочинена в 1840 г. в ознаменование десятой годовщины геройской смерти жертв Июльской революции 1830 г.) и Реквиеме (сочинен в 1837 г. первоначально для той же цели) – Берлиоз достигает предельного напряжения физической звучности, увеличив оркестровый аппарат до гигантских размеров. Для этого Берлиоз демократизирует симфонический оркестр с его «кастовой» ограниченностью рода и числа инструментов, вливая в него, как это неоднократно практиковалось на революционных празднествах, несколько военных оркестров. Приводим состав «Траурно-триумфальной симфонии» при первом ее исполнении: 6 больших флейт, 6 флейт-пикколо, 8 гобоев, 10 кларнетов in Es и 18 in В, 24 валторны, 10 труб in F и 9 in В, 10 корнет-а-пистонов, 19 тромбонов, 16 фаготов, 14 офиклеидов, 12 больших и 12 малых барабанов, 10 пар литавр, 10 пар тарелок, 2 тамтама; к тому же свыше 150 струнных и хор. В Реквиеме, кроме солиста, хора и громадного основного оркестра (при 12 валторнах) – еще 4 дополнительных медных оркестра, расположенных на хорах с четырех сторон, каждый в составе нескольких тромбонов, труб и туб. Берлиозу тесно в закрытом помещении: он рассчитывает на акустику улиц, площадей и стадионов. В день первого исполнения «Траурно-триумфальной симфонии», например, оркестр Национальной гвардии был усилен музыкантами, мобилизованными со всего Парижа. Этот большой отряд музыки в полной парадной форме дефилировал вдоль бульваров под управлением самого Берлиоза, который шел впереди колонны и дирияшровал саблей; во время всего шествия исполнялся похоронный марш – I часть симфонии. Когда кортеж подошел к площади и остановился, тромбон исполнил надгробное слово (II часть симфонии), а затем, при возрастающем грохоте барабанов и пронзительных трубных фанфарах, был совершен переход к заключительной части симфонии – торжественный апофеоз в честь павших героев.
Все это – прямое использование опыта революции: для празднества 1 вандемьера IX года Лесюэр, например, сочиняет симфоническую оду на слова Эменара, где вводит четыре оркестра, расположенные в разных частях здания храма Марса (позже – капеллы Инвалидов). Вот как характеризовала это музыкальное событие тогдашняя парижская пресса: «Гражданин Лесюэр показал себя достойным своей репутации. Его обширная композиция была насыщена эффектами и подлинно драматическими деталями. Каждый из четырех введенных им оркестров был наделен особым характером. Один как будто рисовал веселый шум народа при наступлении торжественного события, празднованию которого был посвящен день; другой развертывал чувство радости в аналогичной, но более оживленной песне; третий– с помощью музыкального мотива, отличного от двух прочих, изображал ту нервную экзальтированность, которая ощущается во всяком скоплении людей, одержимых одними
и теми же чувствами» и т. д. (из отчета «Французского Меркурия»). Несколькими месяцами раньше, 15 мессидора VIII года Мегюль пишет сочинение в ознаменование годовщины взятия Бастилии, причем употребляет три оркестра. Берлиоз, таким образом, идет но славному пути своих революционных предшественников. Добавим, что похоронный марш из «Траурно-триумфальной симфонии» по своей концепции, бесспорно, навеян знаменитым траурным маршем Госсека.
Помимо количества инструментов и акустического великолепия, симфонический язык Берлиоза зависит от музыки революции и в других отношениях. Широкий размах, гигантские фресковые композиции, риторическая пышность, декоративная величественность симфонической оды, ораторские жесты и интонации – все это мы найдем у Берлиоза, и всем этим он обязан революции. В качестве блестящего примера приведем уже упоминавшуюся II часть «Траурнотриумфальной симфонии» – «надгробную речь» над могилами жертв революции, написанную для тромбона соло
Andantino


в сопровождении оркестра. Смелая мысль – поручить бессловесному инструменту ораторскую партию – увенчалась успехом: интонации тромбона по-человечески убедительны и патетичны. Вообще, подавляющему большинству мелодических линий и интонаций Берлиоза чужд характер камерности; они требуют простора и широкого дыхания и жеста. Это метко схватил Шуман, утверждавший, что для того, чтобы правильно понять мелодии Берлиоза, нужно не только слышать их ушами, но и самому петь полной грудью.
Заговорив о верности и выразительности интонаций, нельзя не упомянуть и еще об одном предшественнике Берлиоза – правда предреволюционной эпохи, однако в своем музыкальном творчестве несомненно отразившем передовые просветительские идеи XVIII века. Речь идет о великом авторе «Орфея», «Альцесты» и «Ифигении» – Кристофе-Виллибальде Глюке, к которому Берлиоз в течение всей жизни питал глубоко интимную нежность, несмотря на кажущийся контраст в творчестве между классической строгостью первого и необузданными романтическими выходками второго. В 70-х годах XVIII века Глюк – всецело в духе энциклопедистов и буржуазных просветителей Дидро, Мармонтеля, Гримма и др.– совершает реформу оперы, отметая сторонние украшения и вокализм, обуздывая самодовлеющего певца, идя по пути драматизации содержания и выразительного осмысления поющегося слова. Оперы Глюка становятся музыкальными трагедиями на античные сюжеты – всецело в духе классицизма. Все строго и просто, как на картинах Давида; ничего лишнего, не связанного с драматической идеей. Особая забота – об интонации, о патетической выразительности слова: передовые деятели второй половины XVIII века хотят осмыслить оперу, перевести ее из развлекательного в мировоззренческий план, сделать ее носительницей прогрессивных философских и моральных тенденций. Вот почему творчество Глюка становится темой длительных и страстных публицистических споров (война «глюкистов» с «пиччинистами» – приверженцами итальянского композитора Пиччини). Берлиоз идет за Глюком в вокально-интонационной части, особенно близко соприкасаясь с ним в «Троянцах»: те же страстные и психологически оправданные речитативы, та же мудрая Экономия средств в противоположность крезовской расточительности в молодые годы; тот же строгий, исполненный трагического величия, античный сюжетный материал.
8
Итак, мы установили: в исходных точках своего творчества и музыкального мировоззрения Берлиоз примыкает к революционным традициям XVIII века. Отсюда – идейная близость к Бетховену, Глюку, французским композиторам массовых празднеств. Однако специфическое отличие от них Берлиоза – в том, что он живет не в эпоху героических битв буржуазной демократии – о них он знает по великим
преданиям, по Наполеоновой легенде,– но в эпоху установившейся буржуазной монархии. Лично он принимает участие только в Июльской революции 1830 года – этой последней стычке с остатками феодальной власти Бурбонов во Франции. Революция упрочила буржуазный строй. Развитие капитализма давит мелкую буржуазию – своего бывшего попутчика в ниспровержении феодализма,– подрывает материальные и моральные основы ее существования. Классовое сознание интеллигенции остается раздвоенным: либо мечтать о возврате к старым, докапиталистическим отношениям, задним числом реабилитировать феодализм, воспевать средние века, католические святыни и «патриархальные рыцарские нравы»: то будет путь политической и литературной романтики. Либо капитулировать перед крупной буржуазией и объявить ее царство осуществлением принципов Декларации прав человека и наступлением социального рая. Те, у кого оставались глаза и совесть, признать жестокую капиталистическую эксплуатацию идеальным типом существования человечества не могли. Пока не появился на арене истории новый класс – пролетариат, лучшие представители интеллигенции стоят в вызывающей оппозиции к буржуазному строю. Они ненавидят «царство бакалейщиков» и «филистеров». После 1848 года, когда парижский пролетариат впервые выпрямился во весь рост, часть оппозиционеров бросается в объятия военной диктатуры Наполеона III, другая занимает промежуточное положение, сочувствуя пролетариату, однако будучи не в силах преодолеть собственное классовое мировоззрение.
Историческая судьба ставит Берлиоза в фалангу интел лигентов именно этого периода. Он начинает – как и Лист и Вагнер – с романтического преклонения перед революцией. Он полон энтузиазма, но аффектированного; он нс сливается с победившим и уже распавшимся на враждебные части коллективом – это по существу невозможно. Бетховен остался до конца жизни верен революционным принципам 1789—1793 годов, исповедуя коллективистское мировоззрение – утопическую идею всеобщего братства на основе идеалистической нравственности Руссо и Канта. Но Бетховен не дожил до окончательного торжества и распада буржуазной революции. Иное поколение – Берлиоз. Трагические противоречия действительности ему ясны до боли в глазах; отсюда – болезненный надрыв, «мировая скорбь», пессимизм, индивидуализм. Но кто знает – не потеряй Берлиоз политическую ориентацию, не утрать темперамента бунтаря,– быть может, он, прирожденный «барабанщик революции», мог хотя бы смутно почувствовать историческую роль пролетариата как единственный выход из капиталистического тупика и – если бы судьбе было угодно продлить его годы – подобно другому великому романтику, Виктору Гюго,– приветствовать Парижскую коммуну. Но политическое чутье Берлиоза притупилось, революции 1848 года он просто физически испугался, и за рто трагически расплатился глубоким, безысходным пессимизмом, полным моральным одиночеством, даже неверием в дело собственной жизни. Эпиграфом к «Мемуарам» – своему посмертному Завещанию – он выбирает печальные слова из шекспировского «Макбета»:
Что жизнь – тень мимолетная, фигляр,
Неистово шумящий на подмостках И через час забытый всеми; сказка В устах глупца, богатая словами И звоном фраз, но нищая значеньем!
Теперь нам становится понятной и кривая творческого пути Берлиоза, и его метания от одной крайности в другую, и широчайшая амплитуда его политических колебаний. Он сочиняет и глубоко революционные произведения («Траурно-триумфальная симфония», Реквием), и бунтарско-индивидуалистические («Гарольд в Италии», «Осуждение Фауста»), и отвлеченно-классические, далекие от всяких политических бурь («Детство Христа», «Троянцы»), После сочинений, овеянных дыханием революции, он пишет, например, «Императорскую» кантату для открытия промышленной выставки, посвящая ее «жалкому племяннику великого дяди» – узурпатору Наполеону III, и т. д.
Однако, при всех зигзагах и срывах, кривая творчества Берлиоза имеет свой хронологический профиль. Первый период охватывает по преимуществу произведения, написанные под влиянием революционных настроений. Молодой Берлиоз вдохновляется двумя идеями – музыкой и политической свободой. «Слава – прекрасная вещь, военные подвиги – также; но прекраснее всех то, что именуется свободой!» Уже среди юношеских сочинений мы встречаем «Революцию в Греции», написанную на слова друга Берлиоза– Эмбера Феррана (1825 или 1826 г., исполнена в 1828 г.). Она продиктована греческим восстанием против турок, увлекшим многие выдающиеся европейские умы, в том числе, как известно, и Байрона. В удушливой атмосфере Священного союза, меттерниховских интриг и повсеместной свирепой реакции греческое восстание стало политической отдушиной. Делакруа отозвался знаменитой картиной «Резня в Хиосе», молодой Виктор Гюго посвящал Греции пламенные стихотворения, Берлиоз сочинил «Герои-ческую сцену». Дальше – другой угнетенный народ, постоянный источник революционного брожения, вдохновляет Берлиоза на цикл ирландских мелодий (на слова Томаса Мура). В 1830 году во время Июльских дней на улицах Парижа, еще не свободных от баррикад, композитор слышит, как распевается одна из его ирландских песен,– «воинственная», зовущая к освободительной борьбе. В 1830 году Берлиоз перерабатывает и инструментует «Марсельезу» Руже де Лиля для двойного хора и большого оркестра с знаменитой припиской: «И для всех, у кого есть голос, сердце и кровь в жилах». Пожалуй, к революционным же произведениям можно отнести и кантату для баса с хором под названием «Пятое мая» на слова Беранже (1834), посвященную памяти Наполеона I: Бонапарт – по наполеоновской легенде – являлся как бы воплощением мятежного и воинствующего демократического духа, низвергающего феодальные троны и учреждения старой Европы. Не забудем, что Берлиоз принадлежит к тому поколению молодежи, замечательную характеристику которого, давно ставшую классической, дал Альфред де Мюссе в «Исповеди сына века»:
«Во время Империи, когда мужья и братья сражались в Германии, тревожные матери произвели на свет поколение горячее, бледное, нервное... Зачатые между двух битв, воспитавшиеся в школах под барабанный бой, эти дети смотрели друг на друга мрачными взорами, пробуя свои хилые мускулы. Время от времени появлялись их окровавленные отцы, прижимали их к своей расшитой золотом груди, а затем опускали их на землю и вновь садились на коней. Один-единственный человек жил тогда в Европе; все остальные существа старались лишь наполнить легкие воздухом, которым он дышал...».
Берлиоз с колыбели воспитывался в атмосфере культа Наполеона. Позже, в период Реставрации, Наполеон стал символом героического прошлого Франции. Байрон, Гюго, Гейне, Пушкин, Беранже, Стендаль, еще раньше Гегель и Гёте в стихах и прозе высказывали свое преклонение перед победителем Арколе, Маренго и Аустерлица. Росла наполеоновская легенда. В этой атмосфере становятся понятными бонапартистские симпатии молодого Берлиоза. Их подогревал и обласканный в свое время Наполеоном Лесюэр, консерваторский учитель Берлиоза. К тому же наполеоновское честолюбие грызло юные души романтического поколения 1830 года. Вагнер – не единственный, кто называл Берлиоза «Наполеоном музыки».
Но было и другое, более близкое, не мистифицированное отношение к революции. В письме из Рима Берлиоз пишет о лионском восстании рабочих: «я бы также хотел быть в Лионе и принять в нем участие». Память жертв революции вызывает к жизни, как мы уже говорили, два грандиозных произведения: Реквием (1837) и «Траурно-триумфальную симфонию» (1840). Но и в других произведениях этого периода – симфониях, увертюрах – проносится дуновение революционных шквалов и бурь, слышны возгласы битв, торжествующие победные фанфары; нет камерности, всюду царит широкий простор площадей, с шумом шествующих масс. С особой любовью Берлиоз обращается к музыкальной передаче массовых празднеств и гуляний. Таковы – необузданно веселая увертюра «Римский карнавал» (1843), народные сцены из оперы «Бенвенуто Челлини» (1835– 1837), стремительный натиск увертюры «Корсар» (1831). Отзвуки освободительных бурь слышатся еще в «Осуждении Фауста»: Берлиоз сам рассказывает в «Мемуарах», как после исполнения в Будапеште знаменитого «Ракоци-марша», после многократного повторения и урагана оваций, к нему ворвался рыдающий венгр и, бросившись ему на грудь, кричал на ломаном языке: «А... француз... революционер. . . умеешь делать музыку революции!». Это происходило в 1846 году, как раз накануне венгерского восстания.
«Осуждение Фауста» (1846) —переломный момент в развитии творчества Берлиоза. Пессимизм, богемный индивидуализм, скептицизм, разочарование, усталость начинают преобладать. Провал «Бенвенуто Челлини» в свое время нанес композитору страшный и неизлечимый удар, неуспех «Осуждения Фауста» добил окончательно. В эпоху Второй империи серьезная музыка вообще не в фаворе. Наполеон III, его двор, а за ними вся парижская буржуазия толпами валит на «Орфея в аду». Это – царство фривольных песенок, каскадных номеров, пикантных куплетов и самого разнузданного канкана. Берлиоз замыкается в себе. Три крупных произведения последних лет – оратория «Бег-етво в Египет» (1854), комическая опера «Беатриче и Бе* неднкт» (по Шекспиру, 1860—1862) и лирическая порма-опера в двух частях «Троянцы» (1856—1858) уже далеки от «неистовых» симфоний молодости. Это – строгий классицизм, где много прекрасных страниц и где вместо щедрой и необузданной фантазии царят мера и максимальная экономия средств. Эп°ха «бури и натиска» кончилась: на смену ошеломляющему экстенсивному новаторству пришло самоуглубление.
9
В историю симфонической литературы Берлиоз вошел как создатель жанра так называемой «программной», или драматической симфонии. В отличие от симфонизма Бетховена, где философское мировоззрение композитора находит свое непосредственное выражение в инструментальной музыке, Берлиоз ставит между идейным замыслом композитора и его музыкальным воплощением посредствующее звено – литературный образ. Симфоническое произведение, таким образом, помимо логики своего музыкального развития, приобретает еще сюжетно-литературную программу. Оно стремится рисовать конкретные поступки и чувствования конкретных людей в определенных драматических ситуациях, описывать природу, даже отдельные предметы. Опосредствование симфонии литературными образами, взятыми у Шекспира, или Гёте, или Байрона и составляет основной принцип программного симфонизма Берлиоза. Иными словами, музыка будет выражать не только отвлеченные мысли и чувствования, но и давать описание конкретных процессов и явлений.
Строго говоря, этот принцип не нов. Не обращаясь в глубь XVII—XVIII веков, оставляя в стороне оперную литературу, где описательные и изобразительные моменты встречаются очень часто, мы найдем его в «Пасторальной симфонии» Бетховена. Тут и журчание ручья, и щебетанье соловья, перепелки и кукушки, и сельский праздник под волынку, и шум дождевых капель, и раскаты грома, и пастушьи рожки. Правда, по ремарке Бетховена, здесь больше изображения вызываемых природой душевных эмоций, нежели ландшафтной живописи в предметном смысле слова. Но все же это наиболее программная симфония Бетховена, с нарушением классической четырехчастной формы, с бога-1?ыми колористическими особенностями (засурдиненные виолончели divisi в «Сцене у ручья», рокочущие басы и флейта-пикколо в «Грозе», особенно – инструментовка скерцо!). Конечно, «Пасторальная симфония» среди прочих бетховенских стоит несколько особняком. Но элементы замаскированной программности нетрудно найти и в «Героической» (где самое название является своего рода ключом к сюжету), и в Пятой (основная драматическая идея которой была сформулирована самим Бетховеном), и в Девятой, и в увертюрах «Эгмонт», «Кориолан» и третьей «Леоноре». Характерно, что романтики – Берлиоз, Лист, Шуман, Вагнер,– комментируя бетховенские симфонии, неоднократно подставляли под них те или другие сюжетные мотивы. Но, разумеется, существует все же значительная дистанция между программными намеками бетховенского симфонизма и инструментальным творчеством Берлиоза, где программный принцип последовательно проведен сквозь все симфонии.61
Для того чтобы программность в музыке стала возможной, необходима следующая обязательная предпосылка: установление постоянной ассоциативной связи между определенным звуковым комплексом и соответствующим психическим или предметно-живописным содержанием. Когда Бетховен в инструментальном введении к финалу Девятой симфонии цитирует по нескольку тактов из первого аллегро, скерцо и адажио, нарушая обычную логику музыкального построения финала, эт0 значит, что он вызывает в памяти слушателя с помощью ассоциативного метода те психологические состояния и драматические ситуации, которые составляли идейное содержание первых трех частей симфонии. Чаще всего ассоциативная связь устанавливается между определенным программным (психическим или живописнопредметным) содержанием и мелодией: именно на ртом пути возникает лейтмотивная система. Недаром лейтмотив сначала играет в романтической музыке роль воспоминания или напоминания: в «Роберте-дьяволе» Мейербера, в «Фантастической симфонии» Берлиоза. В этой последней Берлиоз называет лейтмотив (термин этот изобретен, если не ошибаемся, вагнерианцем Вольцогеном) «навязчивой идеей», которая проходит через всю симфонию и означает одновременно и образ роковой возлюбленной, и вызываемую этим образом непреодолимую и трагическую страсть. Мелодические лейтмотивы есть и в «Гарольде», и в «Ромео и Джульетте».
Но ассоциация может возникнуть и с определенным звуковым тембром. Так, валторна (особенно после «Фрей-шюца» и «Оберона» Вебера) через бытовой атрибут – охотничий рог – обычно ассоциируется у романтиков с лесной прохладой, таинственным сумраком чащи, фантастическими существами, населяющими лес, отдаленными призывами, неясными голосами и т. д. (вспомним, как поразительно создается сказочно-лесная атмосфера «Оберона» с самого первого такта – нескольких нот валторны...). Ниже, говоря об оркестре Берлиоза, мы остановимся на звуковой символике отдельных его инструментов: тембровая характеристика играет у Берлиоза огромную роль. Самым же существенным является восприятие тембра как краски в живописи, а отсюда и возможность установления параллелизма между акустическими (слуховыми) и оптическими (зрительными) впечатлениями. Так методом инструментовки становится создание звукокрасочных пятен (путем наложения тембров и смешения их).
Здесь следует остановиться на свойствах оркестрового мышления Берлиоза. Это – наиболее «бесспорное» в творчестве Берлиоза: даже враги отдают ему должное, говоря о феерическом блеске его оркестра и неслыханных эффектах, достигаемых с помощью простейших средств. Вагнер, относившийся к Берлиозу в общем недружелюбно (хотя и почерпнувший из его музыки для себя весьма многое), писал об оркестровке Берлиоза (в трактате «Опера и драма», где по адресу Берлиоза было отпущено немало язвительных замечаний): «Берлиоз довел развитие этого механизма (оркестра) до прямо изумительной высоты и глубины, и если мы изобретателей современной индустриальной механики признаем благодетелями государства, то Берлиоза следует прославлять как истинного спасителя нашего музыкального мира...».
Впрочем, дело не в двусмысленных комплиментах Вагнера. Берлиоз – действительно величайший гений инструментального мышления. Его оркестр красочен, ярок, гибок, полон театрального блеска и темперамента; он может быть то «иерихонски»-громогласным, то камерно-лирическим.
Пластика его – драгоценное наследие романской культуры – совершенно поразительна. Судить о произведениях Берлиоза по чахлым клавираусцугам – и даже на основании чтения партитуры глазами – вещь абсолютно невозможная. «Тот, кто читает его партитуры, никогда не слышал их в концертном исполнении, не может составить о них ни малейшего представления,– пишет о Берлиозе Камиль Сен-Санс.1– Кажется, будто инструменты расположены вопреки Здравому смыслу; создается впечатление, если говорить на профессиональном жаргоне, что это не должно звучать; а между тем это звучит чудеснейшим образом». И конечно же, в оркестровке у Берлиоза подлинное творчество, а не выкладки опытного калькулятора.
Новаторство Берлиоза в области инструментовки идет прежде всего по линии введения новых инструментов: он перебрасывает в симфонический оркестр из духового военного кларнет in Es и офиклеид, он закрепляет в симфоническом составе арфы, английский рожок, ряд ударных инструментов, ныне обычный медный состав с тромбонами. Происходит перераспределение и внутри оркестровых групп. В связи с характерно-изобразительными задачами Берлиоза начинают играть выдающуюся роль низкие регистры: альты (один из любимейших тембров Берлиоза), виолончели и контрабасы – в группе струнных, фаготы (обычно употребляемые в четверном составе) – в группе деревянных.








