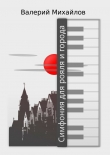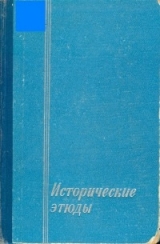
Текст книги "Исторические этюды"
Автор книги: И. Соллертинский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 28 страниц)
Совершенно иное – У Брамса. В самых монументальных и в самых интимных его сочинениях – во всех четырех симфониях, в квартетах, последних квинтетах, где угодно,– можно всегда явственно расслышать венгерские интонации. Брамс словно «думает по-венгерски» (речь идет, разумеется, о музыкальном мышлении). Конечно, венгерский фольклор– не единственная основа мелоса Брамса. На втором месте стоит венская бытовая музыкальная культура, освященная именами Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Лайнера, Иоганна Штрауса (с «королем вальсов» Брамса и биографически связывали узы личной и творческой дружбы: лишнее доказательство того, как далек был Брамс от академической замкнутости). Разумеется, немалую роль играют и северно-немецкая песня, и славянская, в частности чешская: как совершенно «по-брамсовски» звучит у кларнетов прекрасная в своей задушевности тема B-dur в дуэте Янека и Маженки из I акта «Проданной невесты»
Сметаны, хотя о каком-либо прямом заимствовании (разумеется, скорее Брамсом у Сметаны) вряд ли может идти речь. Впрочем, свой долг чешской музыке Брамс вернул с лихвой, сыграв решающую роль в творческом формировании (не говоря уже о моральной и житейской поддержке) такого блестящего чешского композитора, как Антонин Дворжак.
Обращаясь теперь к симфонизму Брамса, приходится вспомнить, что среди ошибочных суждений, в разное время высказывавшихся по поводу музыки этого композитора, между прочим, фигурировало и такое: Брамс – не настоящий симфонист; его симфонии – не что иное, как монумен-тализированная камерная музыка.
Вряд ли нужно сейчас полемизировать с подобными утверждениями. Конечно же, Брамс – подлинный симфонист, то есть прежде всего – подлинный инструментальный мыслитель-драматург. При этом Брамс обнаруживает поразительный диапазон: если у другого великого венского симфониста – Брукнера все девять симфоний являются как бы вариантами некоего единого композиционного построения, то у Брамса каждая из четырех симфоний имеет свою особую драматургию. В Первой симфонии еще сильны отзвуки мощной бетховенской идеи «от мрака к свету», Вторая представляет собой идиллию, Третья – патетическую оду с драматическим финалом, завершающимся, однако, тонами почти экстатического умиротворения; в Четвертой же драматический путь идет ог элегии к трагедии почти античного типа. Разумеется, это воплощается и в различной архитектонике симфоний: во всех четырех – четыре совершенно разных решения структуры первого сонатного аллегро и четыре драматических совершенно различных финала.. .*
3
Вторая симфония Брамса (D-dur соч. 73) возникла летом 1877 года; первое исполнение ее состоялось в Венской филармонии 30 декабря 1877 года под управлением Ганса Рихтера. «Образцовое исполнение, самый горячий прием!»– 92
ЁЗвОлнованно сообщает издателю Брамса ЗимР<>ку присутствовавший на премьере известный немецкий музыковед, ученый биограф Гайдна – К. Ф. Поль. Действительно, после более чем дискуссионного успеха Первой, до-минорной симфонии Брамса (сочиненной годом раньше), Вторая симфония была сразу оценена по достоинству; автора, сидевшего на галерее среди музыкальной молодежи, неутомимо вызывали после каждой части.
Новая симфония Брамса быстро завоевала европейскую популярность; иные критики92 склонны отдать ей пальму первенства перед всеми прочими оркестровыми сочинениями Брамса.
Изучая творческий путь Брамса, интересно сравнить Вторую симфонию с ее предшественницей. Хронологическая дистанция между ними невелика, но какая разница в характере! В Первой симфонии преобладают трагические акценты, напряженные, жесткие звучания; изложение ведется в суровых, страстных, экзальтированных тонах. И по своей структуре, начиная от неповторимого по своеобразию вступления и вплоть до грандиозного, построенного на подлинно широком симфоническом дыхании, подступа к финалу бетховенского типа, Первая симфония – настоящее детище периода «бури и натиска» в творческой биографии Брамса.
Совсем иное – во Второй симфонии. Это – обаятельная в своей непосредственности и простоте романтическая идиллия, «голландский ландшафт при закате солнца» (Вейн-гартнер), вернее – гениальная пастораль, овеянная поэзией старой Вены. По всей симфонии разлит спокойный, мягкий свет; разве лишь в сосредоточенно строгом адажио (H-dur) да в таинственных аккордах тромбонов в I части (вслед за развернутым изложением основной темы) можно расслышать далекие отзвуки трагических перипетий Первой симфонии.
Как и все прочие оркестровые сочинения Брамса, Вторая симфония не имеет программно-литературного содержания. Поэтому при характеристике отдельных ее частей можно говорить не о сюжете или фабуле, а лишь об общем 93
музыкально поэтическом замысле. Ё этом разрезе Вторая симфония Брамса приближается к типу таких произведений, как, скажем, Четвертая (особо высоко ценимая романтиками – например, Шуманом) симфония Бетховена.
Оркестр Второй симфонии Брамса не выходит за пределы нормального состава (с парным деревом); он даже скромнее, чем в Первой симфонии (нет контрафагота; отсутствует колористический эффект скрипки соло); лишь в I часть и финал введены три тромбона и туба. Как всегда, с помощью экономных средств Брамс достигает мастерских результатов.
В конце прошлого века вагнерианцами была сфабрикована легенда о «тусклости» и «серости» брамсовского оркестра. Предпосылкой этой легенды было умышленное или невольное игнорирование следующего существенного обстоятельства. В сфере оркестрового письма Брамс – не колорист-живописец, а график; для него важна рельефность инструментального рисунка, а вовсе не внешний блеск и красочность эффектно наинструменто-ванного аккорда. Поэтому Брамсу вовсе не нужна великолепная оркестровая палитра Листа, или Вагнера, или Рихарда Штрауса. И совершенно справедливо утверждение такого блестящего знатока оркестра, как Н. А. Римский-Корсаков, что всякая иная оркестровка была бы для Брамса художественной нелепостью. Зато поистине поразительно мастерство, с которым Брамс в той же Второй симфонии распределяет светотень в сложном голосоведении, то индивидуализируя тембр того или иного инструмента (замечательное «обыгрывание» валторны в I части, особенно перед кодой, в лучших традициях оркестровой портики Вебера и немецкого романтизма), то давая тончайшие тембровые сочетания (как пример – хотя бы вторая тема fis-moll из той же I части, где верхний голос поручен виолончелям, а нижний – альтам) и тем самым достигая своеобразнейшей нюансировки.
Структурно Вторая симфония задумана в классическом гайднобетховенском плане и распадается на обычные четыре части.
I часть (Allegro non Iroppo, D-dur, 34) по характеру движения приближается к темпу медленного вальса. Она открывается – после вступительной фигуры на контрабасах – красивой мечтательной темой валторны, которую затем ведут дальше деревянные инструменты:

Казалось бы, на таком тематическом материале, лишенном драматического напряжения и не содержащем в себе начала внутреннего конфликта, трудно построить большое симфоническое «первое аллегро». Брамсу, однако, несмотря на отсутствие взрывчатой энергии в основной теме, блестяще удается создать грандиозный симфонический разбег. Он достигает этого прежде всего при помощи сложнейшей и поистине гениальной контрапунктической работы с богатейшими вариантами трех основных элементов этого тематического комплекса (фраза контрабасов, фраза валторны, фраза деревянных), тем самым осуществляется необходимое динамическое и идейно-эмоциональное напряжение I части. Брамс усиливает его рядом побочных мелодических образований, среди которых наиболее значительная элегическая, чуть-чуть напоминающая Шуберта, проникнутая романтической меланхолией вторая тема:

cantando
Позже она появляется в идиллически-светлом мажоре, на фоне триолей флейт. Самым прекрасным моментом I части (и, пожалуй, наиболее вдохновенным эпизодом всей симфонии в целом) является величаво-спокойная, замедляющая симфонический разбег кода; ее открывает взволнованнопоэтический монолог (почти речитатив) валторны, а затем, словно в просветленном виде, всплывает основная тема; последние такты полны глубокой умиротворенности и тишины.
II часть симфонии (Adagio non troppo, H-dur, 4) носит задумчивый, возвышенный и даже несколько суровый характер. Изложение основной мысли начинают виолончели и фаготы.
Adagio non iroppo
Новый мотив вводит меланхоличное фугато у валторны, гобоя и флейты:
ip
Adag'io non troppo
—rm

Драматическая страстность адажио усиливается с появлением третьей темы.
В целом адажио принадлежит к числу наиболее своеобразных страниц возвышенной философской лирики Брамса; по глубокой содержательности оно не уступает знаменитым адажио симфоний Брукнера; только у Брамса, как всегда, выразительные средства более сжаты и лаконичны.
Ярко индивидуальна и следующая III часть (Allegretto grazioso, quasi; andantino, G-dur, 4). Это – ритмически прихотливый, медленный менуэт или лендлер, начинающийся наивной и изящной, слегка элегически окрашенной мелодией гобоя в сопровождении кларнетов и фаготов на фоне пиццикато виолончелей:
Allegretto grazioso (^qiiast andantino)
$
/ rtlr Ircffir f
По стилю, воспроизводящему очарование старой Вены шубертовских времен, тема напоминает менуэт из ре-мажор-ной серенады того же Брамса (вообще тонально и мелодически приближающейся к разбираемой симфонии). Плавное течение аллегретто дважды прерывается причудливым вторжением стремительного Presto не без венгерских интонаций, причем счет соответственно меняется (на 4; движение в духе галопа – на 8 ). Колорит преображается: вместо томных вздохов гобоя – фантастика порхающих Эльфов в духе «Сна в летнюю ночь» Мендельсона. В обоих случаях мастерски подготовлено возвращение основной ме-нуэтной темы. В целом этому аллегретто присуще тончайшее сочетание юмора, едва уловимой грусти и шумного задора.
Последняя часть (Allegro con spirito, D-dur, ) полна энергии, жизнерадостности, напоминающей темпераментное веселье гайдновских финалов. Она несколько традиционна по построению. Первую тему излагают струнные инструменты в приглушенном piano, которое прерывается взрывом буйного fortissimo. Великолепна вторая – пластически рельефная, мужественная, словно вырубленная из старого патриархального дуба, чисто брамсовская тема:

cresc.
Стремительное движение финала, лишь в разработке однажды уступающее место пасторально-созерцательному Эпизоду, подводит к веселому торжеству. Это – «фламандский жанр» Брамса, картина народного гулянья, масленичного карнавала или кермессы, напоминающая полотна Рубенса, Остаде или Брейгеля. Аккордами общей радости и ликования заканчивается эта симфония, пожалуй – самое жизнерадостное из великих творений Брамса.
4
Третья симфония F-dur (соч. 90) была закончена композитором в 1883 году и впервые исполнена оркестром Венской филармонии 2 декабря того же года под управлением Ганса Рихтера. Премьера прошла с большим успехом, несмотря на отдельные попытки сторонников «музыки будущего» освистать новую симфонию.
Ганс Рихтер назвал эту симфонию «героической»; определение не слишком точное, в особенности же по сопоставлению с «Героической» Бетховена: у Брамса нет той картины титанической борьбы, которая развернута в бетховен-ской партитуре. Э т0 не препятствует Третьей симфонии Брамса принадлежать к числу самых содержательных и глубоких произведений европейской инструментальной музыки.
В симфонии четыре части:
I часть (Allegro con brio, F-dur, 4), открывается кратким и мощным (деревянные духовые, валторны, трубы) девизом или эпиграфом, состоящим из трех аккордов:
F-AS-F
Allegro con brio
/ / /
который играет большую цементирующую роль на протяжении всей симфонии. На третьем такте триумфально вступает первая патетически вдохновенная тема у струнных (причем аккорды эпиграфа сначала образуют ее бас), мелодически и особенно ритмически напоминающая первую тему Третьей симфонии Шумана; в ее изложении стремительно чередуются мажор и минор:

Вся I часть симфонии построена с предельным лаконизмом: в этом отношении с ней может быть сопоставлена лишь I часть Пятой симфонии Бетховена, где интенсивное трагическое содержание – поединок человека с судьбой – нашло гениальное воплощение при помощи самых скупых музыкальных средств.
После краткого по числу тактов, но проведенного со стремительным размахом нагнетания композитор почти мгновенно переносит нас в совершенно иной мир звучаний: на прихотливом синкопированном ритме (grazioso,4 ) в ля-мажорной тональности у кларнетов и фаготов проводится изящная, венско-танцевального происхождения, вторая тема:
Allegro con brio

Ее мечтательная задумчивость и словно колеблющаяся поступь мастерски противопоставлены мужественному характеру бурно низвергающейся первой темы.
Столь же насыщенно и сжато, с той же железной сим-фонико-драматической логикой написана и разработка I части. Она начинается возбужденно-грозным вторжением на альтах и виолончелях второй темы. Последняя совершенно преобразилась, утратила свой лирико-идиллический облик, звучит во взволнованном миноре. Движение темы становится все более напряженным; создается впечатление, будто с каждой секундой неотвратимо приближается трагический взрыв. Но атмосфера внезапно разрежается: на синкопированном ритме струнных появляется певучая умиротворяющая мелодия у валторны («словно восход луны после ночной бури»,– пишет один из комментаторов Брамса – Кречмар), построенная на развитии начального лейтмотива-эпиграфа (который явно или замаскированно возникает во все решающие моменты драматического становления симфонии). Изложение принимает задумчиво-сосредоточенный и несколько таинственный характер (un росо sostenuto).
Поворот к основной тональности разбивает оцепенелое состояние и вновь – при ярком солнечном освещении – экстатически триумфально входит первая тема: начинается реприза, в которой партия побочной темы проходит в Ре мажоре. Развернутая кода еще раз победно утверждает главную тему, а затем – на постепенно убывающей до пианиссимо звучности – воцаряется состояние блаженного покоя; все растворяется в мягком, тихом свете заключительного Фа мажора.
II часть симфонии (Andante, C-dur, 4) проникнута тем же возвышенно спокойным чувством, что и последние страницы предшествующего аллегро. Она открывается напевной, благородно простой, напоминающей колыбельную, темой у кларнетов в сопровождении фаготов:
A n d a n i е

Эта тема развертывается дальше в свободно вариационном плане. Позже в ее изложение вплетается вторая, приглушенно жалобная мелодия. Она же – в несколько трансформированном виде – будет играть значительную роль в финале цикла. Ее завершает загадочная цепь звучащих пианиссимо смелых диссонансов и задержаний. Безмятежность анданте в середине части сменяется большим патетическим нарастанием и неожиданным срывом; опять, как и в I части, создается впечатление, что действие симфонии все время развертывается где-то совсем близко от сферы подлинной трагедии, но пока что не вступает на ее территорию; поэтому трагедийные зарницы сверкают лишь издалека. II часть заканчивается просветленным эпилогом – задушевным пением скрипок.
В III части (Росо allegretto, c-moll, £ ) драматургическое развитие симфонии переходит из мажорного русла в минорное. По своему расположению внутри симфонического цикла эта часть соответствует классическому скерцо. Однако в своем творчестве Брамс сознательно избегает кипучих юмористических трехдольных скерцо бетховенского типа с их шекспировски клоунадными – ритмическими, или тембровыми, или динамическими – выходками; для подобных скерцо на его композиторской палитре мало красок (исключением является, хотя и развернутое в двухдольном движении, улично-карнавальное скерцо Четвертой симфонии).1 Вместо них Брамс обычно вводит элегическое интермеццо или романс в замедленном движении (см. II часть Фортепианного квартета g-tnoll, третьи части Первой и особенно Второй симфонии). Преобладающие в них настроения – тихая, сдержанная грусть, улыбка сквозь слезы, неповторимое, только у Брамса (и отчасти Шумана) встречающееся, смешение меланхолии и легкого юмора. Все эти «скерцозные заместители» прежде всего эмоционально всегда приглушены; страсть никогда не вырывается с необузданностью наружу, но остается молчаливой, во всяком случае до конца не высказанной; и в этом – особое обаяние подобных страниц Брамсовой музыки.
Таково и «Росо allegretto» Третьей симфонии. Оно построено на простой – и в то же время утонченной из-за смены и чередования ямбических и хореических ритмов – романсной темы:

1 В сущности, почти все романтические, послебетховенские симфонические скерцо далеки от непосредственной жизнерадостности и заразительного веселья; если они й восходят к Бетховену, то скорее к скерцо его Пятой и Девятой симфоний (или элегическим скерцо некоторых сонат); в них преобладают порывистость, нервная возбужденность (Шуман), или мефистофельский сарказм (Лист, Брукнер – особенно в скерцо из Девятой симфонии g-tnoll), или демонические конвульсии и мучительно иронические, пародийные гримасы (Малер). О причинах этого явления здесь нет места
Ее излагают в первых двенадцати тактах виолончели, в репризе – валторны. В середине части – исполненное светлой печали трио (As-dur, основная мелодия у деревянных духовых). Эмоционально-приглушенный колорит распространяется на всю часть; лишь в конце ее, в самых последних тактах, движение расширяется до большого, мучительно страстного вздоха forte и вновь бессильно никнет.
И вот наконец давно ожидавшаяся трагическая буря разражается в IV и последней части симфонии (Allegro, f-moll). Финал – высшая точка драматического напряжения симфонии. Это перенесение Брамсом идейносмыслового центра инструментального цикла с Г части (где обычно решались судьбы симфонии у Бетховена – вспомним первые аллегро Героической, Пятой, Девятой симфоний) на финал впоследствии будет продолжено Густавом Малером (что особенно отчетливо выражено в Первой, Второй, Шестой симфониях и в «Песне о земле»).
Финал Третьей симфонии Брамса открывается зловещим шепотом, изложенным на приглушенном piano (sotto voce) основной темы у струнных и фаготов:

Таинственно, на остром ритме звучит испытавшая симфоническую метаморфозу тема из анданте (тромбоны, струнные и деревянные).
На третьем возгласе тромбонов – яростный вскрик всего оркестра: трагическая стихия наконец развязана. Музыка

финала вызывает образы неистовой схватки с роком... Лишь с появлением второй темы финала (валторна и виолончели, C-dur) колорит несколько смягчается, но нена-обстоятельно говорить; это в основном те же причины, которые не дали возможности романтическим композиторам XIX века создать настоящую комическую оперу, не отяготив ее пессимистическими раздумьями, как в «Мейстерзингерах» Рихарда Вагнера.
долго: заключение экспозиции вновь возвращает действие к драматически насыщенному до минору. Далее трагические взлеты и вопли достигают своей кульминации. Но победа близка, и в коде симфонии (un росо sostenuto) изумительно воссоздается впечатление отгремевшей бури, рассеявшихся туч и взошедшей радуги; мягко струится свет (фигурации шестнадцатыми у скрипок), и на этом лучезарном фоне просветленно звучит мужественно-героическая тема I части, прекрасно завершая симфонию.
5
Четвертая симфония Брамса (соч. 98) принадлежит к величайшим его созданиям. Она была написана в 1884– 1885 годах, ее тональность – элегический ми минор (тональность «Траурной симфонии» Гайдна или «Франчески да Римини» и Пятой симфонии Чайковского). Симфония Эта может служить великолепным опровержением ходячего обывательского мнения о «сухости» и «бюргерском благополучии», якобы характеризующих музыку Брамса: в истории европейской симфонической литературы трудно найти столь взволнованные и вдохновенные страницы, как I часть или финал симфонии.
Перед нами замечательная инструментальная драма, развитие которой идет от скорбных раздумий и эмоциональных взлетов I части – через мечтательность и самоуглубление прекрасного анданте – к трагической катастрофе финала, где ярким контрастом является III часть – вызывающе бодрое и шумное скерцо, построенное на венском бытовом материале.
«Мне кажется подлинно сверхъестественным страшное душевное содержание этой вещи,– пишет о финале Четвертой симфонии Брамса прославленный дирижер Феликс Вейнгартнер,– я не могу избавиться от навязчиво возникающего образа неумолимой судьбы, которая безжалостно – влечет к гибели то ли человеческую личность, то ли целый народ... Конец этой части, насквозь раскаленный потрясающим трагизмом,– настоящая оргия разрушения, ужасный контраст радостному и шумному ликованию конца последней симфонии Бетховена». Любопытно, что во время сочинения этого финала любимым чтением Брамса были трагедии Софокла.
I часть симфонии (Allegro non troppo, e-moll,alia breve) глубоко своеобразна. Она открывается – без всякого вступления – изложением темы главной партии, спокойной и печальной.


Ее играют первые и вторые скрипки в октаву; альты и виолончели сопровождают восходящими арпеджио. Тема рта немедленно повторяется в вариационном изложении с более оживленной ритмикой; разработка ее начинает принимать все более страстный характер; ее прерывает звучащая тревожным сигналом новая тема у деревянных духовых,

последняя фраза которой подхватывается всем оркестром. Вслед за этим немедленно вступает третья, патетическая тема – у виолончелей и валторны,– принадлежащая к числу самых прекрасных мелодий Брамса:

За нею следует яркий мажорный эпизод, приводящий к триумфальному кульминационному пункту с победными фанфарами. Внезапно колорит меняется: вновь входит
в действие элегическая первая тема – начинается разработка; появляются новые комбинации обеих тем. Модуляционный план разработки характерен для Брамса: через G-dur, g-moll, B-dur, b-moll, Ges-dur, es-moll, H-dur, G-dur, c-moll и затем через движение в басу с—cis—d—dis к основной тональности, причем медленное начало репризы обставлено тончайшими гармоническими деталями. После репризы, повторяющей экспозицию в несколько измененном виде, следует драматически взволнованная кода; Элегическая первая тема появляется фортиссимо в трагическом образе. I часть заканчивается как бы предварением душевной катастрофы финала.
II часть – замечательное Andante moderato (E-dur,
6
8 ; – открывается задумчивым монологом валторн, к которым потом присоединяются удвоенные в октаву деревянные. В отличие от I части, драматически взволнованной, здесь
Andante moderato

f dim.
–
царит глубокая романтическая созерцательность. Это – едва ли не лучший пример возвышенной философской лирики Брамса.
Великолепным, поистине шекспировским контрастом всему предшествующему характеру симфонии является III часть —скерцо (Allegro giocoso, C-dur, f ). Оно преисполнено шумной и неукротимой веселости. С бурным темпераментом звучит в оркестровом tutti основная тема, заканчивающаяся громом литавр.
В состав оркестра введены контрафагот, флейта-пикколо и даже треугольник (обычно Брамсом никогда не употреблявшийся). Развитие скерцо невольно вызывает образ необузданного карнавального празднества с пестрым уличным шумом; оно полно динамических противопоставлений (от крайнего форте – к неожиданному пианиссимо), ослепительных трубных возгласов и развертывается в стремительном темпе. Антитезой является вторая тема – изящная и кокетливая.
Лишь на несколько тактов приостанавливается движение– в середине части (росо meno presto), когда на валторнах и фаготах, под едва слышное тремоло литавр, входит романтически-мечтательная мелодия. Но разработка ее обрывается властным вторжением карнавальной темы. Экстатическим ликованием заканчивается скерцо.
Вершиной симфонии является финал (Allegro ener-gico е passionato, e-moll,® ) —действительно один из величайших шедевров Брамса и вообще европейского симфонизма. Прежде всего – это шедевр в конструктивном отношении: он построен как чакона с тридцатью двумя вариациями, во время которых неизменно присутствующая – то в явном, то в замаскированном виде – тема беспрерывно повторяется либо в басу, либо в верхних голосах. Тема эта входит на духовых и медных инструментах, с введением тромбонов, молчавших в предшествующих частях симфонии, и состоит из восьми нот: ми, фа-диез, соль, ля, ля-диез, си (скачок на октаву вниз) и ми.

Началом внутреннего конфликта является пятая нота – ля-диез, не входящая в состав ми-минорной гаммы; появление ее в изложении темы подчеркивается тремоло литавр. Тема эта повторяется – одновременно с вариациями на нее – тридцать два раза; иными словами, вся часть до коды, написанной в более свободной форме, состоит из строгого чередования восьмитактных периодов. При этом часть делится на три цикла: вариации 1 —10 составляют как бы основное изложение трагедии; вариации 11 —15 (на 2 ) – интермеццо то элегического характера – гениальная двенадцатая вариация с мелодией флейты и прерывистым сопровождением аккордов скрипок, альтов и валторны:

то торжественно-величественного образа – четырнадцатая вариация у тромбонов и фаготов в ритме старинного танца сарабанды или чаконы (на этот раз в хореографическом значении слова):

РР
Затем, начиная с шестнадцатой вариации, возвращающей симфонию к основной тональности, начинается третий цикл: вариации его образуют нечто вроде воспроизведения – то в искаженном, то в обогащенном виде – вариаций первой серии.
Казалось бы, столь математически расчлененное построение должно было привести к сочинению абстрактной, надуманной музыки. Гений Брамса достигает обратного: финал Четвертой симфонии – сквозной поток взволнованной, глубоко трагической и страстной музыки, с единой драматически восходящей линией. Музыкальная трагедия получает, таким образом, поразительно чеканную форму, действительно достойную величайших античных классиков драматургии или скульптуры. Симфония заканчивается все ускоряющимся нагнетанием, приводящим к катастрофе. Это – замечательный человеческий документ, свидетельствующий о трагическом отречении и глубоком одиночестве романтического художника.
СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ БРУКНЕРА
1
В 1882 году – за полгода до смерти – Рихард Вагнер во время одной из байрейтских бесед задумчиво произнес: «Я знаю лишь одного, кто приближается к Бетховену; это – Брукнер»...
Суждение Вагнера было, по-видимому, воспринято окружавшими как один из частых парадоксов великого и капризного в своих оценках маэстро. Разумеется, в вагнерианских кругах знали пятидесятивосьмилетнего Антона Брукнера*– застенчивого, мешковатого, на редкость скромного, просто душного до чудаковатости композитора, который так трогательно выражал свои восторги автору «Кольца Нибелунга» и «Парсифаля» и который сам сочинял внушительных размеров симфонии, обычно никем не исполнявшиеся. Да и сам Вагнер был хорошо знаком только с двумя его симфониями– Второй (c-moll) и Третьей (d-moll, кстати, Вагнеру и посвященной), которые, правда, ценил очень высоко; Брукнер в то время, однако, работал уже над Седьмой. Именно этой Седьмой симфонии (E-dur), первое исполнение которой под управлением Артура Никита состоялось в Лейпциге 30 декабря 1884 года, и суждено было принести Брукнеру запоздалую славу; после долгой безвестности композитор «проснулся знаменитым», когда ему пошел уже седьмой десяток.1
Причины, препятствовавшие подлинному пониманию и освоению музыки Брукнера, были двоякого рода. С одной стороны, конечно, слишком нов и своеобразен был строгий и замкнутый мир брукнеровских симфонических образов, где – казалось – причудливо переплетались суровая полифония Баха, пленительная поэзия шубертовских лендлеров * и пряная гармоническая изощренность вагнеровского «Тристана»: нечто одновременно патриархально-архаическое и модернистски-новаторское... С другой стороны, Брукнер выдвинулся при крайне сложной музыкальной ситуации, не только травимый музыкальными противниками, но по существу не понятый и людьми «своего лагеря».
Дело обстояло так. В 1868 году Брукнер переселился в Вену, где в 1871 году получил звание профессора по теории музыки. В 70-х и 80-х годах прошлого столетия музыкальная Вена сделалась ареной ожесточенной полемики между «брамсианцами» (т. е. приверженцами Брамса) и вагнерианцами. Первые защищали преемственную связь с принципами и жанрами классической музыки, и в том 94 95 числе отстаивали право на существование музыки чисто инструментальной и внепрограммной. Вторые, выступая под знаменами демонстративно подчеркнутого новаторства, утверждали основы «музыки будущего», синтетическое произведение искусства в духе вагнеровской музыкальной драмы и программность в листовском ее понимании. Фанатическая любовь Брукнера к Вагнеру была широко известной; поэтому его причислили безоговорочно к сторонникам «музыки будущего»; и вождь «брамсистской» критики, язвительный и до крайности пристрастный в своих склонностях и антипатиях Эдуард Ганслик повел на Брукнера яростные атаки, сделав его на долгие годы постоянной мишенью для злых сарказмов.
Но и в лагере вагнерианиев положение Брукнера было неопределенным и даже двусмысленным. Вагнер, как известно, исповедовал теорию отмирания так называемого «чистого» инструментального симфонизма после Бетховена, считая, что уже Девятая симфония доказала дальнейшую невозможность его существования. Симфонии Брукнера, выдержанные всецело в плане так называемой «абсолютной музыки», являлись наглядным творческим опровержением вагнеровского теоретизирования. Вагнерианцы делали исключение лишь для листовской программной симфонической поэмы на темы Гёте, Шекспира, Ламартина или Гюго, то есть для инструментальной музыки с непременной изобразительно-поэтической концепцией; Брукнер не прибегал ни к каким литературным программам и ни разу не переложил на язык симфонии ни философской драмы, ни модного романа или стихотворения. Его симфонический путь пролегал далеко от закладывавшейся магистрали Лист – Рихард Штраус.
С Вагнером же у Брукнера были общими лишь «триста-новские» гармонии да некоторые интонационные обороты, преимущественно фанфарного или «вотаиовского» типа. В остальном же музыкальное мышление Брукнера и специфические особенности его музыкального письма (особенно– методы развития материала, ритмика и оркестровка) совершенно самобытны и к Вагнеру имеют самое отдаленное отношение. Миф о том, что симфонизм Брукнера есть не что иное, как приложение принципов вагнеровской музыкальной драмы с ее лейтмотивной системой и «бесконечной мелодией» к области инструментальной музыки, был вызван к жизни самым поверхностным знакомством с Брукнером, и конечно же, в советском музыковедении должен быть отброшен. Рассматривать Брукнера как эпигона Вагнера значило бы повторять зады буржуазного музыковедения конца XIX века. Брукнер – это не какой-нибудь Бунгерт, безнадежно пытавшийся в своей оперной тетралогии «Гомеровский мир», написанной в 1898—1903 годах, идти по стопам автора «Кольца Нибелунга»; Брукнер – творческая личность огромного и совершенно самобытного дарования.