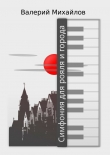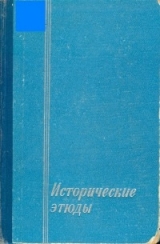
Текст книги "Исторические этюды"
Автор книги: И. Соллертинский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 28 страниц)
Истоки мелодического языка Глюка многообразны. Туг и итальянское bel canto (борясь с его излишествами, Глюк тем не менее владел им в совершенстве: примеры тому можно найти в любом количестве в ранних операх, хотя бы в «Милосердии Тита»), и итальянская инструментальная мелодика (влияние школы Саммартини), и народно-песенная мелодика – чешская, немецкая, французская и даже английская (вспомним свидетельство Бёрни об изучении Глюком английских баллад!). Весь этот многообразный в своих истоках материал Глюк переплавляет в глубоко самобытный, легко узнаваемый при мало-мальски внимательном знакомстве с его музыкой мелодический язык. Пластическая лепка Глюком из этой мелодики речитатива, арии или драматического монолога обнаруживает исключительное музыкально-психологическое мастерство. Достаточно проанализировать, например, мелодическую линию Альцесты во 11 акте – сорок тактов в медленном темпе, полных огромного напряжения, которое ни на секунду не снижается и не ослабляется! Одним из шедевров инструментальной мелодики Глюка справедливо считается ре-минорная мелодия из II акта «Орфея», построенная на типичном флейтовом дыхании (отчего она бесспорно проигрывает при исполнении ее струнным инструментом – виолончелью или скрипкой). В иных случаях при лепке мелодической линии Глюку удается подняться до вершин подлинного трагического пафоса, приближающегося к «Фиделио» Бетховена или музыкальным драмам Вагнера: такова в интонационном отношении вся партия Армиды, особенно в III и V актах. К числу лучших драматических монологов Глюка следует отнести монолог (здесь уместен именно эт°т термин, а не «речитатив» или «ария») Агамемнона в конце II акта «Ифи-гении в Авлиде», когда вождь ахейцев находится в состоянии трагической раздвоенности: бесславно прекратить поход на Трою или пожертвовать дочерью для умилостивления разгневанной Дианы. Этот монолог в оперном искусстве XVIII века, пожалуй, первый пример нового жанра, в котором найдено органическое и неразрывное слияние вокальной декламации и оркестрового мелоса: сначала два гобоя на фоне струнной группы, затем – страстное волнение всего оркестра, хроматические ходы, стремительные фигуры в басу...
Новой в музыкальном театре XVIII века является и глю-ковская трактовка хоров. В них нет прежней статичности: Это – действенный^ элемент, активный участник музыкальной драмы. Уже первая «реформаторская» опера Глюка – венский «Орфей» – раскрывает все своеобразие глюковских хоров: скорбные напевы траурного обряда в I акте, дикие и неистовые хоры подземных фурий, просветленно-элегические хоры блаженных теней, сопровождающие фа-мажорную арию Евридики. Но наиболее самобытное из всей хоровой литературы Глюка – это воинственные, героические хоры, с интонациями, предвосхищающими песни и гимны французской буржуазной революции: таков замечательный унисонный хор, заканчивающий «Ифигению в Авлиде», таков упоминавшийся нами «хор преследования» из «Армиды» и т. п. Именно эти хоры окажут огромное творческое воздействие на Мегюля, Госсека, Лесюэра и др. Хоры такого типа строятся на основе энергичных, упорно повторяющихся «остинатных» ритмических фигур. Эта власть железны*
49
И Соллертинский, т. 1
ритмов, пронизывающих насквозь музыку того или иного хора и придающих ей небывалую мощность и подлинную монументальность, сближает Глюка с Бетховеном.
Велико мастерство Глюка и в сфере оркестра, что неоднократно подчеркивал в своем «Трактате об инструментовке» такой гениальный виртуоз и знаток этого дела, как Гектор Берлиоз. Конечно, в сравнении с гигантскими оркестровыми аппаратами Вагнера или Рихарда Штрауса, оркестр Глюка в своем типичном для XVIII века составе кажется весьма скромным. Но дело не в количестве инструментов. Глюк блестяще владеет всеми красками своей оркестровой палитры и умеет достигать даже небольшими средствами поразительных оркестровых эффектов. Самое же существенное в инструментальном искусстве Глюка – это своеобразная психологизация оркестра, который становится средством «живописи настроения». Глюку удается– найти тончайшие соотношения между душевным состоянием и раскрывающим его инструментальным тембром. Меланхолические, щемящие душу стоны гобоя сопровождают плач Клитемнестры («Ифигения в Авлиде»), которую навеки хотят разлучить с любимой дочерью. Замечателен эффект монотонно повторяющейся фигуры у скрипок на пустой струне ре в финале III акта «Армиды», когда героиня – после сцены с фурией ненависти – чувствует себя внутренне разбитой и побежденной. В той же «Армиде» ошеломляющее впечатление создают неожиданно врывающиеся трубные возгласы в V акте; они как бы исторгают Ринальдо из-под власти колдовских чар Армиды, и он, покинув волшебницу, устремляется обратно в стан крестоносцев. Не менее впечатляет употребление зловещей звучности тромбонов в сцене оракула из «Альцесты»: в аналогичных положениях будет применять тромбоны и Моцарт (например, в «Идо-менее»). v
Драматизируя речитативы и в идеале желая слить их с ариозным пением, Глюк сопровождает их аккордами оркестра, причем – не только струнной группы. Как проницательный музыкальный драматург, Глюк с большим психологическим искусством владеет паузой, чтобы после настороженной тишины и мертвого молчания неожиданно обрушиться на слушателя мощным фортиссимо хора и оркестра. Глюк сам говорил о потрясающем психологическом, даже физиологическом воздействии подобных эпизодов. Этими и аналогичными приемами Глюк драматизирует хор
и оркестр, вовлекает их в сценическое действие, делает подлинными и живыми участниками своей музыкальной драмы. И, конечно, сильно ошибаются те, кто, исходя из буквального и поверхностного чтения манифестов-предисловий Глюка, обвиняет его в умалении роли музыки. Оркестр и хор у Глюка, будучи подчинены общей драматической концепции, лишь выигрывают в своей музыкальной выразительности. В ртом– новое драматическое качество оркестровой музыки Глюка, чего, между прочим, не понимали многие, , в том числе и Вагнер, утверждавший, будто реформаторское выступление Глюка «было направлено против жаждавших славы неискусных и бесчувственных певцов-виртуозов, а в отношении всего неестественного организма оперы все оставалось по-старому». Сводя всю суть реформы Глюка к полемике с певцами, Вагнер прошел мимо той глубокой драматизации оперы, которая позволяет назвать Глюка одним из творцов музыкальной драмы.
Путь Глюка к музыкальной драме не был единственным. Иным путем пошел Моцарт, исходя не из классицизма, а из истоков немецкого зингшпиля – плебейской оперы, ярмарочных балаганных спектаклей – и через них приобщаясь к великим традициям народного театра. Поэтому Моцарт ближе Глюка подошел к шекспировскому методу изображения драматического характера во всем его индивидуальном своеобразии и реалистическом богатстве. В передаче человеческого характера Глюк склонен подчеркивать общее, типичное; его любимая эстетическая категория – возвышенное. Оттого некоторые его герои скорее напоминают прекрасные скульптурные изваяния, чем живых людей во плоти и крови. Глюк ближе к Шиллеру, Лессингу или Гельдерлину, нежели к Шекспиру. И это органически вытекает из его творческого метода.
То же самое можно сказать и о вокальной интонации Глюка – одном из важнейших элементов музыкально-сце-нйческого образа. Глюк исходит из декламации, из оттенков взволнованной речи, причем не из интонационных (мелодических, ритмических и динамических) особенностей какого-либо конкретного языка,17 но из «языка природы», то есть языка некоих обобщенных интонаций человеческих переживаний. Интонации жанровые, характерные, социально-бытовые в лирических трагедиях Глюка почти не используются, как «мельчащие» образ, его скульптурную рельефность и монументальную простоту. У Глюка – подражание природе, но природе эстетически прекрасной, освобожденной от всего несовершенного, случайного. Эт<> – тоже неизбежный вывод из классицизма Глюка.
Так или иначе, именно этот классицизм на том историческом этапе, когда жил и творил Глюк – в преддверии французской буржуазной революции,– позволил ему создать большое европейское искусство. Это прекрасно подчеркнул в своей статье о .Глюке Ромен Роллан: «Он был портом всего, что есть в жизни самого высокого. Не потому, однако, чтобы он поднялся до тех почти недосягаемых высот, где нечем дышать... Искусство Глюка глубоко человечно. В противоположность мифологическим традициям Рамо, он остается на земле; все герои – люди; ему достаточно их радостей и страданий. Он воспевал самые чистые из страстей: супружескую любовь – в «Орфее» и «Альце-сте», отцовскую и дочернюю любовь в «Ифигении в Авлиде», братскую любовь и дружбу – в «Ифигении в Тавриде» – бескорыстную любовь, жертву, принесение себя самого в дар тем, кого любишь. И он сделал это с замечательной искренностью и чистосердечием».
Эти великолепные слова Ромена Ролана должны запомнить не только музыканты и музыковеды, но и руководители наших оперных театров. В репертуар советских театров должно войти все самое великое, что создано человечеством в области музыкальной драматургии. Рядом с «Дон-Жуаном» Моцарта, с «Фиделио» Бетховена, с «Кольцом Нибелунга» Вагнера, с «Отелло» Верди, с «Борисом Годуновым» Мусоргского, с «Пиковой дамой» Чайковского и многими другими шедеврами мирового музыкального театра должны стоять и «Орфей» и «Армида». Мнение о «несценич-ности» опер Глюка основано на невежестве и недоразумении: работа над Глюком поставит увлекательнейшие задачи перед нашими режиссерами, балетмейстерами, дирижерами, художниками, певцами. Советский музыкальный театр сумеет возродить к новой сценической жизни произведения гениального оперного реформатора, которого Берлиоз – один из лучших его знатоков – проникновенно назвал «Эсхилом музыки».
ХРОНОЛОГИЯ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
1714, 2 июля. Рождение Кристофа-Виллибальда Глюка.
1717. Семья Глюка переселяется в Чехию, где будущий композитор проводит детство.
1726—1732. Глюк проходит курс обучения в иезуитской коллегии в Комотау.
1732. Глюк поступает в Пражский университет.
1736. Переселение в Вену. Глюк поступает на службу к графу Лобковицу в качестве «каммермузикуса».
1737—1741. Глюк обучается в Милане музыкальной теории и композиции у Саммартини.
1741. Постановка в Милане первой оперы Глюка «Артаксеркс».
1742. В театре Сан-Самурле в Венеции ставится вторая опера Глюка «Деметрий» («Клеониса»). В миланском придворном театре ставится третья опера «Демофонт».
1743. Постановка в Креме (неподалеку от Милана) новой оперы «Тигран». Для миланской постановки оперы Лампуньяни «Арзак» Глюком заново написан I акт.
1744. В Милане ставится «Софонисба». В Венеции идет «Гнпермнестра», в Турине – «Пор» (по тексту Метастазио «Александр в Индии»).
1745. Постановка «Ипполита» в Милане.
1746. Глюк в Лондоне. «Падение гигантов» (две части). «Арта-мен».
1747. Глюк в Германии. Серенада в драматической форме «Свадьба Геркулеса и Гебы» в Пильнице.
1748. Возвращение в Вену. «Узнанная Семирамида».
1749. Глюк в Дании. Драматическая серенада «Ссора богов».
1750. Постановка «Арция» в Праге. Женитьба Глюка на Марианне Пергин.
1752. «Гипсипила» в Праге. «Милосердие Тита» в Неаполе.
1754. Комическая опера «Китаянки».
1755. «Оправданная невинность» в Вене.
1756. «Антигона» в Риме; Глюк – «кавалер Золотой шпоры». «Король-пастух» в Вене.
1758. Комические оперы «Остров Мерлина», «Мнимая рабыня».
1759. Комические оперы «Осажденная Цитера»., «Волшебное дерево».
1760. «Исправленный пьяница». Свадебная серенада «Фетида».
1761. Комическая опера «Обманутый кади». Трагический балет «Дон-Жуан».
1762. 5 октября. Первое представление «Орфея» в Вене.
1763. «Триумф Клелии» в Болонье.
1764. Комическая опера «Пилигримы в Мекку».
1765. Балет «Семирамида». Свадебная серенада «Смущенный Парнас». Опера «Телемак»
1766. Балет «Китайский принц» (по трагедии Вольтера).
1767. 16 декабря. Премьера «Альцесты» в Вене.
1769. «Празднества Аполлона» в Парме. «Парис и Елена» в Вене.
1774. Глюк в Париже. 19 апреля – премьера «Ифигении в Ав-лиде»; 2 августа – премьера второй («парижской») редакции «Орфея».
1776, 23 апреля. Премьера второй («парижской») редакции «Альцесты».
1777, 23 сентября. Премьера «Армиды».
1778, 14 марта. Бюст Глюка (работы Гудона) устанавливается в фойе Парижской оперы рядом с бюстами Люлли и Рамо.
1779, 18 мая. Премьера «Ифигении в Тавриде»; 21 сентября – премьера «Эхо и Нарцисс».
1787, 15 ноября. Смерть Глюка.
«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА» МОЦАРТА
1
Моцарт почитал «Волшебную флейту» самым лучшим и самым любимым своим произведением. В предпоследний день своей жизни, чувствуя приближение неотвратимой развязки, он признался жене: «Я хотел бы еще раз послушать мою „Волшебную флейту"» и едва слышным голосом начал напевать песенку Папагено «Я самый ловкий птицелов»... II в историю музыки «Волшебная флейта» вошла как «лебединая песнь» Моцарта, как произведение, с наибольшей полнотой и яркостью раскрывающее его мировоззрение, его заветные мысли, как эпилог целой жизни, как некое грандиозное художественное завещание...
И тем не менее при первом беглом знакомстве с «Волшебной флейтой» нельзя отделаться от невольной мысли: какое, однако, причудливое и странное это завещание! На сцене фигурируют тигры и пантеры, мудрец Зарастро возвращается с охоты в колеснице, запряженной шестеркой львов, уродливая старуха на глазах почтеннейшей публики превращается в очаровательную дикарочку, царица ночи в соловьиных итальянских колоратурах требует кровавого мщения, сказочный экзотический принц проходит цикл масонских посвящений в египетской пирамиде, грохочет бутафорский гром, скалы разверзаются и вновь смыкаются, ft так далее! Что за нелепица, что за детская феерия! Мы видели, правда, на сцене всех этих магов, волшебников, ведьм и чертей в «Любви к трем апельсинам» Карло Гоцци и Сергея Прокофьева... Но ни утонченный венецианский поэт-фантаст XVIII века, ни советский композитор наших дней и не думали принимать своих персонажей всерьез: наоборот, все эти сказочные герои подвергались убийственному пародийному обстрелу! Совсем иное у Моцарта: с каким бы юмором он ни обрисовывал болтливого птицелова Папагено или «страшного» мавра Моностатоса – в последнем счете он вкладывает в «Волшебную флейту» серьезную морально-философскую идею.
Не удивительно, что уже современниками ощущался резкий контраст между детской наивностью сюжета и глубиной моцартовского замысла и что за «Волшебной флейтой» исстари установилась репутация гениальной оперы, написанной на из рук вон плохое либретто. Более интересно, однако, что в защиту оперы в целом – не только музыки, но и драматургии – неоднократно выступали авторитетнейшие имена. «Сколько раз доводилось слышать,– говорит, например, Гегель в «Эстетике»,– что текст «Волшебной флейты» совсем убог,– и все же это сочинение принадлежит к числу оперных либретто, заслуживающих похвалы, Шиканедер (автор либретто.– //. С.) после многих глупо фантастических и пошлых изделий нашел в нем верную точку опоры. Царство ночи, королева, солнечное царство, мистерии, посвящения, мудрость, любовь, испытания, и притом некие общие места морали, которые великолепны в своей обыкновенности,– все это, при глубине, чарующей сердечности и душевности музыки, расширяет и наполняет фантазию и согревает сердце».1 Бетховен, необычайно щепетильный в вопросах моральной квалификации музыки, осудивший «Дон-Жуана» и «Свадьбу Фигаро» за фривольность темы, относился к «Волшебной флейте» с величайшим уважением и восторгом. И, наконец, Гёте не только сравнивал «Волшебную флейту» с самым глубокомысленным своим созданием – второй частью «Фауста», но и написал – оставшееся, впрочем, незаконченным – продолжение «Волшебной флейты».18 19 Гёте возвращался к «Волшебной .флейте» неоднократно: в «Германе и Доротее», например, ей посвящено несколько чудесных гекзаметров.
Все эти отзывы, однако, никоим образом не могут до конца реабилитировать довольно-таки нескладное, запутанное и кустарно сделанное либретто «Волшебной флейты». Автор его – фигура на театральном горизонте XVIII века достаточно колоритная: легкомысленный и шикарный венский импресарио Эмануель Шиканедер, посредственный драматург-ремесленник с нехорошим душком плагиатора, постановщик пышных феерий (современные театроведы называют его «Максом Рейнгардтом рококо»), неоднократно прогоравший и в конце концов умерший в клинике для умалишенных в 1812 году.20
Обстоятельства, при которых возникла идея сказочной оперы «Волшебная флейта», общеизвестны. В марте 1791 года Шиканедер оказался в бедственном положении: ему грозило полное разорение. Чтобы спастись от краха, он обращается к Моцарту, своему старому знакомому и собрату по масонской ложе, с просьбой выручить его: написать музыку к сочиненному им, Шиканедером, замечательному оперному сценарию. Моцарт дал себя уговорить, и, не требуя немедленной уплаты гонорара, сочинил музыку «Волшебной флейты» с обычной быстротой. В ртом году Моцарт особенно страдал от нужды и безденежья; на руках у него была больная жена; сравнительно недавно умерли отец и первый ребенок. Сам Моцарт был одержим предчувствием скорой смерти, много говорил об ртом окружающим и часто впадал в истерическое состояние. Еще более усугубило меланхолию Моцарта во время работы над «Волшебной флей той» появление таинственного незнакомца в черном, заказавшего Реквием и потом навсегда исчезнувшего. При болезненно расстроенном воображении Моцарт принял его за посланца смерти. Ныне история с заказом Реквиема исчерпывающим образом разъяснена: загадочный незнакомец был просто доверенным слугой богатого дилетанта графа фон Вальзега, который скупал за бесценок партитуры у нуждающихся композиторов и затем, переписав их от руки, выдавал за свои. В такой сильно напряженной и нервной атмосфере создавалась «Волшебная флейта» – самое безоблачное
и умиротворенное произведение Моцарта. Результат оказался благоприятным для Шиканедера: после премьеры «Волшебной флейты» дела его быстро поправились. Однако Моцарту он так и не заплатил ни гроша. Легенда – впрочем, весьма малодостоверная – рассказывает, будто, узнав о смерти Моцарта, Шиканедер с отчаянными воплями бегал по улицам Вены, терзаемый угрызениями совести и называя себя убийцей.
Насколько легкомысленно относился сам Шиканедер к своей работе над драматургией «Волшебной флейты», показывает следующий характерный эпизод. Почерпнув сюжет из сказок Виланда,1 либреттист первоначально предполагал сделать Зарастро злым волшебником, похитившим у царицы ночи дочь Памину, которую впоследствии освободит принц Тамино. Однако, когда почти половина работы была сделана, в другом оперном театре появляется опера популярного в свое время автора зингшпилей Венцеля Мюллера «Каспар-фаготист», текст которой был сделан актером Перине по той же сказке Виланда. Отказываться от богатой эффектами темы Шиканедеру совсем не хотелось, и с ловкостью прожженного театрального дельца он быстро находит выход из положения: Зарастро из злого колдуна будет превращен в благородного мудреца, а царица ночи из страдающей матери станет носительницей идеи зла. При этом – что самое пикантное – уже написанные сцены не переделываются! Либретто, таким образом, перестраивается 21 22 23 24 25 26 на ходу, оставляя за собой множество недоразумений и сюжетных «неувязок», неизбежных при столь решительной операции.
Не будем, однако, слишком придирчивы к Шиканедеру: его методы работы не так уж отличались от методов прочих либреттистов того времени. И если сюжет «Волшебной флейты» оказался запутанным, а стихи в большинстве случаев ничтожными в поэтическом отношении, то все же в либретто есть удачные драматические сцены, умелые театральные эффекты, а главное – мастерски разработанные роли: в «Волшебной флейте» нет невыигрышных партий; даже крошечная ролька Папагены наделена чрезвычайной характерностью. Правда, этого еще далеко не достаточно, чтобы – подобно музыковеду Вальтерсгаузену, написавшему о «Волшебной флейте» особое исследование,27—назвать – вероятно ради парадокса,– либретто Шиканедера образцовым оперным сценарием!
3
Совершенно иначе подошел к «Волшебной флейте» Моцарт. Либретто Шиканедера он взял лишь как отправную точку для создания оперы, в которой наиболее полно были высказаны самые глубокие и заветные мысли композитора. Эти мысли становятся понятными лишь из общей характеристики мировоззрения Моцарта.
Буржуазное музыковедение XIX века создало своеобразный миф о Моцарте. По этому мифу Моцарт – некое гениальное «божественное дитя»,– музыкант сверхъестественной одаренности, не знающий мук творчества, сочиняющий музыку так, как поют птицы,– веселый и наивный художник, не задумывающийся над философскими темами, не знающий никаких «проклятых вопросов», не разрешающий в музыке – в противоположность Бетховену и Вагнеру – никаких мировых проблем, счастливый чистым и беспримесным музицированием. И музыка его так же ясна, безоблачна и ослепительно жизнерадостна, как и он сам. В личной жизни – он беззаботный и нерасчетливый малый, задорный собутыльник, «гуляка праздный». С необузданной щедростью гения он растрачивает свое творчество и свою жизнь. В болдинской трагедии Пушкина подобная характеристика Моцарта вложена в уста завистника Сальери.
Следует заявить со всей категоричностью, что описанный образ «солнечного Моцарта» является мифом: он вымышлен от начала до конца. Исторический Моцарт – мы знаем его и по переписке, и по новейшим биографическим исследованиям 1 – был мужественным, глубоким и вдумчивым композитором, жизнь которого богата борьбой и страданиями. Ибо Моцарт боролся прежде всего с феодальнодворянским пониманием музыки как забавы, как своеобразной «звуковой гастрономии», боролся за достоинство музыки, за превращение ее из увеселения в глубоко эмоциональную выразительную речь. Когда после премьеры «Похищения из сераля» австрийский император охарактеризовал музыку Моцарта,– «слишком тонка для наших ушей, и потом – неимоверное количество нот, мой дорогой Моцарт!»,—композитор ответил: «ровно столько, сколько
нужно, ваше величество». Представитель передовой интеллигенции эпохи просветительства, Моцарт мучительно переживает службу у «меценатствующего» феодала – епископа Зальцбургского – и впоследствии круто порывает с ним, обрекая себя тем самым на нужду. Лишь за четыре года до смерти Моцарт, уже знаменитый композитор, собираясь покинуть навсегда Вену, получает должность «каммермузи-куса» со скудным годовым окладом в 800 гульденов и с обязанностью по штату – сочинять танцы для придворных балов. К тому же и это убогое жалованье выплачивается далеко не аккуратно. Моцарт перебивается уроками, вынужден лихорадочно писать музыку на заказ и умирает, не достигнув тридцатишестилетнего возраста – буквально от истощения сил. Известно, что даже на приличные похороны средств не хватило, и гениальный композитор XVIII века, •величайший из мастеров мировой музыки, был погребен в общей могиле вместе с самоубийцами, бродягами и преступниками!
В свете этой точки зрения становится совершенно ясным и классовый смысл легенды о Моцарте. Ее функция состо– 28 29 яла в том, чтобы снять с буржуазно-дворянской Европы ответственность за одно из величайших преступлений, совершенных перед культурой,– за бедственную жизнь и преждевременную смерть Моцарта: сам-де он, стихийный и безрассудный гений, легкомысленно сжег свою жизнь. Получалась удобная вариация на старую тему «гений и беспутство». Моцарт-борец уступал место мифическому повесе или петиметру в расшитом кафтане, кружевном жабо и пудреном парике. Правда, оставалось непонятным, каким образом подобный композитор взялся сочинять оперу на сюжет комедии, бывшей в течение многих лет под цензурным запретом во Франции и сыгравшей видную роль в идеологической подготовке французской буржуазной революции; мы говорим о «Свадьбе Фигаро» Бомарше. А между тем, при тогдашней европейской обстановке, это было актом немалого гражданского мужества.
В том-то и дело, что подлинный источник брызжущей через край жизнерадостности музыки Моцарта нужно искать не в «детскости» и не в «стихийности» его натуры и – подавно – не в немногих счастливых эпизодах его биографии. Корни жизнерадостности музыки Моцарта – в огромном социальном оптимизме композитора: ему, как и многим другим представителям передовой интеллигенции XVIII века, воспитавшейся на энциклопедистах, просветительской философии и Руссо, действительно казалось, что наступает новая эра, когда рушатся социальные перегородки, трещат троны, отмирают средневековые – «готические» – суеверия, что феодализм обречен и что человечество начинает строить новую жизнь на основах разума. Моцарт изучал просветительскую философию: об этом свидетельствует найденный в его библиотеке «Федон» Моисея Мендельсона. И даже его участие в масонских ложах объяснимо именно этими причинами: в политически отсталой Австрии масонские ложи были – пусть в сугубо мистифицированной форме – какими-то отдушинами в тогдашней общественной жизни третьего сословия. Во всяком случае, европейские венценосцы не преминули объявить начавшуюся французскую революцию «масонским заговором». В частности, австрийский император Леопольд II – как раз в эпоху сочинения Моцартом «Волшебной флейты» – начал жестокие преследования масонских лож, видя в них предшественниц политического и религиозного либерализма, и в 1794 году ложи были закрыты...
во
Следует добавить, что общественно-политический идеал Моцарта – как, впрочем, и большинства философов-просве-тителей XVIII века – был облечен в сугубо утопическую форму. Отмирание феодализма произойдет само собой: он исчезнет – со всеми предрассудками и суевериями – под влиянием критики разума, подобно тому, как тьма рассеивается с первыми лучами солнца. О том, что впереди предстоят годы и десятилетия кровавой борьбы, Моцарт не догадывается: именно потому так безоблачен его социальный оптимизм, именно потому так много идиллизма в его музыке. В плане идиллии встает перед Моцартом конечная цель его общественно-политических мечтаний: всеобщее
братство людей и народов на основе некоего всеобщего гуманизма.
4
Теперь нам становится понятным и то особое значение, которое Моцарт придавал «Волшебной флейте». Он видел в ней не просто феерическую сказку, из которой ловкий Шиканедер выкроил занятное либретто. Для Моцарта основная тема «Волшебной флейты» – это борьба дня и ночи, света и тьмы, разума и предрассудков. «Волшебная флейта» Моцарта – это гениальная социальная утопия в музыке, и идеологический пафос ее может быть примерно выражен прославленными стихами Пушкина (из «Вакхической песни»):
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!
Два мира враждуют в «Волшебной флейте»: царство грозной повелительницы ночи и солнечное царство мудреца-гуманиста ЗаРастР°– В лагере царицы ночи господствуют коварство, злоба, черная месть, женская хитрость и похотливая чувственность. Не только мстительные страсти обуревают царицу ночи: она поклялась удержать народ в черном суеверии и разрушить храм мудрости и разума. В этом конечный смысл ее смертельной вражды к ЗаРастР°– Ей прислуживают три дамы в черных одеяниях; они, впрочем, лишены каких-либо зловеще мистических черт; по справедливому замечанию историка оперной драматургии Г. Бультга-упта, либреттист придал им характер дам полусвета или кокоток в духе галантных романов XVIII века; их оружие – игривая похотливость и чувственный соблазн. Кроме того, сообщником царицы ночи становится и мавр Моностатос, которому Зарастро доверил стеречь Памину и который домогается ее любви с чисто звериной страстью. Царство ночи символизирует мир предрассудков и суеверий, старых воззрений, приводивших к кровопролитию и вражде,– и уже современники Моцарта видели в нем воплощение феодальной реакции, религиозного фанатизма, клерикализма, кликушества и – прежде всего – иезуитизма.
Царству ночи противопоставлено царство мудрого ЗаРа" стро – тихая пальмовая роща, где воздвигнуты три храма: Мудрости, Природы и Разума. Сам ЗаРастро у Моцарта – родной брат лессинговского Натана Мудрого или маркиза Позы из «Дон-Карлоса» Шиллера: его устами говорят терпимость, просветительская философия, европейский гуманизм и либерализм, исповедуемый энциклопедистами и просветителями принцип разума. В мире ЗаРастро разлит яркий солнечный свет, слышны торжественные звуки труб и тромбонов, царят мир и спокойствие.
Между этими враждующими полюсами – тьмой и светом, царством суеверия и царством разума – мечется ищущий истины человек – Тамино. Подобно Данте в первой песне «Божественной комедии», он оказывается в самом начале оперы – «nel mezzo del cammin di nostra vita», «посреди жизненного странствования» – на перепутье: дорога потеряна, страшный змей преграждает ему путь; перед лицом смерти Тамино безоружен. Но вот появляются три дамы в черном – вестницы царицы ночи. Они убивают змея и вручают Тамино портрет Памины – дочери королевы ночи, похищенной ЗаРастР°» При ударах грома разверзя-ются скалы и появляется сама царица ночи в усыпанном звездями одеянии: она зяклинает Тамино освободить дочь из плена Зярястро. Тамино отправляется на подвиг; ему дан спутник – птицелов Папагено, наивный дикарь в пестрой одежде из перьев; его амплуа – быть своеобразным Санчо Пансой у Тамино; он болтлив и мечтает только о вине и девушке.
Тамино приходит в царство Зярястро и убеждается, что тот, кого он хотел убить, вовсе не является злым волшебником; напротив, это просвещенный мудрец, возглавляю-
щий братство свободных и мужественных рыцарей. Похищение же Памины имеет другие, более возвышенные причины: Зарастро спас ее из царства зла и ночи и нашел ей избранника. Зтим избранником будет Тамино, если он окажется стойким, добродетельным и чистым. Тамино готов вступить в содружество мудрых и подвергнуться циклу испытаний. Весь второй и последний акт «Волшебной флейты» и посвящен этим испытаниям: их ритуал довольно точно подсказан розенкрейцерской и масонской обрядностью. Испытание заканчивается моральным торжеством Тамино: он выдерживает искус и на пороге храма мудрости получает руку Памины. Не обделен и его словоохотливый Личарда – Папагено. Ему в жены достается такая же смуглая и одетая в перья, как и он, дикарочка Папагена: их веселый дуэт – двух цветных попугаев – принадлежит к ярчайшим страницам финала оперы.