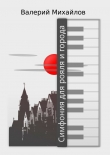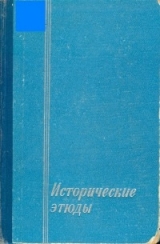
Текст книги "Исторические этюды"
Автор книги: И. Соллертинский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 28 страниц)
Наконец, ради курьеза можно назвать оперу, в которой Шекспир фигурирует в качестве действующего лица. Это «Сон в летнюю ночь»—трехактная комическая опера Амбруаза Тома (автора некогда популярной оперы «Гамлет» на либретто Розье и Левена), впервые поставленная в Париже в 1850 году.
Содержание ее примерно следующее: Королева Елизавета и ее фрейлина Оливия, отстав от свиты, попадают в таверну, где бражничает Шекспир с приятелями. Тщетно королева – инкогнито, под маской – читает поэту нравоучения; мертвецки пьяный, он валится под стол. Тогда Елизавета приказывает сэру Джону Фальстафу – губернатору Ричмонда – перенести спящего Шекспира в королевский парк. Ночь, озеро, озаренное лунным светом, отдаленно звучащая музыка; поэт просыпается и – после ряда авантюрных эпизодов – влюбляется в королеву, предварительно попытавшись утопиться в реке, также по романтическим причинам. Елизавета успокаивает Шекспира. «Пусть все случившееся этой ночью будет сном для всех, кроме вас». Стоит ли добавлять, что либретто оперы Тома не имеет ничего общего со скудными данными подлинной биографии Шекспира и основано на анекдотическом вымысле весьма
сомнительного вкуса, не без примеси вульгарных, но в основе традиционных романтических положений: Шекспир стилизован под Кина из мелодрамы «Гений и беспутство»!
3
Удалось ли Шекспиру найти среди европейских композиторов конгениального истолкователя? Сумел ли кто-нибудь из великих музыкантов прошлого воплотить в звуках могучий реализм Шекспира, титанические масштабы его характеров и драматургических концепций, его великолепный метафорический язык, его контрасты, его вдохновенное сочетание трагедии и юмора? Причем речь будет идти не о буквальном музыкальном воспроизведении того или иного шекспировского сюжета или ситуации, но именно о масштабности музыкальных образов, о музыкально-драматическом методе, приближающемся к шекспировскому, принципиально родственном ему.
Попытки решить эту трудную проблему делались неоднократно. Так, в 1868 году вышел труд, озаглавленный «Гендель и Шекспир». Автор его – лицо достаточно авторитетное в вопросах шекспирологии – Георг Гервинус, ранее опубликовавший четырехтомное исследование о Шекспире. «Гендель и Шекспир» Гервинуса114 имеет посвящение известному биографу и неутомимому исследователю Генделя Фридриху Кризандеру и распадается на две неравные части. Первая, более обширная, в свое время сильно заинтересовала Мусоргского (ссылающегося на Гервинуса в своей автобиографической записке): в ней Гервинус содержательно и интересно рассуждает о взаимоотношении звука и слова, о музыкальных элементах человеческой речи, ее эмоциональной структуре, о происхождении песни и т. д. Вторая часть, наиболее существенная для нашей темы, устанавливает творческую параллель между Генделем и Шекспиром. Эта параллель, впрочем, не слишком убеждает. Архитектоника трагедий Шекспира весьма далека от галантной историко-мифологической оперы и от героической оратории Генделя с ее монументальной статикой. Психологическое развитие арии у Генделя и шекспировского монолога также далеко не совпадает. Совершенно различны драматургиче-
ские конструкции характеров. Правда, иной раз ситуация преступного и терзаемого совестью на троне властелина (типа Валтасара или Саула у Генделя) несколько напоминает соответствующие мотивы в исторических хрониках и «Макбете» Шекспира. Спорными кажутся аналогии между музыкально-изобразительными средствами Генделя и метафорической речью Шекспира. Гервинус ограничивается констатацией большого нравственного пафоса у Генделя и Шекспира (хотя последнему начисто чужды элементы пуританской идеологии, существующие у автора «Самсона» и «Иуды Маккавея»), сходства женских портретов у обоих художников и т. п. Таким образом, в основном параллель Гервинуса не может считаться убедительной (при ряде отдельных метких наблюдений): как ни бесспорно величие Генделя, в целом его музыкально-драматический метод далек от шекспировского.1
Несравненно более обоснованной будет другая параллель: Шекспир – Моцарт. Это сопоставление особенно выигрывает в наши дни, когда окончательно сдается в архив наивно-обывательское представление о Моцарте как об олимпийски-уравновешенном и бездумно-радостном композиторе, как о «божественном ребенке», который пел, как райская птичка, и музыка которого является звуковым воплощением безмятежного детского возраста человечества. Против этого «мифа о Моцарте» впервые восстал в своем «Жизнеописании Моцарта» (1814) уже Стендаль. Великая заслуга его перед европейской музыкальной мыслью заключается в том, что он первый указал на шекспиризм Моцарта, и прежде всего – на шекспировскую мощь его гениальной «веселой драмы» («dramma giocosa»)—«Дон-Жуан». Это сближение Моцарта с Шекспиром вовсе не казалось парадоксальным Гёте, который в известной беседе с Эккерманом заявил, что только Моцарт мог бы написать адекватную музыку к «Фаусту». Любопытно, что сто лет спустя – правда по недвусмысленно идеалистическим соображениям – аналогию между Шекспиром и Моцартом проводил возглавлявший марбургскую школу неокантианцев философ Герман Коген в своей книге «Драматическая идея в оперных текстах Моцарта»,115 116 где, при всей методологической уязвимости общей концепции Когена (взятой целиком из его же&капитальной «aesthetik des reinen Gefiihls»), встречаются отдельные верные соображения. По Когену, именно Моцарт достигает шекспировского единства драматического действия «в самопревращении (Selbstverwandlung) возвышенного в юмор, трагического в комическое и обратно». Впрочем, вся рта достаточно отвлеченная диалектика двух эстетических категорий связана у Когена с его общей концепцией Этического человека в его индивидуальности и всеобщности, причем реализацию этого этического человека Коген видит в шекспировских драмах и моцартовских операх.
Разумеется, дело не в Когене и его идеалистических построениях. Существенно то, что Моцарта неоднократно пытались связать с Шекспиром, хотя зачастую исходя из методологически ошибочных предпосылок. Эта связь Моцарта с Шекспиром кажется нам глубоко органичной, и остается пожалеть, что вследствие преждевременной смерти гениального композитора в тридцатипятилетнем возрасте его творческая встреча с Шекспиром на одном и том же сюжетном материале не могла состояться. Моцарт интересовался Шекспиром; это может быть засвидетельствовано и в биографическом разрезе. В Лондоне он видел Гаррика в Дрюрилен-ском театре и слушал музыку Мэтью Локка к «Макбету». Автор либретто «Волшебной флейты» – импресарио, драматург и актер Зммануель Шиканедер – играл Гамлета. Гамлета играл в Берлине и актер Бешорт, певший в те же годы и моцартовского «Дон-Жуана».
Путь Моцарта к драматургии шекспировского типа, музыкально нашедший свое высшее осуществление в партитуре «Дон-Жуана», идет через творческое освоение Моцартом традиций ярмарочного, плебейского, балаганного театра, через культуру народной, демократической оперы – зинг-шпиля. В отличие от Глюка, который движется к реформе оперного театра через классицизм, через преодоление музыкально-драматической эстетики Метастазио, Моцарт исходит из народного, плебейского театра и через него соприкасается с подлинными шекспировскими традициями, с их мощным реализмом, с их многоплановым изображением человеческого характера, с их методом сочетания возвышенной философии и феерии, трагедии и балагана, великого и шутовского (что осталось Глюку с его величаво-скульптурной трактовкой героев до конца жизни чуждым). Дарастро и Па-пагено из «Волшебной флейты», как, разумеется, и Дон-
Жуан с Лепорелло, – Это чисто шекспировские образы.
В высшей степени поучительно сравнить героев «Волшеб-ной флейты» с персонажами из «Бури» Шекспира: ЗаРастРО и Просперо, Тамино с Паминой и Фернандо с Мирандой, Папагено и Калибана и т. д. С другой стороны, любопытно сопоставить разработку аналогичных ситуаций: безумие Па-мины и сумасшествие Офелии. Иными словами, именно Моцарт, думается нам, ближе всего подошел к шекспиризации музыкального театра.
В сущности, не состоялась творческая встреча Шекспира и с другим титаном мировой музыки – Бетховеном. Единственное его произведение, по заглавию напоминающее Шекспира, – знаменитая увертюра «Кориолан» написана не для трагедии Шекспира, а для одноименной пьесы Генриха Коллина (причем произведение Коллина не является переделкой Шекспира, а написано самостоятельно по Плутарху). Впрочем, возможно, что, создавая увертюру, Бетховен вдохновлялся не мелодраматической риторикой Коллина, а об– JjP1 разом шекспировского героя. В какой-то мере навеяны Шекс– V пиром и две фортепианные сонаты Бетховена: d-moll (соч. 31 № 2) и гениальная f-moll (соч. 57, «Appassio-nata»), которую В. И. Ленин—по воспоминаниям Горького – называл «изумительной, нечеловеческой музыкой»; когда Бетховена спрашивали о внутреннем содержании этих сонат, он многозначительно отвечал: «Прочтите «Бурю» Шекспира». Впрочем, «Буря» вряд ли может быть ключом к сюжетно-программному истолкованию названных произведений: скорее речь будет идти об общей поэтической атмосфере. Во всяком случае, вышеприведенные указания Бетховена так и остались в музыковедении не до конца расшифрованными.
Что Бетховен – весьма начитанный в литературном и философском плане – преклонялся перед Шекспиром, считая его одним из своих кумиров наряду с Гомером, Гёте и Кантом, существует множество свидетельств, в том числе одно чрезвычайно курьезное: некий Гельмут Винтер, обладавший, по собственным уверениям, «бешеной фантазией», писал Бетховену: «Раз Вы вдохновляетесь Шекспиром, Вы рождены для моих стихотворений». Более интересно другое. Бетховен, мучительно искавший оперное либретто, которое удовлетворяло бы его в этическом, идейно-философском и художественном отношении, дважды задумывается над «Макбетом». В первый раз – в 1808 году, когда сочине-
НИе сценария должен был взять на себя тот же Коллин; к этому времени относится тема в d-moll – любимой трагической тональности Бетховена. Второй случай приводится в воспоминаниях актера Аншютца и имел место летом 1822 года: беседовали с Бетховеном о «Лире» и «Макбете»; его наэлектризовала мысль написать музыку к «Макбету» на манер «Эгмонта» – ведьмы, сцена убийства, пир с призраком, ночная сцена, предсмертный бред Макбета. В несколько минут Бетховен нарисовал всю трагедию. К сожалению, этот великолепный замысел, как и многие другие, относящиеся к описанному периоду творческого пути Бетховена, так и остался невоплощенным.
Мы не упомянули единственную оперу Бетховена – «Фиделио». Это не случайно: драматический метод «Фиде-лио» в корне иной, нежели «Дон-Жуана» Моцарта; он восходит к Глюку, Керубини и драматургии французской буржуазной революции и по существу – при очень высокой моральной температуре, свойственной оперной концепции Бетховена и ее идейно-музыкальным источникам, – ближе к идеализирующей «щиллеровской», нежели «шекспировской» драматургической линии. Образ Флорестана вылеплен принципиально иными художественными средствами, нежели фигура Дон-Жуана. Несколько абстрактный этический пафос, свойственный Бетховену-драматургу, конечно, ближе к Руссо, Мерсье и театральным писателям периода «бури и натиска», нежели к Шекспиру. Метод величайшего идейно-эмоционального обобщения, составляющий основу бетхо-венского симфонизма, дает в оперной драматургии иные результаты.
4
Послебетховенская музыка XIX века, при изобилии всевозможных музыкальных произведений на шекспировские темы, выдвинула трех великих композиторов-«шекспироло-гов»: Берлиоза, Чайковского и Верди.
«Внедрить в искусство музыки гений и могущество Шекспира» – так еще с молодых лет определял Берлиоз свое жизненное назначение. Обращение Берлиоза к Шекспиру понятно и закономерно. Его творческая личность, его мировоззрение формируются в те годы, когда появляются «Расин и Шекспир» Стендаля (1823), предисловие к «Кромвелю» Гюго (1827).
Берлиоз посвящает шекспировским темам несколько произведений: увертюру «Король Лир» (1831), драматическую симфонию «Ромео и Джульетта» (1839). «Смерть Офелии» и похоронный марш из «Гамлета» (1847) и оперу «Беатриче и Бенедикт» (1860—1862). Таким образом, Берлиоз возвращается к Шекспиру на протяжении всего своего бурного творческого пути.
Наиболее значительным из шекспировского цикла сочинений Берлиоза является его драматическая симфония «Ромео и Джульетта» – с хорами, вокальными сольными номерами и прологом с хоровыми речитативами. Эта монументальная партитура по справедливости считается лучшим симфоническим произведением Берлиоза.
Конечно, структура драматической симфонии Берлиоза далека от классической. «Ромео» – блестящий пример созданного Берлиозом жанра «театрализованного симфонизма». Симфония Берлиоза заканчивается почти оперой: три хора (хор Монтекки, хор Капулети, хор пролога); ария патера Лоренцо, примиряющего враждовавшие семьи. Очень любопытен пролог, где хор – по образцу античного – излагает смысл и развитие действия трагедии и комментирует путем своеобразного хорового речитатива появляющиеся в дальнейшем симфонические лейтмотивы. Великолепна оркестровая «сцена любви», вероятно, лучшее адажио во всей французской музыке, вдохновенное по мелосу, необычайно целомудренное, вовсе лишенное болезненно-эротических обертонов.
Мы задержались на характеристике драматической симфонии «Ромео» не только потому, что эта партитура отмечена печатью подлинной гениальности: на ее материале нетрудно установить, как преломляется Шекспир в творческом воображении композитора. Берлиоз как бы транспонирует Шекспира в романтическую тональность (как это делал и Делакруа в своих известных иллюстрациях к «Гамлету»). От Шекспира берутся ослепительные краски, пышная декоративность («Праздник у Капулети»), пленительная фантастика (виртуозное скерцо «Фея Маб» с его изысканнейшими, паутинно-тончайшими звучностями), эффектные антитезы (в этом отношении достойна внимательного изучения архитектоника IV части). В то же время образ Ромео у Берлиоза байронизирован. Эт° – один из вариантов фигуры «молодого человека XIX столетия»; его исступленная меланхолия – от Ренэ, от Вертера, от Чайльд-Гарольда. И очень характерно, что благодаря модернизированной чувствительности «Ромео» Берлиоза по своему музыкальному языку во многих отношениях предвосхищает вагнеровского «Тристана».
Вот почему трудно сказать, насколько удалась Берлиозу поистине титаническая задача «шекспиризации музыки». Конечно же, у Берлиоза не было цельности шекспировского гения; в нем слишком много лирики, романтической «болезни века» – неврастении, слишком много раздвоенности и внутренней надорванности, наконец, слишком много необузданного воображения, порою заслоняющего реальность.
Романтическую транскрипцию Шекспира дает в своих произведениях и другой великий симфонист XIX века – П. Чайковский. Три сочинения Чайковского посвящены шекспировской тематике: увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (1870), симфоническая фантазия «Буря» (1873) и увертюра-фантазия «Гамлет» (1888), к которой позже (1891) прибавляется и музыкальное оформление всей трагедии – оркестровые антракты, мелодрамы, марши (в том числе глубоко выразительный траурный марш), песни и фанфары.
Наиболее замечательна из шекспировских партитур Чайковского – «Ромео» (кстати, любимое детище самого композитора). Мелодия любви из эт°й увертюры-фантазии является одной из самых прекрасных мелодических находок ЧайковскЬго. В отличие от Берлиоза, Чайковский не развертывает в прагматической последовательности ход событий трагедии. Он сосредоточивается на центральной (в понимании композитора) теме обреченности любви двух юных существ. Здесь Чайковский всецело в традициях идеалистической эстетики XIX века: любовь Ромео и Джульетты
слишком прекрасна и возвышенна, чтобы . уцелеть в ртом жестоком материальном мире; поэтому юных веронских любовников неотвратимо ожидает гибель. Теме любви противостоит другой музыкальный образ: он звучит во вступлении как хорал и потому сначала соединяется с представлением о монахе Лоренцо; в дальнейшем развитии рта тема принимает грозный облик (особенно в проведении ее у труб в высоком регистре в середине аллегро): она становится * символом обступающей юных героев страшной действительности, сокрушающей их счастье; более того – символом
неумолимого рока.117 В «Ромео» уже отчетливо проступает фаталистическая концепция Чайковского (которая несколькими годами позже найдет потрясающее выражение в Четвертой симфонии). Примиряющего конца – восстановления долгожданного мира в Вероне – нет и в помине. Увертюра-фантазия заканчивается устрашающе резкими аккордами оркестра; словно последние гвозди вколачиваются в гроб – по образному сравнению одного из критиков.
Аналогичную романтико-пессимистическую транскрипцию Шекспира дал Чайковский и в симфонической фантазии «Буря». Предложенная В. Стасовым Чайковскому программа такова: «Море. Волшебник Просперо посылает повинующегося ему духа Ариеля произвести бурю, жертвой которой делается корабль, везущий Фернандо. Волшебный остров. Первые робкие порывы любви Миранды и Фернандо. Ариель. Калибан. Влюбленная чета отдается торжественному обаянию страсти. Просперо сбрасывает с себя силу волшебства и покидает остров. Море».
Уже из этой программы становится ясным, как перестраивает Чайковский сюжет Шекспира. Отходит на задний план Просперо – изгнанный властелин, Просперо-маг. Самая «буря» занимает более чем скромное место. Чайковский выдвигает другое. Центральный образ его симфонической фантазии – безбрежная зыбкая гладь океана, из которого встают миражные, обманчивые видения (и самое пленительное из них – любовь Фернандо и Миранды), чтобы вновь бесследно рассыпаться и исчезнуть. Картиной спокойного необъятного водного простора, величавой и монотонной песней океана и заканчивается симфоническая фантазия Чайковского.
Насквозь элегическим получился у Чайковского и «Гамлет». От сарказмов и иронии датского принца не осталось и следа. Э т0 понял сам Чайковский, писавший в одной из критических статей (по адресу «Гамлета» Амбруаза Тома), что «для музыки, как бы она ни была могущественна в отношении передачи настроений человеческой души, совершенно недоступна наиболее выдающаяся сторона Гамлета – именно та язвительная ирония, которой проникнуты все
его речи, те чисто рассудочные процессы его несколько пошатнувшегося от сосредоточенной злобы ума, которые делают из него мрачного скептика, потерявшего верование в хорошие стороны человеческой души». Гамлет Чайковского насквозь лиричен. Эт0 возвышенная, скорбная душа. Фаталистическая концепция Чайковского отчетливо видна и здесь. Гамлет обречен: его роком является призрак, зловещая тема которого в альтах и виолончелях открывает данную увертюру.
Таким образом, во всех трех произведениях Чайковский дает своеобразную романтико-фаталистическую транскрипцию Шекспира (как впоследствии внесет фаталистический момент и в вовсе свободную от него повесть Пушкина).1 Разумеется, это говорится менее всего в упрек Чайковскому: всякий великий музыкант всегда дает свое, ярко индивидуальное понимание литературного первоисточника, исходя из предпосылок собственного мировоззрения и творческого метода. Но, конечно, метод Чайковского оказался далеким от исторического Шекспира.
Из триады великих музыкантов-шекспирологов XIX века (Берлиоз – Чайковский – Верди), пожалуй, наиболее сумел приблизиться к Шекспиру именно Верди.118 119 Две редакции ;/«Макбета» (1847 и 1865), «Отелло» (1887) и «Фальстаф» (1893) являются этапами в творческом пути гениального европейского музыкального драматурга к Шекспиру.
Старая редакция «Макбета» (либретто Пиаве) относится к первому периоду творчества Верди. Она была написана
между «Аттилой» и «Разбойниками» (по Шиллеру). Верди достигает в ней большой драматической силы. Особенно впечатляют «бриндизи» леди Макбет и финалы I и II актов. Текст либретто довольно точно следует за шекспировским. Уже в этой редакции «Макбета» отчетливо проступают реалистические тенденции Верди, весьма новаторские для итальянской оперы. Характерно письмо композитора, адресованное неаполитанскому импресарио120 и датированное 1848 годом, по поводу сценического воплощения «Макбета» и исполнения главной женской партии певицей Тадолини: «У Тадолини добрая, красивая внешность, а я хотел бы видеть леди Макбет злой и наводящей ужас. Тадолини поет в совершенстве, а я хотел бы, чтобы леди не пела. Тадолини обладает голосом восхитительным, чистым, прозрачным, мощным, а я хотел бы для леди голос резкий, прерывистый, мрачный. Голос Тадолини имеет в себе нечто ангельское, – я хотел бы, чтобы в голосе леди было нечто дьявольское. Выскажите эти соображения антрепризе, маэстро Мерка-данте». Нечего и говорить, как далеки эти требования от традиционного для тогдашней итальянской оперы виртуозного «концерта в костюмах».
К тому же периоду (судя по письму к Мочениго, даже к более раннему времени – к 1843 г.) относятся и первые замыслы оперы «Король Лир». В середине 50-х годов Верди переписывается по этому поводу со сценаристом Сомма, причем для роли Делии (Корделии) предназначается певица Мариетта Пикколомини, одна из лучших исполнительниц главной партии в «Травиате». Партия шута (названного в либретто Микой) должна была стать развитием и в то же время своеобразным контрастом образа Риголетто (без его злобы и демонической мстительности). Корделия и Эдмунд– по гипотезе Истеля – психологически и музыкально предвосхищали Дездемону и Яго из много более позднего «Отелло». В духе эпизода с Уголино из Данте была задумана остро драматическая сцена в темнице и рассказ Корделии о страшном, предвещающем смерть, сне. Верди отложил работу над «Лиром», по словам мемуаристов, будто бы отступив перед исключительными трудностями достойного Шекспира музыкального воплощения сцены Лира в степи. По-видимому, кое-что из музыки к «Лиру» было написано; так, большая часть каватины Корделии впоследствии вошла в партию Леоноры из «Силы судьбы» (имеем в виду вторую сцену I акта).
Гениальными воплощениями Шекспира являются две последние оперы Верди (на высококвалифицированные в литературном и драматическом отношениях либретто Арриго Бойто) – «Отелло» и «Фальстаф». В музыкальном оформлении «Отелло» Верди имел предшественника в лице Россини; III акт его оперы с романсом об иве и песней гондольера на слова Данте «Nessun maggior dolore» – действительно весьма замечателен. Но шедевр Верди затмил Россини. Семидесятичетырехлетний композитор создает подлинно реалистическую музыкальную драму, в которой действие неуклонно движется к трагической катастрофе. Сцена бури, все монологи Отелло (во II—III актах), весь IV акт– все это в самом точном смысле достойно Шекспира и по потрясающему музыкальному реализму действительно близко ему.| /Лишь образ Яго (впрочем, изумительный в музыкальном отношении – вспомним его «бриндизи» I акта, его сатаническое «Кредо», его гениальный C-dur'ный рассказ о сне Кассио) несколько байронизирован в своем трагическом великолепии.
Не менее замечателен, «Фальстаф» – последний театральный опус Верди – произведение гениальное, веселое и просветленно мудрое...
Так Верди, завершая тернистый и долгий творческий путь, преодолев романтическую мелодраму в духе Гюго и его испанских подражателей (Гутьерреса в «Трубадуре» и «Симоне Бокканегра», герцога Де Риваса в «Силе судьбы»), сумел к концу жизни вплотную подойти к величайшему мировому драматургу-реалисту и с равной гениальностью воплотить в музыке и трагедию и комедию Шекспира. Наиболее объективно раскрыть Шекспира средствами музыки, пожалуй, Верди удалось в большей мере, нежели кому-либо из великих музыкальных мастеров XIX века.
5
После «Фальстафа» (1893) западноевропейская музыка не дала ни одного мало-мальски значительного произведения на шекспировские темы. Оно и закономерно: титанический реализм Шекспира не по плечу современной буржуазной музыке. Композиторам импрессионистского, конструктивистского, экспрессионистского направления с Шекспиром не по пути. Шекспира не перескажешь музыкальным языком «Пеллеаса» Дебюсси, «Эдипа» Стравинского или «Воппека» Альбана Берга.
К сожалению, мало отражен Шекспир и в советской музыке. Пока еще не появились оперы и симфонии на шекспировские темы. Наиболее крупное произведение этого плана– балет «Ромео и Джульетта» Прокофьева. Партитура обеих сюит из балета очень эффектна и изобилует интересными оркестровыми находками. Ярка, остроумна, пластична музыка Шостаковича к «Гамлету» в театре Вахтангова. Много удачного и в музыке Хренникова к «Много шуму из ничего»...*
А между тем работа над Шекспиром раскрывает перед советскими композиторами увлекательные перспективы. Шекспировские характеры, страсти, драматические коллизии, юмор, трагические монологи и буффонады – все это, бесспорно, поможет нашим композиторам в их борьбе за музыкальный реализм. Опыт классической музыки, давшей столь значительное число шекспировских партитур, должен быть бережно изучен. Конечно, работа над Шекспиром трудна, она потребует от композиторов не только мощных выразительных средств, но и способности драматургического перевоплощения. Во всяком случае, нашим композиторам, как и нашим драматургам, вполне может быть переадресован мудрый совет Энгельса: посчитаться немножко больше
с Шекспиром в истории развития драмы.
СТЕНДАЛЬ И МУЗЫКА 1
«. . .Моя любовь к музыке.. . была, может быть, самой сильной и самой дорого стоящей страстью; я сохранил ее еще в пятьдесят два года, и сейчас она сильнее, чем когда– 121
либо. Не знаю, сколько миль прошел бы я пешком или сколько дней просидел бы в тюрьме, чтобы послушать «Дон-Жуана» или «Тайный брак»; не знаю, ради чего другого я совершил бы такие усилия».121
Так характеризует Стендаль свои музыкальные пристрастия. И дальше – с небольшой вариацией:
«Чтобы присутствовать на представлении хорошо исполненного «Дон-Жуана», я прошел бы десять миль пешком по грязи, – а это я ненавижу больше всего на свете. Когда кто-нибудь произносит хоть одно итальянское слово из «Дон-Жуана», у меня тотчас же возникают нежные воспоминания о его музыке и овладевают мною.
У меня остается лишь одно сомнение, но не очень понятное: нравится, ли мне музыка, как знак, как воспоминание о счастье юности, или сама по себе?» 122 123
И, наконец, в известном проекте собственной эпитафии на «небольшой мраморной дощечке в форме игральной карты» должны были быть вырезаны следующие знаменательные слова:
«Эта душа обожала Чимарозу, Моцарта и Шекспира».124
После этих экзальтированных признаний вряд ли покажется удивительным, что в литературе Стендаль дебютировал как автор (или переводчик, или компилятор – об этом ниже) книг о музыкантах.
« В 1814 году, когда он (здесь Стендаль пишет о себе в третьем лице. – И. С.) понял, что такое Бурбоны, он пережил два или три мрачных дня. Чтобы рассеяться, он взял переписчика и продиктовал ему исправленный перевод одной итальянской книги: «Жизнь Гайдна, Моцарта и Метастазио», том in 8, 1814».125
Книга эта появилась в Париже под следующим названием: «Письма, написанные из Вены в Австрию, о знаменитом композиторе И. Гайдне, сопровождаемые жизнеописанием Моцарта и рассуждениями о Метастазио и о современном состоянии музыки во Франции и Италии». Изобретательный на псевдонимы, Стендаль пометил автора именем Луи-Александра-Сезара Бомбе.
В 1824 году, на этот раз иод каноническим псевдонимом Стендаля, выходит в Париже двухтомная «Жизнь Россини». С прославленным маэстро, в те годы – европейски известным автором «Танкреда» и «Севильского цирюльника», – Стендаль лично познакомился в Италии в 1819 году. Книга имела успех, бойко раскупалась и несомненно сыграла роль в окончательном утверждении репутации Россини во Франции. Последнее, впрочем, было делом нетрудным: Россини менее всего была свойственна позиция непризнанного новатора; мода на него распространялась во Франции с молниеносной быстротой; и Стендаль, таким образом, в своей апологии «лебедя из Пезаро» лишь плыл по течению, комментируя симпатии парижан рядом остроумных замечаний и анекдотов. Отсюда бесспорный успех книги о Россини, по собственному признанию Стендаля,– единственный читательский успех, который ему пришлось пережить при жизни.
2
Определить специфическое очарование книг Стендаля о музыке довольно трудно; не удивительно, что многие читатели-музыканты закрывали их с чувством некоторого разочарования. В них нет прежде всего целостной литературнофилософской концепции музыки: этим они принципиально отличаются от книг типа «Жана-Кристофа» Ромена Роллана, или – совсем в другом плане – от «Поисков утраченного времени» Марселя Пруста, где Скрипичная соната и Септет Вентейля являются ключом для понимания существенных сторон прустовского мира. Нет у Стендаля и оригинального литературно-психологического истолкования какого-либо музыкального шедевра, как это сделал, скажем, Ницше в отношении «Кармен» Бизе или парадоксальный датчанин Сёрен Киркегор – в отношении моцартовского «Дон-Жуана». Еще менее свойственна Стендалю та разновидность образно-поэтического фантазирования на музыкальные темы, которая создала известность музыкальным новеллам Гофмана или Одоевского. Таким образом, Стендаль как будто не примыкает ни к одному распространенному типу писателя, избравшему темой музыку или музыканта.
Если строго определить жанр сочинений Стендаля о Гайдне, Моцарте, Россини, – перед нами «анекдотические биографии», притом переводно-компилятивного характера. Правда, сам Стендаль, по-видимому скорее из мистификаторской игры, нежели корыстных соображений, запутывает вопрос об источниках. Жизнеописание Моцарта снабжается вводным письмом, где работа аттестуется как перевод с немецкого оригинала Шлихтегролля. В действительности, как это выяснил Даниель Мюллер,1 произведение Стендаля имеет весьма мало общего со статьей о Моцарте Шлихтегролля, опубликованной во II томе «Некрологии» в 1793 году. На самом деле Стендаль почти дословно использовал брошюру Винклера «Биографическая заметка о Иоган-не-Хризостоме-Вольфганге-Теофиле Моцарте» (Париж, 1801), правда, в свою очередь кое-что позаимствовавшего у Шлихтегролля, – и затем брошюру Крамера «Тридцать два анекдота о Моцарте» (тоже 1801 г.). Это касается семи глав, составляющих «первое письмо» о Моцарте. Второе принадлежит целиком Стендалю и является глубоко индивидуальным выражением его музыкальных симпатий.
Еще больший интерес представляет история с «Жизнеописанием Гайдна», вызвавшая длинную и достаточно скандальную полемику с обвинением Стендаля в плагиате. Источником на этот раз явилась книга итальянца Джузеппе Кар-пани – «Le Haydine ovvero lettere su la vita e le opere del celebre maestro Giuseppe Haydn», вышедшая в 1812 году. Ромен Роллан, проделавший кропотливую работу по сравнению жизнеописания у Карпани и Бомбе (Стендаля), пришел к выводу, что из 298 страниц Карпани 200 были списаны Стендалем, что последний заимствовал у Карпани и форму писем, и биографические данные, и все исторические сведения (история симфонии, история церковной музыки и т. д.), все музыкальные разборы, критические суждения о музыканте, и даже эпизоды, относящиеся лично к Карпани, которые Бомбе-Стендаль без малейшего смущения переадресовал себе. Не удивительно, что Карпани поднял вопль о беззастенчивой литературной краже, и разгорелась ожесточенная полемика, которая тянулась с 1815 по 1824 год. Мы не будем излагать содержания многословных и эмфатических писем злополучного Карпани.126 127