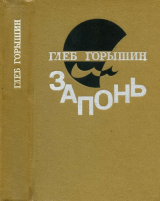
Текст книги "Запонь"
Автор книги: Глеб Горышин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц)
Глава одиннадцатая
У Гошки рано прорезались морщины на щеках, к двадцати семи годам обозначился в нем мужик – начальник производственного отдела в сплавной конторе. Дома он ночевал через две ночи на третью. То в Сигожно его отправлял отец, на запонь, то на участки, то на завод. Жил Георгий с семейством в отцовском доме – большой избе в пять окошек, фасадом на Вяльнигу. Отец поделил избу шестой стенкой. Два окошка сыну отдал, три оставил в родительской половине.
В глубине усадьбы, за полосой картошки, построили кирпичный гараж, там находился Гошкин мотоцикл с коляской и еще семейная «Волга». Страсть к машинам старшего Даргиничева передалась и младшему. Под окнами у причального плота стояла на Вяльниге Гошкина лодка с шестисильным мотором. По веснам в сплавное время тут же швартовался директорский дизельный катер. Не катер даже – озерный теплоход. Для плавания по маленьким речкам директор имел водометный катер. Контору от директорской усадьбы отделял забор. Уклад директорской жизни и Гошкиной жизни не распадался на служебное и домашнее время.
В семействе Даргиничевых не работали только Гошкины пацаны. Все вместе сходились по праздникам за столом да иногда смотрели телевизор. Гошка отгрохал такую антенну, что телевизор его, единственный на Вяльниге, принимал даже футбольные матчи из Лондона. Футбол он смотрел, хоккей, балет на льду. Все остальное не нравилось Гошке. Особенно раздражала его Эдита Пьеха.
Ходил он зиму и лето в пропитанных дегтем кожаных сапогах, в суконной кепке с длинным козырьком. Всегда во рту у него дымилась папироса «Беломорканал». Улыбался Георгий редко, насупленный был мужик, жилистый, сутуловатый. Ростом не вышел в отца и статью не вышел. Тонкая шея была у Гошки. Да и как же ей потолстеть? Чуть выдавалась Гошке минута, он опоясывался патронташем – и в лес, на болото. В холодильнике у Даргиничевых всегда томились чирки, бекасы, гоголи, весной – глухари и гуси, зимой – зайцы, тетерева. Алевтина Петровна корила сына: «Кому они нужны? Кому есть время возиться с ними, щипать да палить? Целые дни все на службе».
Первого медведя Гошка убил в пятнадцать лет, на маленьком овсяном поле под Нергой. Он не мог его не убить, потому что не торопился, неделю прожил в лесу; сам стал как медведь-пестунок: все чуял, слышал и не мешал большому медведю чавкать ночами в жидких реденьких овсах. Посеять-то овес посеяли, до жатвы руки не доходили. В давнее время вепсы выжгли в лесу прогалок, по гари родилось жито. Удобрить поле было нечем. Поле значилось в списке пахотных площадей, пахали его, а после гуляли по нему медведи.
Когда взрослые мужики отправлялись караулить медведя на лабаза, построенные высоко на елях, Гошка, пацан, усмехался: «Вряд ли придет». Мужики уходили поздно, к заходу солнца, Гошка знал, что медведь уже там, притаился где-нибудь на опушке. Мужики ломились к своим лабазам краем поля, и Гошка чувствовал превосходство над ними: «Разве так ходят? Медведь сначала следы все разнюхает, потом овес будет исть».
С детства Гошка воспринял деревенский северный говор, сильно окал. Отец его кончил только два класса, но язык его обкатали активы, собрания, семинары, газеты и радио. Гошкин язык не поддался десятилетке и Лесной академии...
Когда после академии он приехал в Вяльнижскую сплавную контору инженером с дипломом, отец отправил его на делянку лес валить, затем посадил на трелевочный трактор, еще шофером поработал Георгий на лесовозе и мастером на сплавном участке в Островенском.
– Пущай инженер потрется среди народа, – говорил директор сплавной конторы, – успеет еще в кабинете штаны просидеть. Народ хороший у нас. Трудолюбивый народ. Пущай потрется.
Только на третий год он взял сына в контору начальником отдела.
Работник вышел из Гошки неутомимый, упрямый, хоть кол ему на голове теши, по-своему делал. Пьяниц гонял без пощады, сам в рот спиртного не брал. Но шея его оставалась тонка. И частенько он забывал, что начальник, что нужно ему подымать людей на работу и строго взыскивать, чтобы боялись. Это не выходило у младшего Даргиничева, не унаследовал он отцовский характер.
Отец посылал его в Москву, в министерство и в комбинат – на семинары, активы. «Пущай потрется среди начальства», Но Гошке не прививались начальственный тон и манеры. Терялся он в отцовской компании. Помалкивал за столом: чего говорить, все равно же отцово последнее слово.
Будто в тени, в затишке вырос Георгий Даргиничев. Все солнце обрушилось на отца, все дожди и ветры. Гошка жил за отцовской спиной. Тем же морозом его калило, той же работе он научился, которую делал отец, но не хватало ему какого-то витамина. Ни трудолюбие Гошки, ни строгость его и скромность, ни готовность подставить плечо, если туго, не подымали Гошку до отцовского роста. Что бы ни делал он, говорили: «Отец приказал». Отцова рука направляла всю Гошкину жизнь. И легче это было Гошке, и, может быть, тяжелее. Все сравнивали его с папашей: «Одна порода, а хватка не та, другого калибра парнишка...»
Может, и обидно бывало Гошке всегда состоять при отце. Но так получилось, вся Гошкина воля слилась с отцовской, не отличить со стороны. Вся Гошкина гордость питалась отцовской славой. Парень он гордый был, и похвастать не прочь. Где-нибудь у костра на охоте только его и послушать.
– ...Однажды батя зарплату понес на Шондигу на участок, – рассказывал Гошка. – Дорогу снегом завалило, и на лошади не проедешь. Два месяца зарплату не выдавали. Деньги батя в полевую сумку положил.
На валенки у него галоши надеты – в марте это было, уже подтаивало днем. На Шондиге заключенных работал отряд, на лесоповале. Урки, бандиты всякие. Кто-то им сообщил, что директор с деньгами едет. А они не знали его, их привезли недавно. Трое смотализь из-под конвоя, вечером на дороге поджидают. Он идет, а они на него. У каждого по дрыну в руках здоровому. «Деньги давай!» – «Сейчас, ребята, – он им говорит, – они в галоше у меня, сейчас галошу сниму». Они ждут, думают, деваться-то ему некуда. Вот он нагнулся, галошу снял да этой галошей по морде тому, что ближе стоял, подзаехал. Потом и других давай метелить по чем попало. Бежать им нельзя, снег глубокий. Он их в кучу свалил и речугу им толкнул. Провел воспитательную работу. «Это вам, – говорит, – повезло, что вы на меня нарвались. До преступления дело не дошло. Бежать вам тут у нас все равно некуда. Как цуциков бы переловили и вкатали по первое число. А я вам, – говорит, – добра желаю. В ваших руках, – говорит, – загладить свою вину. Будете работать как положено, оставим это дело без последствий. А ушкуйничать начнете, то пеняйте на себя...» С тех пор ничего такого не повторялось. Поняли, с кем дело имеют...
О бате рассказывал Гошка и еще о себе. Хотелось ему быть похожим на батю, найти в своей отроческой жизни это батино удальство.
– На втором курсе у нас собирали команду на первенство академии по борьбе. В полусреднем весе некого было выставить, дак... меня попросили: «Давай, парень здоровый, из лесу приехал». Я на тренировки пару раз сходил... Некогда было. К сопромату готовился... Ну, выхожу на ковер. Противник ростом выше меня, но жидкий, видать, городской. В партер мы свалились, он полунельсоном меня взять пытался, а я думаю, не на того попал. Силенок у тебя маловато. Судья нас в стойку поднял. Я его на бедро подцепил, очко заработал. Потом еще пару приемов провел. По очкам выиграл. Больше не стал ходить. Вижу, зря только время тратить...
А еще команду по стендовой стрельбе комплектовали у нас на первенство общества «Буревестник», – рассказывал Гошка. – Мне говорят: «Давай попробуй». Я согласился. Пришел на стенд, гляжу, ребятишки все ушлые, перворазрядники есть, по нескольку лет занимаются. Пуляют в белый свет, как в копеечку. Ладно, думаю, дожидаю своей очереди. У нас в Вяльниге стенда нет, по тарелочкам мы не бьем, а только в лесу по птицам всяким, по шапкам, по гильзам. Шапку у любого возьми, как решето продыравлена. Моя очередь подошла, я кричу: «Дай!» И обе тарелочки расколошматил. С первого же раза второй разряд выполнил. Тренер говорит: «Давай занимайся серьезно». А я сходил пару раз, думаю, ерундовое дело. Только зря время переводить...
Застенчивый, тихий был Гошка, но с гонором. Хотелось ему выделяться, хотелось смелых мужских поступков, серьезной жизни. Отцова порода в нем говорила. Не робкий он был, но храбрость его выходила иная, чем батина храбрость. Однажды на срывке леса на Сярге забрался он на самый высокий штабель. Штабель плохо зимой сложили, держался он на живую нитку. Боялись к нему подступиться. Гошка бревно наверху колом поддел, штабель рушиться начал. Все, кто тут был, зажмурились, смертью запахло. Бревна посыпались в реку, как камни с обрыва. Никто и не видел, куда подевался Георгий Даргиничев. Он в речку махнул с шести метров. На берег вылез живой. Смеялись потом над ним: «Шустрый, как выдра...»
Отец был спокоен за Гошку: трудолюбивый парень и небалованный. За хозяйство свое, за сплав, заготовку и за завод беспокоился старший Даргиничев: «На пенсию уходить, а кому оставишь?» На приезжих специалистов надежды он не имел. «Ладно, потянем пока, – говорил себе Степан Гаврилович, – пущай Георгий ума наберется. Производственный опыт у него есть, с работой он шутки шутить не будет. Пущай проходит науку, пока еще у меня есть силенка. Лучших учителей ему все равно не найти. А там будет видно».
Глава двенадцатая
1
На Первое мая Даргиничева пригласили в город – нести через площадь знамя области. Так и прошел он впереди колонны – один. Блестела его геройская звездочка, серебрилась голова. День выдался солнечный, теплый. Оркестры играли для Степы. Степа знамя держал высоко, силенок ему хватало. Старости он не чувствовал, – знаменосцы старыми не бывают. Один шел Степа, как победитель на стадионе. За Степиной спиною гудела толпа. Всегда он шел первым, за ним тянулся народец. Нравилось Степе вот так идти на виду. Молевой сплав закончили нынче к Первому мая. Генеральную запонь за два часа поставили, по чистой воде. Верховой лес переборами придержали. Сплавные речки – Сяргу, Кыжню, Шондигу, Нергу – плотинами зарегулировали. Сколько нужно было для сплава воды, столько они и давали. Новый мост через Вяльнигу льдами подперло – Даргиничев быстро распорядился водометный катер на сани погрузить. Трактор приволок его к мосту, на реку скинули, катер пошел шуровать, растолкал все льдины. В сжатые сроки организованно провели молевой сплав. Так написали в районной газете, в передовой. Вместо себя Даргиничев сына оставил – без выходных на весь праздник.
Телевизионная камера наезжала на знаменосца. Степа не глядел в объектив, но разворачивал грудь, высоко подымал подбородок, думал, что дома видят его сейчас. И еще хотелось, чтобы увидели на улице Стрепетова. Где эта улица, Степа не знал, только адрес записан был у него в книжечке. Адрес ему сказала Полина Бойцова, Сергея Иваныча жена, начальника лесопункта в Афониной Горе. Дольше всех девушек сорок первого года задержалась Полина в Вяльниге. Счетоводом работала в конторе; Серега Бойцов вернулся с фронта в сорок четвертом году, однорукий. Первую свадьбу сыграли не по-заячьи в кустах, а как положено у людей, по закону. Макар Тимофеевич Гатов печатью ее скрепил.
Когда пришла телеграмма от Нины Нечаевой, осенью, в октябре, Степан Гаврилович собрался съездить в Афонину Гору. Надежда была у него на Полину Бойцову. Могла же она что-то знать о Нине Нечаевой. Обратного адреса не было в телеграмме. В общую пачку поздравительных посланий Даргиничев эту телеграмму не положил, жена могла прочитать. Ей рассказали про Нину. Нашлись языки. Этого жены не забывают. Мужики забывают, не помнаят даже имен. А жены их помнят. Даргиничев носил телеграмму от Нины в бумажнике, вместе с удостоверением Героя Труда. Он думал о Нине – четверть века прошло, а вот же, вспомнилась эта ночка: лунный свет на полу и скребущий рев немецкого самолета. Будто давнюю фотокарточку в шкафу отыскал: молодого его снимали, другой человек, а приятно найти в нем себя. И тревожно.
В Афониной Горе Даргиничев управился с делами на лесопункте, вечером пил чай с молоком в доме Сергея Иваныча. Полина потчевала директора ватрушками с черникой и с картошкой.
– А помнишь, Полина Васильевна, – благодушествовал уставший за день директор, – каких вас к нам привезли в сорок первом году? Ужас! Только на конском мясе вы и выходились. Хорошо, конина нашлась под рукой, а то бы просто не знаю... Да...
– Как не помнить, Степан Гаврилович. Такое не забывается.
– А ни с кем не переписываешься из тогдашних подружек? Я раз в городе в парикмахерскую зашел подстричься, в кресло сажусь, парикмахерша – такая дамочка лет сорока. «Здравствуйте, – говорит, – Степан Гаврилович. Я вас узнала. Я у вас в лесу работала в сорок втором году». От же, ей-богу, какие встречи бывают...
– Переписываемся, – сказала Полина Бойцова. – Некоторые в гости к нам приезжают. Брусники, грибов у нас завались. Вот прошлый год Нина Игнатьевна приезжала. Нестеренко. Тогда-то она Нечаева была, Нина Нечаева... Щупленькая такая, как воробей, А сейчас она главврачом в поликлинике. Вот диссертацию должна была защищать нынче летом. Обещалась написать, да что-то молчит. Может, не выгорело у нее с диссертацией...
– У нее выгорело, – сказал Сергей Иваныч. – Серьезная женщина. Времени в обрез дак... Вот и не написала.
Даргиничев улыбался. В приоткрытом рту его блестел благородный металл.
– Зашли бы ко мне в контору, – сказал. – Покалякали бы, есть что вспомнить. Что вспомнить – есть. Из тогдашних бедолаг нас тут всего ничего и осталось: вот Полина Васильевна да я, Петр Иваныч Устриков – тот совсем уже старичок. Выпьет рюмочку и еле можаху... Да вот еще Макар Тимофеевич Гатов. Этот еще молодцом, рыбку ловит у себя под Островенским... Я как-то из лесу ехал, замерзши, дай, думаю, заверну к деду на огонек. Хозяйка его говорит: «Он мережи трясти ушоццы...» Да. Приходит, полный пестерь у него сигов. Вот мы их спекли на ольховом жару – пальцы облизали... Ужас до чего вкусная рыба...
– А вы-то помните Нину Игнатьевну, Степан Гаврилович? – спросила Полина Бойцова.
– Да где ему всех вас упомнить, – хотел уберечь Сергей Иваныч директора от скользкого этого разговора.
– Помню, Полина Васильевна, – сказал Даргиничев и поглядел ей в глаза своим прямым, немигающим взглядом. – Как не помнить.
– Дочка у нее. Сорок третьего года рождения. В Свердловске она родилась. Нина там поступила учиться в медицинский, и работать пришлось, да еще с малым дитем. Это в войну-то. Пришлось ей, бедной, помыкаться. Рассказывала она – это целый роман. Ну, правда, не жаловалась. Характер у нее легкий. Другие начнут свои горести да болести расписывать, а эта все принимает как есть. Серьезно к жизни относится, манны небесной не ждет. Муж у нее был летчик, в больших каких-то чинах, полковник, что ли, – Нестеренко... После войны он разбился, задание выполнял. Хватила она горюшка. Хорошим людям редко когда пофартит... Ну, правда, сейчас-то она хорошо живет материально. Квартира у нее отдельная. Мы вон с Сергеем Иванычем ездили раз в Молдавию к его сестре двоюродной, ночевали у нее. Телевизор, холодильник – все есть, гарнитур финский куплен. Живет – не нам чета, зимогорам. Дочке она кооператив купила, однокомнатную квартиру. Дочка отдельно живет. На самолетах она летает в Копенгаген да Амстердам. Как это должность-то у нее?
– Стюардесса, – с готовностью подсказал Сергей Иваныч. Даргиничев внимательно слушал, лицо его не выражало особого интереса или волнения, а только доброту хорошо поработавшего, уверенного в себе человека, пришедшего с холодной улицы в теплый, семейный дружеский лом.
– Ну, а как хозяин-то твой, Полина Васильевна, – сказал Даргиничев, – лишку-то не закладывает? Он мне но телефону звонит, я уж по голосу знаю, сколько он принял. Петушком запоет.
– Только раз и было, на День лесоруба, – заерзал на стуле Сергей Иваныч.
– Прямо... День лесоруба. Да они тут повод всегда найдут. Одно на уме... Хоть вы его приструните, старого дурня, Степан Гаврилович. Нельзя же ему. Ноги у него больные. Облитерирующий эндартериит... И язык-то сломить, какие нынче болезни пошли. Это
Нина Игнатьевна ему диагноз поставила. Лекарства нам высылает.
– Смотри, Сергей Иваныч, – сказал Даргиничев, и не понять было, шутит директор или всерьез. – Водочку можно пить, когда ты ее сильнее, а когда она тебя пересиливать начнет, то лучше ее не трогать. А то один позор получается. Один позор... – Степан Гаврилович встал уходить. Спросил между прочим: – Адреса у вас Нины Игнатьевны нет, Полина Васильевна? Телеграмму она мне прислала, с наградой поздравила. Нужно бы поблагодарить за память, да адреса обратного нет...
– Как не быть, – заспешил Сергей Иваныч. – Ну-ка, хозяйка, где он у тебя? На полке, что ли?
– Да уж сиди, найду без тебя, да и так я помню его, слава богу: улица Стрепетова, дом тринадцать, корпус три, квартира триста пятьдесят два.
Даргиничев записал себе в книжку, за руку попрощался с хозяином и с хозяйкой.
2
Длинная была площадь. Даргиничев высоко поднимал тяжелое древко знамени и стал уставать. Дрожь в руках появилась, и сердце заныло. Что ни говори – шестьдесят лет. Если б каждый год не подправляли в Кисловодске Степино сердце, неизвестно, что бы с ним сталось. Пот застилал глаза знаменосцу, уши будто ватой заложило – гул трибун, колонн, звук оркестров доносились до него теперь глухо, издалека.
Когда у него приняли знамя, он даже не разглядел, кому отдавал. Пошатывало Даргиничева. Выходы с площади в пыж забило толпой. Еле машину свою отыскал. Долго платком отирался. Шофер Володя совсем заскучал в людской круговерти. На первом же перекрестке он что-то сделал не так. Номер на машине был областной, чужой для автоинспекции. Лейтенант забрал Володины документы. Володя стушевался перед инспектором. Он ездил всегда по лесным дорогам, город его напугал.
Степан Гаврилович вышел из машины, возвысился над лейтенантом, как божья гроза. Велюровая шляпа была на нем, пальто серого габардина распахнуто, золото на груди.
– В чем дело? – спросил.
Лейтенант сказал, что здесь проезд запрещен, знак повешен.
– Почему не приветствуете? – Сталь прозвучала в директорском голосе. Раздался он свысока, как с трибуны, из радиорупора. – Я депутат областного Совета. Почему не приветствуете, товарищ инспектор?
Рука лейтенанта взлетела к козырьку.
– Извините, товарищ депутат.
– Предъявите ваш документ, – потребовал Даргиничев.
Вместе с лейтенантовой красной книжечкой забрал он также и Володины бумаги. Лейтенант все держал руку у козырька.
– Нате возьмите, – сказал Степа. – Занимайтесь своим делом. Можете идти.
– Слушаюсь, товарищ депутат, – сказал лейтенант.
Опять отирал Даргиничев пот с лица.
– Вот так с ними надо, – сказал Володе, – с этими блюстителями порядка. Им только чуть-чуть поддайся – они тебя разделают под орех.
Володя счастливо сиял. Хорошо шоферу с таким хозяином. Ехали они, ехали, и толпа не кончалась, не убывала, розовые шарики летали в воздухе. Володя спрашивал у прохожих, где улица Стрепетова, но никто не знал этой улицы.
3
...Всю зиму Даргиничев собирался письмо написать Нине Игнатьевне Нестеренко. Но что писать? Для чего? Беспокоился Степа, и поделиться не с кем. К Макару Тимофеевичу Гатову ездил в Островенское, но тот весь в мережах своих погряз, деревенским стал дедушкой. Не советчик. О дочке думал Степан Гаврилович. Если она рождения сорок третьего года, то что же выходит? Степан откладывал на пальцах месяцы с апрельской той ночи... Однажды он видел во сне, что летит в Копенгаген. Так и сказали по радио: «Следующая остановка – Копенгаген». И девушка-стюардесса при всем народе села к нему на колени, спросила: «Папа, тебе что принести, нарзану или боржому?»
Рассказать этот несусветный сон за семейным столом Степа не мог. И бумажник, в котором хранилась Нинина телеграмма, всегда носил при себе: мало ли что взбредет хозяйке на ум? Секрет появился в Степиной жизни. Он думал о стюардессах. Только этого не хватало. Видел их, летал в Кисловодск. Проплывали они, как тучки в иллюминаторе. Жизнь их казалась далекой и непонятной, как город Копенгаген. И вот ведь, поди ж ты... Вдруг рядом летели с дочкой родимой? И обед она подавала... «От же, ей-богу, черт знает что...»
Степа успокаивал себя тем, что Нина могла мужа себе подхватить с ходу, в сорок втором году. Летная часть какая-нибудь стояла в Свердловске... Но это задевало, обижало его: «Не могла она так вот сразу, после меня. Не такой человек».
Во второй половине жизни круг Степиных интересов, забот и мыслей обозначился четко: сплавная контора, семья и ее непременное место в президиуме, в первом ряду. Даргиничев принял как должное знаки почести, славу, в компании он любил теперь поговорить в международном масштабе, имел свою точку зрения на Китай, на войну во Вьетнаме и ближневосточный конфликт. Отношения его с миром были просты и прямы, без задних мыслей и колебаний.
Всю зиму Степа не мог решиться сесть за письмо на улицу Стрепетова. Хотелось ему иногда вырвать листок с этим адресом, кинуть в Нергу или Сяргу. И – вон из сердца. Было – быльем поросло. Когда его известили, что Первого мая обком поручает ему быть знаменосцем на демонстрации, он вдруг собрался и написал: «Уважаемая Нина Игнатьевна! Спасибо за вашу поздравительную телеграмму. Сразу не мог вас поблагодарить, не знал адреса. Адрес мне сообщила Полина Васильевна Бойцова. Оказывается, вы бывали в наших краях. Не забываете, значит. Спасибо за память. Хотелось бы повидать вас, какая вы стали. Я хорошо помню, какая вы были в сорок первом году. Прошла целая вечность. Первого мая я буду в городе, обком партии доверил мне нести знамя области на демонстрации. Если у вас найдется время и желание, можно бы встретиться, где вы назначите. Отпишите мне на сплавную контору. С уважением к вам Степан Даргиничев».
Вскоре пришел ответ от Нины Игнатьевны...
«Слишком разно сложились наши жизни, – писала она, – и может быть, лучше нам не встречаться. Пусть все останется в памяти так, как было. В жизни ничто не происходит просто так. Все имеет свои корни, потом из них вырастают ветви. Мы не можем предвидеть последствий наших юношеских поступков, но в зрелом возрасте нам никуда от них не уйти.
В войну мне казалось, – писала Нина Игнатьевна, – что нужно отречься от жизни и только драться, жить только ненавистью и боем. Вначале вы представлялись мне врагом – человек, не участвующий в схватке с оружием в руках. И только живя рядом с вами, я поняла, что древо жизни не может быть срублено даже в годину смертельного боя. И нельзя выиграть никакую войну, если отречься от дела жизни. И ненужной станет победа, если люди разучатся любить.
Извините меня за эту доморощенную философию. Тут сказывается влияние моей дочки – она любит пофилософствовать. Наши дети совсем не такие, какими были мы.
Смотрите сами, Степан Гаврилович, – писала Нина Игнатьевна, – я вас приглашаю к себе. Хотя это может оказаться ненужным нам обоим. Мы слишком уже сложившиеся старые люди. Поздравляю вас с наступающим праздником и с заслуженной славой вашей. Не знаю, буду ли я в городе Первого мая. Если все-таки соберетесь меня навестить, предварительно позвоните...» Тут же написан был номер телефона Нины Игнатьевны Нестеренко.
Письмо пришло в апреле, когда ставили генеральную запонь. Директор жил в Сигожно трое суток. Георгий собрался ехать к нему, прихватил в кабинете почту. Домой завернул пообедать, кинул письма на стол. Все письма были по службе с комбинатскими штемпелями, а это сверху как раз оказалось. Алевтина Петревна взяла его в руки, поглядела на свет. Никогда она этим не занималась, а тут будто кто подшепнул. На кухню ушла, конверт разорвала, прочла и первым делом сожгла поганую эту бумажку.
Степан Гаврилович вернулся со сплава веселый, все ему удавалось в этом году, как по маслу прошло. Алевтина Петровна не вышла встречать его, брякала чем-то на кухне. Только Гошкины ребятишки полезли на руки к деду. Он целовал их, чмокал, подкидывал к потолку. Алевтина Петровна схватила ребят, увела на сыновнюю половину.
– Хотя бы детей не касался, – кричала она на мужа. – Знаменосец нашелся. Дак вот он зачем в город. Та цену себе набивает, выпендривается, а этот и слюни распустил...
Удивила Степана Гавриловича молодая ревность в его старухе. Тридцать лет прожили... «От же, ей-богу, дурья башка, было б с чего...»
Насупился Степа и рявкнул на жену:
– Не твоего ума дело. Пей чай... Чай пей, тебе сказано. И не суйся, чего не понимаешь.
Картошку он сам себе жарил. Кипятил электрический самовар.
4
По дороге в город Даргиничев завернул в рыбацкую бригаду. Ему принесли в машину лососку килограммов на восемь. С этой лосоской в руках он и вышел из машины на улице Стрепетова, у дома номер тринадцать. «От же, ей-богу, – подумал, – номер-то несчастливый...»
Земля разворочена вся была бульдозерами – хляби, болото. Нигде ни кусточка. Дощатые мостки настланы, оступишься – и пропал. Дома поставлены как попало, найди тут, который из них третий корпус. Серые, голые все. Сотни окон зияют, и будто за окнами нет ничего. Нежилая какая-то местность. «От же люди живут, – думал Степа, – я бы не смог».
Плутал он в каменном этом лесу. Ребятишки ему помогли. Обступили его, глядели завороженно на Степину грудь, на Золотую звездочку.
– Дяденька, вы не космонавт? – спрашивали ребятишки.
– Да нет, куда уж, – улыбался Степа, – по возрасту не подхожу, а то бы слетал. Слетал бы.
– А за что вам дали Золотую звезду?
– В лесу я живу, – рассказывал Степа. – Лес рублю. Дом вот этот хотя и каменный, а без леса не построишь. Ни полов, ни дверей в нем не будет. И бумагу, и тетрадки, на которых вы в школе пишете, тоже из леса делают. И самолета не построишь без древесины. И вино тоже из леса гонят. Вот к празднику батьки ваши покупают вино... А я лесишко добываю. Как волк в лесу живу. Как волк. Работа разная у людей, одни в космос летают, другие лес рубят, а награда одна. Одна награда, если честно работать.
Ребятишки искали нужный Степе подъезд. Лифт поднял его до самого верху. Все возбуждение этого утра – площадь, толпа, оркестры, все неясные Степины молодые мечтанья, – все поднялось вместе с ним. Сердце в нем поднялось, горло перехватило. «И куда понесло дурака, – думал Степа, – на что понадеялся?» Он остановился у квартиры номер триста пятьдесят два, взял под мышку обернутую бумагой и перевязанную бечевой лососку, нажал на звонок...
Нина Игнатьевна изменилась, конечно, но первое, что увидел Даргиничев, это были ее глаза: зрачок в золотистом окружье. Глаза были те же, что четверть века назад, весною, на Сярге. И сразу сделалось Стене свободно, тепло.
– Здравствуйте, Нина Игнатьевна. Едва вас нашел. Спасибо, ребятишки во дворе помогли.
– Господи, да никак это Степа Даргиничев... По площади со знаменем шел такой важный, просто не подступиться... Что же не позвонил-то? Часом бы позже – и не застали меня. Я вам писала...
– Со сплава прямо, Нина Игнатьевна, – сказал Даргиничев. – Семеро суток не ночевал и в конторе не был. Почта неразобранная так и осталась лежать. Вода сей год высокая...
– Раздевайтесь, Степан Гаврилович, проходите. – Нина Игнатьевна улыбалась. Только эту улыбку и видел Даргиничев, другого старался не видеть. Хотя, конечно, схватывал, примечал. Женщина эта, совсем не старая женщина, ее квартира с низким потолком, картины, книги, сервант с хрустальной посудой, телевизор, портрет красивого полковника в летной фуражке... Жили в этом доме в достатке, всерьез, основательно жили. Даргиничев успокоился как-то. Он не любил неустройства и непорядка, когда у людей не сложился быт, раздергались нервы. Он думал, что это от лености, от неумения взять себя в руки. Слабости в людях он не терпел.
Разговаривать с Ниной Игнатьевной было ему легно. Вспоминали Полину Бойцову, Клаву Матюшину, Серафиму Максимовну Лунину. Хозяйка накрывала на стол, Степан Гаврилович говорил, что было попито, а теперь приходится воздерживаться, сердце не позволяет. Нина Игнатьевна возражала, что ради такого случая можно, встречаются-то они раз в двадцать пять лет... Да и коньяк расширяет сосуды...
Они говорили о Степиной красной рыбе, о вяльнижских грибах и бруснике, которые прислала Полина Бойцова, о гриппе, который вконец измучил весь город нынче зимой, и о чем-то еще, постороннем, не важном для них. Нина Игнатьевна жаловалась на низкие потолки в этих новых квартирах. Степан Гаврилович жаловался на рыбоохрану, которая не дает рыбакам жизни, хотя рыбы полным-полно – куда ей деваться? Они улыбались, в большом окне голубело майское небо без облаков. Полковник глядел на них со стены и будто прищуривался.
– Мой муж, – сказала Нина Игнатьевна, перехватив быстрый Степин взгляд в сторону полковника. – Наш папа... Улетел однажды и не вернулся. Он на самых летал быстроходных, на сверхзвуковых. Остались мы с дочкой без папы – две казанские сироты...
Степан Гаврилович не нашел, что сказать на это. Нечего было тут говорить. Легкий разговор о грибах, бруснике и вирусном гриппе закончился. Лицо Нины Игнатьевны погасло, сделалось незнакомым Даргиничеву.
– Дочка его любила, – сказала Нина Игнатьевна. – И страсть к этой авиации он ей внушил. Он был фанатик. Не мог жить без неба. И летать-то она пошла в память по Нестеренко. Чтобы к небу поближе. Стюардесса она у меня. Слово какое-то неприличное, до того его затаскали. Какое уж тут небо? Она его и не видит – завтраки да обеды пассажирам подает.
– Да... тоже тяжелая работенка, – сказал Даргиничев.
– Папу она любила, – сказала Нина Игнатьевна, – а вот похожа она на тебя... Нос у нее твой, Степа, и губы. В ней заложено какое-то безудержное своеволие. Что-то даргиничевское – бешеная она. Трудно мне с ней бывает, Степа, с дочкой твоей... Был сыночек у нас... На Дальнем Востоке мы жили, в Тернее. Энцефалитный клещ укусил. Умер мальчишка...
Слово «Терней» показалось знакомым Даргиничеву, а другого он будто бы и не слышал. В сердце вдруг появилась противная боль, и сумеречно стало в глазах. С ним это раньше бывало, но последние годы не повторялось: в Кисловодске его подлечили, режим Степан Гаврилович соблюдал и дома утром делал зарядку, не пил, не курил. Он боялся сердечной боли. Нынче все умирали от сердца...
– Что с тобой, Степа? Ты серый какой-то стал.
– Сердце прихватило. Пройдет, ничего...
– Приляг на диван, сейчас тебе принесу валидолу. Могу укол сделать, кордиамин ввести. Я же все-таки доктор. Даже кандидат медицинских наук...








