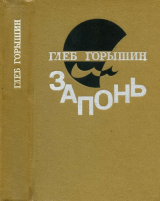
Текст книги "Запонь"
Автор книги: Глеб Горышин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 26 страниц)
Излука
Лучшие наши охотничьи угодья, камышовые плавни в устье большой реки, то есть в речной губе, объявили заказником сроком на десять лет. Если за десять лет утиное стадо не умножится в должной мере, то и запрет охоты, надо думать, продлят. Прежде здесь помещалась охотничья база, жил егерь, теперь – смотритель заказника, охотовед или, вернее сказать, птицевед, зверовед, рыбовед. Должность эту, как мне сообщили на пристани в Вяльниге, занял Игорь Лубнин, мужик молодой, но ученый, чуть ли не кандидат. Помощником у него работает Люда, жена.
В прежние годы я ехал сюда с ружьем и с путевкой в кармане, нынче приехал безо всего, просто так – с весной повидаться. Сначала на автобусе до Вяльниги, потом на пароходике, на речном трамвае, потом вдоль канала по берегу, по рушащейся, подмытой тропе... Уперся в речку-протоку Кундорожь и кричу, как бывало:
– Эге-гей!
На той стороне спускается к лодке новый в этих местах, незнакомый мне малый. Перевозит меня на свой берег. Кое-как объясняю ему, для чего я, зачем. Смотритель заказника не выявляет каких-либо чувств. Я надеюсь на время, на соль. Конечно, о пуде соли, которую надобно съесть нам с птицеведом, чтобы нашелся общий язык, не может быть речи... Но нужно выдержать время. Пусть хозяин привыкнет ко мне.
Гостеприимство, открытость, патриархальная простота жителей уединенных избушек на берегах тихих вод стали ныне преданием. Нынешние лесовики разборчивы, приметливы; они не торопятся привечать забредших на огонек путников. Впрочем, и сами путники изменились...
Я спустился знакомой тропой к губе, в камыши, устроился в еще не спущенной на воду лодке – в этой лодке мы плавали с егерем на охоту. Пусть смотритель заказника Игорь сообщит своей жене Люде обо мне, пусть посоветуются, как со мной поступить. Благо в лодке сухая лавочка...
Чайки кричат, вороны... Промелькнул белой спиной заяц. Клок зимы. Белеют почки-пуховки на ивах. Нависли барашки на ольхе. Чайки кричат надтреснуто, жадно. Проблеял бекас. Печет солнце.
С базы доносится голос женщины, Люды. Кое-что я узнал про нее. Она родилась на Амуре. Кончила физкультурный техникум. Работала егерем в Ольховском охотхозяйстве.
Теперь Люда помощник птицеведа, птицеведова жена.
Я слышу, на дворе бывшей охотничьей базы стучит мотор, гонит в избу электричество. Егерь тут прозябал с керосиновой лампой. Слышу, моторчик вращает диск пилы. Моторчику не хватает мочи зараз перегрызть целую чурку. Но все же – перегрызает.
Смотритель заказника, Игорь, – плотный, с широкой грудью, с большим, отнесенным назад затылком.
Из камышей мне виден и слышен Игорев двор. Игорь приказывает собаке:
– Сайда! Поваляйся!
Сайда валяется.
Тишина на губе. Двое общественных инспекторов приплыли на лодке из Сонгостроя. Пришли ко мне, предвидя во мне браконьера с ружьем, Сказали: «Не стрелять – значит всем не стрелять». Охота закрыта.
Рядом со мною плавают черные утки с белыми головами.
Помню, зимой рубили лес за губой – лесную гриву-кулису, выросшую на бывшей линии обороны, на озерном валу. Из-под одной из сваленных елей вдруг показалась звериная лапа. Вальщик крикнул свою бригаду. Бригада сбежалась. Разрыли берлогу. Под пнем лежала медведица. Она посмотрела на бригаду и отвернулась. Нервически подергивались ее лапы. И спина. Из-под медвежьей туши высунули носы два крохотных медвежонка. Иные шумели, что надо бежать за ружьем, убивать. Иные считали, что надо давить медведицу трелевочным трактором. Но были в бригаде женщины. Они увидели в этой медведице мать. И воспротивились убийству. Мужики согласились с ними. Позвонили главному лесничему, просили оставить пук леса, кулису вокруг берлоги. Лесничий согласовал с директором сплавной конторы – и разрешил...
Время к полдню. Пролетели девять лебедей. Птицевед Игорь бродил по колено в губе. Принес, показал мне щуку с крючком во рту. Он привык ко мне, притерпелся. Рассказал две истории – про сорочонка Пику и про лосенка Витьку.
...Весной сорочонок упал из гнезда. Люда его подобрала, назвала Пикой, потому что он первое время пищал. Сорочонок жил в дружбе с котенком. Дети не знают вражды. Сорочонок любил принести ягодку малины и положить Люде в рот. Потом вынуть. Если Люда проглатывала малинину, сорочонок сердился и верещал.
Однажды на базу приехал из города главный охотовед. Он устал и уснул. Пика прилетел и клюнул его в нос. Главный охотовед вскочил, испуганный, нервный, и долго не мог обрести равновесие духа.
Прошлым летом пяльинский егерь Ванюшка Птахин нашел лосенка в лесу. Он принес его на Кундорожь, и Люда назвала лосенка Витькой. Витька любил сидеть на руках у Люды, лизать ее в нос. Он таскал со стола огурцы, соленую рыбу и колбасу. Все это было ему по нутру. Витька приставал к собакам, бил лайку Сайду копытом. Сайде уже восемь лет. Она немножко рычала на Витьку. У Витьки была длинная, тонкая мордочка. Он был губастый и лопоухий...
Снуют меж кочек ондатры.
Пришел пяльинский рыбак...
– Ищу, – говорит, – сорочьи гнезда. Когда птенцы вылупятся, чтобы забрать.
– А зачем?
– А так…
Вечером сидим с Игорем и Людой на кухне. Люде хочется вместе с нами выпить и покурить, но Игорь ей запрещает. Он поет баритоном: «Когда мне невмочь пересилить беду, когда подступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу, в последний, случайный...» Я думаю, как далеко Игорю до этого утоления беды в синем троллейбусе: вначале надо сесть на пароход, потом в красный автобус, затем уже в синий троллейбус...
– Я не понимаю горожанок, – сказала Люда, – они меня все убеждают, что я живу как-то не так. Что нужно стремиться чего-то достигнуть, что-то приобретать, жить на уровне достижений, тянуться. А мне это не надо. Я шестьдесят получаю, и Игорь – восемьдесят. Он еще платит двадцать рублей алиментов. Нам хватает. Я природу люблю. Здесь живешь и обо всем забываешь. Все чисто здесь. И люди другие. Мы по два месяца не уезжаем никуда отсюда...
У Люды короткие рыжие волосы, длинные, тонкие в голенях ноги, серые с желтизной и прозеленью глаза, решительный излом светлых бровей, крепкие скулы, высокая грудь.
– Как егерь она меня устраивает, – сказал о своей жене, ухмыляясь, Игорь.
Игорю надо писать диссертацию о жуке-короеде. Он закончил аспирантуру, но диссертация все еще не написана.
– Я не понимаю, зачем это нужно тебе, – отговаривает Люда Игоря. – Зачем тебе эта диссертация? Какой-то ты педант...
– Это не помешает, – говорит Игорь, – стать специалистом в какой-нибудь области.
Утром приплыл на лодке пяльинский егерь Ванюшка Птахин. Разговор пошел о той самой зимней медведице с медвежатами.
– ...Он снег разгребает, а она его лапой. Он палку взял, думал, енот, – рассказывал Ванюшка.
Вспоминали, кто как вел себя. Оказалось, что Люда подходила к медведице ближе всех.
Ночевал я в той же комнате, что и прежде, – в охотничьей комнате, а Люда с Игорем – в егерской.
Утром сели в лодку, поплыли каналом – хоронить утонувшего лося. Лось провалился на тонком весеннем льду. Взяли с собой лопаты, веревки, топор.
Однако лося стащило водой на середину канала. Только ухо его торчало из воды. Отбуксировать к берегу разбухшую тушу мы не смогли. Привязали к лосиной шее камень-валун, похоронили лося хотя и в пресной воде, но по морскому обычаю.
Крохотный пароходик тянул по каналу огромное тело баржи. Берега канала высоки и сухи; береза, сосна, высокие штабеля леса лежали на берегах. Лес отражался в воде канала, и синее небо отражалось, и солнце. Почему-то я думал о белой ночи и соловьях. Это здесь обязательно будет: соловьи белой ночью...
И кто-нибудь должен кого-нибудь полюбить в соловьиную ночь. Иначе зачем соловьи? И белая ночь для чего? Я посматривал на молодоженов, прикидывал, и казалось мне, птицевед чересчур уж деловит, что ли, для белой ночи и соловьев. Или, может быть, я завидовал птицеведу...
Мы вышли лесом на берег озера, песок здесь отмыт добела, на песке косачи начертили крыльями – токовали. Слева синеют лесные мысы и справа мысы. Лосиный рог лежит на песке. В лесу краснеет брусника, будто созрела под снегом.
Вдруг возникла в озере лодка. Ближе, ближе затарахтела. Прошуршала днищем по песку. Из лодки выпрыгнул весь посиневший от ветра и сырости малый в ватнике, в резиновых сапогах с поднятыми голенищами.
Игорь с Людой не стали его дожидаться, ушли по урезу воды. Я заметил, Люде хотелось бы повстречаться с лодочником-незнакомцем, поглядеть, кто таков. Но Игорь прибавил шагу.
Малый, хотя и промерз на воде, поглядывал весело, глаз у него веселый. Это Феликс, мой давний знакомый, лесник.
– Ты чего? Какими судьбами? – приветствовал он меня. – На охоту, что ли?
– Ну какая охота? Про охоту надо забыть.
– Зачем забывать? Забывать не надо. Забудешь, дак и не вспомнишь...
– А ты чего?
– На работу. Мы тут кулису клеймим. Сплавная контора будет кулису рубить... По дороге в озеро завернул, уток, думаю, попугаю...
– Прямо на утиного сторожа и напал...
Мы поглядели вслед Игорю и Люде. Люда знала, что мы глядим, обернулась.
– Пусть сторож свой огород сторожит, – сказал Феликс, – а на озере мы как-нибудь ходы-выходы знаем... – Сам все смотрел на идущих по берегу женщину и мужчину.
Лесник Феликс Нимберг известен в округе как лучший охотник, неутомимый ходок по лесам и болотам. Феликс Нимберг – эстонец. Впрочем, какой эстонец? Дед его был эстонец, мать Феликса родилась в здешних местах, на Вяльниге, отец Феликса работает в сплавной конторе завскладом. Феликс после десятого класса и армии пошел в лесники. Он ходит, как лось, впробежку – поддернет голенища резиновых сапог и пошел: вода ему нипочем. Какая-то в нем есть легкость, летучесть. Он ростом высок, тонок лицом, глаза у него голубые. У всех коренных вяльнижских жителей голубые глаза. Это – признак природный, так сказать, географический. В обрисовке портрета важны оттенки, тона. Сказать «голубые» глаза – ничего не сказать. Голубизна глаз у озерных, вяльнижских жителей размытая, акварельная. Цвет глаз у Феликса отличается морской, лазурной яркостью, унаследованной от прибалтийского предка.
На счету у Феликса четыре медведя. Двух он убил в овсах, одного взял в берлоге. Тут я должен оговориться: медведей Феликс брал в те времена, когда стрелять их дозволялось невозбранно, как бекасов, бей – не хочу. Теперь медведи подорожали в цене, на отстрел их выдаются лицензии. Не всякому выдаются.
Однажды на Вяльнигу прибыли с лицензией на медведя городские охотники. Как говорит директор сплавной конторы – тузы. Директор и распоряжался охотой. Охотников привели к берлоге, расставили по номерам. Пустили собак, те разбудили, подняли, выдворили зверя. Мишка прорвался сквозь цепь охотников: цепь оказалась непрочной. Он выскочил, рявкал, ближайший к нему охотник уклонился от боя, дрогнул. Опыта встречи с медведем лицом к лицу, то есть с оскаленной пастью медвежьей, у охотника не было. Он уступил дорогу медведю без выстрела, хотя был отменно вооружен и за спиной у него имелась подстраховка. Страховал Феликс Нимберг, лесник. Пуля Феликса остановила медведя, зверь ткнулся в снег носом. Второй пулей Феликс кончил его. Пир удался, увенчала его медвежья печенка.
В доме Феликса на стене висит пятнистая шкура огромной рыси. Это его последний охотничий подвиг, трофей – Феликс выследил рысь на задах своего огорода, поставил капкан и поймал...
Но мой рассказ о другом – о любви, занявшейся на головешках прежних любовей, о жестоком праве влюбленных творить свое счастье, не соболезнуя отверженным.
В том, что Феликс полюбил жену Игоря Люду, есть некая закономерность, неизбежность. В летнее время Люда имела обыкновение ходить в плавках-бикини, в полосатой майке-тельняшке и в резиновых сапогах с поднятыми голенищами и с большими ушами, посредством которых крепят голенища сапог к поясу. На голове Люда носила белую таллинскую фуражечку. Пяльинские бабы, дай им волю, отхлестали бы Люду ремнем за такое распутство. И откуда она взялась, нелегкая занесла...
Бабы чуяли в Люде опасность, тревогу, разруху, беду. Бабы свирепели, беленились, рычали, как деревенские псы на чужака, когда Люда являлась в своем непотребном виде в пяльинский магазин за хлебом и тушенкой. Конечно, идя в магазин, Люда надевала брюки; в плавках она щеголяла на Кундорожи. Но это не меняло дела. Перед бабами Люда не тушевалась, язык ее был остер. Мужики сползались взглянуть, когда Люда швартовала к плоту свою казанку. Лица у мужиков расплывались в мечтательной ухмылке, рты непроизвольно приоткрывались...
Люда по-мужски резко дергала шнур. Казанка приседала на корму, разваливала воду в канале. Лодки у берегов, бревна в плотах оживали, терлись друг о дружку, разговаривали. И пяльинские жители разговаривали, глядели на белую Людину фуражку, пока она не растаивала в солнечном мареве. Откуда взялась? Что-то будет?
Бабы осуждали Люду, мужики похваливали: «Смелая девка, медведя не испугалась. Влет умеет стрелять. Ванюшка Птахин шапку кидал, дак охотовед промазал, а она в пух рассадила... Да-а-а... Девка – бой... Она, говорят, в Ольховском егерем служила, начальство на охоту сопровождала... Охотовед ее оттуда вывез, подальше от глаз людских. Жену-то с ребенком бросил... Да...»
Вяльнижский лесник Феликс Нимберг до тридцати лет гулял холостым. То он сосенки сажает на вырубке, то лес клеймит под делянку, то ведет санитарную рубку, то ловит на хатках ондатр, то караулит пролетных гусей на сяргинских болотах. Сверх оклада и приработка сдавал еще беличьих, куничьих, ондатровых, лисьих шкур рублей на четыреста в год. Парень он видный, красивый, а главное, чистый да скромный, совсем как дитя.
Невесту Феликс не встретил в лесу, гулял в женихах. Все его школьные сверстницы замуж повыходили. Однажды он плыл на лодке по Кундорожи. Увидел на бону базы Люду, сбросил обороты в моторе. Лодка зарыскала носом. Люда чистила большую щуку. В руках у нее посверкивал нож, чешуя так и брызгала. Люда была в резиновых сапогах с поднятыми голенищами, в плавках. Там, где кончался черный глянец мокрых сапог, начиналось нечто белое – кипень. Загар не приставал к Людиной коже. Феликс близко проплыл мимо Люды и ничего не сказал. Что тут скажешь? Тут нечего говорить, надо причаливать...
Городские, сонгостроевские рыбаки все причаливали, отирались на базе, покуда не появлялся Игорь. Своим сумеречным глазом он косил то вправо, то влево. Широко простирались Игоревы плечи. Игорь выдвигал вперед подбородок. Осознав неприступность этой крепости; посетители отваливали от бона.
Феликс проплыл мимо Люды на малых оборотах, в каком-то затмении, не решился причалить, не нашел что сказать. Он направлялся в озеро половить щук на дорожку, доехал до места, до своего верного места, кинул пару блесен, ходил кругами, но щуки не брали. У Феликса они брали всегда, сегодня не брали. Сегодня Феликс не чуял в себе той страсти, азарта, с которыми он отдавался охоте, рыбалке и прочим, главным в жизни делам. У других рыбаков и охотников спиннинги были дороже и ружья дороже, но охотничье счастье валило к Феликсу, потому что, когда он охотился, сам становился ястребом-тетеревятником, щукой-хищницей, слышал птичью и рыбью жизнь, умел затаиться и ждать – и подсечь, закогтить...
Сегодня блесны волочились за его лодкой, он словно забывал о них. Постукивал мотор на малых оборотах, лодка кружила ни шатко ни валко. Феликс не чувствовал в себе обычного желания, воли – поймать. Он смотрел на синее небо и на зеленый берег, но видел Люду – в тельняшке, в резиновых мокрых сапогах. В руках у Люды нож блещет, порскает крупная чешуя. Люда взглянула на плывущего мимо рыбака, Феликс встретился с ней глазами, и показалось ему, в глазах ее плещется озеро – буйные воды, вольные воды; ничьи они, плыви, коль умеешь.
Так ему показалось, так посмотрела Люда, жена птицеведа, словно прискучило ей чистить щуку на бону и захотелось ей уплыть хоть куда на рыбачьем челне. Глаза у Люды желты, зелены, как у рыси, которую Феликс поймал на своем огороде, ноги у Люды белы...
Феликс плавал на лодке, таскал за собой две блесны, но щуки не трогали их, ни единой поклевки. Феликс думал о Люде. Он знал про нее, был наслышан: на Вяльниге, на канале, на Кундорожи все знают про всех. Ему интересно, конечно, было увидеть охотника-бабу, но не представлялось такого случая. И вот увидал...
Полдня проболтался на озере с двумя дорожками, безо всякого интереса к рыбалке, смотал спиннинги и поплыл на Кундорожь, еще не зная зачем. Вот разве договориться с охотоведом насчет повязки. Зимою Феликс искал за губой енота, со своей восточносибирской лайкой Пыжом. В лесу попался ему охотовед, объяснял насчет того, что нужна лицензия на енота. Феликс ответил, что в этих лесах он родился и вырос. Охотоведов и звероведов он навидался на своем веку. Охотоведы приезжают и уезжают. Живут в лесу местные люди, они и хозяева лесу. Феликс высказал это без драчливого задора и запала, спокойно, даже с улыбкой. Вообще он легкого нрава, врагов себе не завел. И ссоры с охотоведом не получилось. Лубнин поглядывал на собаку Феликса, Пыжа, приманивал его, поглаживал. Пыж интересовался собакой охотоведа Сайдой, тоже восточносибирской лайкой. Игорь спросил у Феликса о родословной Пыжа, но Феликс про это не знал. Он купил Пыжа у геолога, приезжавшего на охоту. Геолог привез Пыжа откуда-то из Якутии. Лубнин завел разговор о повязке, дескать, нельзя ли повязать его Сайду с Пыжом. Феликс ответил, что можно. Почему же нельзя? Никакой корысти он не собирался иметь от этих собачьих дел. Дал охотоведу свой адрес, чтобы тот приводил собаку, когда она войдет в пору.
Игорь не приехал. Феликс уже позабыл о том сговоре, ему-то какая забота? Но тут, правя лодку с озера на Кундорожь, через губу, он вспомнил... «Спрошу, чего ж не приехал». Этот повод казался ему достаточным для визита. К базе подчаливал всякий рыбак, с тех пор как тут поставили дом. Для путника или плавателя дом, стоящий отдельно – в лесу ли, на берегу, – это как корчма у дороги... Правда, причаливали дальние, сонгостроевские, городские. Вяльнижские обычно спешили домой.
Феликс вовсе не собирался в гости к охотоведу. Хотя он и не поссорился с ним в лесу, но запомнил надменность охотоведа, его брезгливо выпяченную нижнюю губу. «Тоже мне инспектор нашелся, бумажку в лесу спрашивать... Бюрократ...»
Однако Феликс пришвартовался к бону кундорожской базы, легко взбежал по лесенке наверх, постучал в дверь. За дверью играла музыка, пел Сличенко: «Под окном стою я с гита-а-ро-ю...» Феликс открыл дверь и вошел, громко стуча сапогами, воскликнул:
– Есть кто живой?
Сапогами он стучал только в сенях, войдя в дом, сразу заметил, что полы недавно мыты, всюду настелены половики. Тут он осторожно пошел, застенчиво, вроде даже на цыпочках. Люда мыла пол в комнате-боковухе. На столе стоял магнитофон, крутились бобины...
Люда отжала тряпку в ведро, распрямилась, убрала со лба за ухо прядь волос. Очень бабье было это ее движение, и сама она показалась Феликсу проще, чем рисовалась в воображении: на широкоскулом липе веснушки, застиранное ситцевое платьишко, босые ноги сунуты в драные, видимо, мужнины кеды. И эта Людина простота, бабья обыденность, домашность понравились Феликсу. Как разговаривать с Людой, когда она одета в тельняшку, плавки и белую фуражку, он не знал.
С этой домашней, сельской, такой, как все, Людой начинать разговор было легче. Даже и начинать-то не надо. Феликс посмотрел Люде в глаза, прочитал в них, что она помнит его, как утром он захотел причалить и не решился. Приход его не был неожиданным для Люды; она, конечно, знала, кто он таков.
– Хозяин-то дома? – спросил Феликс, словно хозяин сам и назначил ему прийти в эту пору и должен быть тут.
– Он уплыл за губу, – сказала Люда. – На весь день. А у вас что, дело к нему?
– Да скорей у него ко мне, – сказал Феликс. – По собачьим делам. Ваша Сайда моим кавалером интересовалась, Пыжом. Был такой разговор, чтобы поближе их познакомить...
– А он уже Сайду в город свозил, – сказала Люда. – Там у одного его знакомого профессора есть кобель. Не знаю уж, чем он хорош, но – профессорский, с высшим образованием.
– Ну, где уж нам, – сказал Феликс, – с профессорскими тягаться...
– Да я ему говорила, – сказала Люда, – брось ты за званиями гоняться. Он, может быть, и породистый, профессорский кобель, а толку-то что? Он уже все свои качества потерял, раз в городской квартире живет. Его пять раз за год вывезут в лес – разве же может быть он настоящей охотничьей лайкой? Он сибаритом стал, выродился... Так Игорь ни за что, ему все по науке надо. Он говорит, что генетическое вещество остается неизменным, хоть в городе пес живет, хоть в лесу. А я так не верю...
– У нас тоже в Вяльниге один чудак есть, – сказал Феликс, – в больнице хирургом работает. У него легавая сучка. Так он ее на повязку в Москву возил, там какой-то есть легаш необыкновенный. На дорогу сколько потратил, да там еще жил, водил на свидания свою сучку. А легаш на все ноль внимания. Он приучен к столичному, избранному обществу, а тут вдруг ему провинциалку привезли... И ни в какую. Так ничем у них и кончилось...
Легко было Феликсу разговаривать с Людой, будто знакомы они много лет. Да и вообще, как всякий истый, азартный охотник, любил он побаять, позаливать.
– Я утром еще собирался заехать, поговорить с вашим мужем, – привирал чуть-чуть Феликс, – а потом вижу, вы щуку чистите, думаю, неудобно с утра пораньше лезть в чужой дом... Вот, думаю, порыбачу, может, хоть рыбки привезу... – Ничего такого Феликс не думал, но, говоря, сам верил себе. Люда знала, что он привирает, но тоже будто бы верила. Кроме того, что они говорили друг другу, меж ними сразу же завязался еще другой разговор – бессловесный, подспудный. Что-то читали они в глазах друг у дружки, интересно было читать... Феликс старался меньше глядеть на Люду. Она извинилась, сказала, что надо домыть полы. Немножко осталось... Из этой ее оговорки, что осталось немного, Феликс понял, что можно ему не уезжать, побыть еще тут. И показалось ему, что Люда рада случайному гостю. «Что, в самом деле, целыми днями одна, – подумал Феликс. – Такая девка, она привыкла быть в центре внимания, раз егершей работала, значит, всегда среди мужиков...» К чему привыкла егерша Люда, Феликс не стал додумывать и гадать. В этой девке и нравилось-то ему, что она решилась поселиться в лесу, не убоялась одиночества. В этом чуялась ему некая родственность душ: и сам он решился, лучшее в жизни находил в одиноком лесном бродяжестве.
Он дожидался Люду на дворе, осматривал моторы и сознавал превосходство охотоведа над собой. В моторах он мало что понимал, только знал, как отрегулировать лодочный мотор «Л-6» да как установить на мотоцикле зажигание. В хозяйстве охотоведа все было моторизовано. Бензиновый мотор вращал динамо-машину, по вечерам на базе горело свое электричество. Другой мотор вращал диск пилы. И это действовало на Феликса, несколько подавляло его. Тут он не мог сравняться, соперничать с охотоведом. Когда он думал о Лубнине, то ставил себя рядом с ним и сравнивал. Да где уж, Лубнин закончил аспирантуру, пишет диссертацию, станет ученым. Об этом все знали на Вяльниге. Каждому, кто побывал на Кундорожи, Игорь об этом сообщил...
Люда вьшла в брюках, перепоясанных широким ремнем. Под ремень она заправила свитерок. Феликс увидел, как высока она, и стройна, и тонка в талии. И бедра ее тоже заметил. Плечи у Люды были прямые, широкие – сильные плечи, годные для всякой, мужской и бабьей, работы.
Долго рассматривать Люду Феликс не стал, сразу заговорил, продолжил начатую беседу:
– ...Щука совсем не берет на блесну. Поздно. Кончился жор. Полдня прокружил по озеру – и ни одной поклевки.
– А вчера, Ванюшка Птахин говорил, трех поймал.
– Ну, одна-то, может, и была, если Ванюшка говорил – трех...
Люда сняла с веревки белье, унесла в дом. Потом вымела сени, крылечко. Сбегала на реку с ведром. Все время она что-то делала по хозяйству. И успевала при этом разговаривать с Феликсом.
– ...Ой, – вспомнила Люда, – Игорь сказал, чтобы сеть в губе похожать, вторые сутки мы не были, там уж, наверно, язей набралось. Я не люблю с язями возиться, в них одни кости... А Игорь вообще рыбоед, это способствует умственной деятельности...
Феликс вызвался помочь Люде похожать сеть. Она сказала:
– Пошли, если делать вам нечего. А то я и одна управлюсь. Игорь меня научил. Я только не люблю рыб из сети выпутывать, у меня терпения не хватает...
Так они жили вдвоем этот день. Хотя день был воскресный, никто не причаливал к бону. Пяльинские косили в губе поднявшуюся тресту: мужики косили, бабы жали серпами. В сеть попало с десяток язей и еще караси.
– Эта сеть у нас как скатерть-самобранка, – говорила Люда, – всегда хоть что-нибудь в ней болтается. На уху да на жареху хватает. Мы с Игорем наедимся и Сайду накормим. Я шестьдесят получаю, Игорь – восемьдесят. Двадцать рублей он алиментов платит. Нам больше и не надо. Зачем? Одежды здесь самый минимум требуется...
Феликс посмотрел на Люду и засмеялся:
– Да...
На рыбалку Люда опять переоделась – только плавки были на ней, тельняшка и резиновые сапоги.
– Ты что, осуждаешь меня за этот костюм? – Люда первая сказала Феликсу «ты». – Пяльинские бабы шипят, а мне наплевать...
– Они еще не привыкли к современной моде. Темнота. Домострой.
Он пихался пропешкой, Люда тащила сеть из воды, вместе они выпутывали из ячей снулых, толстых рыбин. Перемазали руки в рыбьей слизи, в крови. Рыскала лодка. Рыбы вдруг просыпались, прыгали. Из травы выплыла на чистую воду пястка желтых вербных пуховок – утят... Чайки в небе кричали. Нагретый воздух зыбко струился. Так тихо было кругом, что словно и нет на земле, на воде ни единого человека. Только лодка и два рыбака: рыбак да рыбачка.
Люда жарила на летней кухне карасей в сметане. Феликс колол дрова, зажег огонь под плитой. К чаю они нарвали себе земляники, над рекой на береговом увале. Ягода назрела крупная, сладкая. Феликс рассказывал Люде о бобрах, о лосях, о лисах и барсуках, о медведях, о разных потешных охотничьих передрягах. Люда слушала его, как умеют слушать только мальчишки лет семи – девяти. Она глядела во все глаза на него, подперев щеку кулачком, переживала, и рассмешить ее было так же легко, как зажечь сухую бересту.
Люда тоже рассказывала – про сорочонка Пику, про медведицу, про пяльинских рыбаков. И про лютых своих врагов – пяльинских бабок – она рассказывала без всякого зла. Феликс слушал ее, как ровня, ровесник, приятель.
– Люди здесь какие-то открытые, – говорила Люда, – чистые. Все у них на виду, ничего они не прячут, не строят из себя, не выпендриваются. Если к ним подойдешь по-доброму, и они тебе отплатят добром. Злому человеку с темной душой здесь вообще не ужиться. Почва не та. Здешние люди – как дети, бесхитростные, бескорыстные. Вот Ванюшка Птахин. Жена у него учительница в Пялье – она его пилит, пилит, хочет в люди вывести, чтобы у него зарплата была, как у людей, и все другое... А это ему не нужно. Он какой-то блаженный, мечтатель. Ему нравится на лодке по воде плавать. Или вот Сашка, механик с лесоучастка. Прекрасный мастер, золотые руки. Он Игорю помогал моторы монтировать. Собственно, Игорь ему помогал, а он был главный конструктор... – Эта Людина оговорка понравилась Феликсу: «На пару с Сашкой и я мог бы смонтировать любой агрегат». Поминая мужа, Люда чуточку принижала его, будто ставила на место. Видно, шел у них в семье спор – противостояние индивидов... И это давало Феликсу некую надежду.
– ...Сашка – философ, – говорила Люда, – они могут с Игорем часами спорить. Игорь бросил курить и мне не дает, а Сашка смолит без передыха, причем махорку... Игорь считает, что в жизни все зависит от воли человека, – если сильная воля, то человек может построить жизнь такую, какую ему хочется. А Сашка говорит, что жизнь человека, так же как и вообще жизнь на земле, складывается из миллионов разных обстоятельств, независимых от воли. И семейная жизнь тоже... Каждая случайность или там поступок какой-нибудь, слово имеют последствия. Ты хочешь одного, а получается другое. Я слушаю, слушаю их, вообще-то интересно, потом лягу спать – мне все равно слышно. Один раз пол-литра выпили и вот разошлись... Сашка говорит Игорю: «Ты бросил жену и ребенка, причинил им горе, зло. Теперь ты думаешь, что счастлив, а все равно из зла вырастет зло, и оно обернется против тебя...» – Люда посмотрела на Феликса, будто ждала от него ответа. Феликс не знал, что сказать, то есть ему больше нравилась Сашкина точка зрения, но он чувствовал, что встревать в эти Людины с Игорем дела ему нельзя.
– Я раз с Сашкой охотился весной на Сяргинских болотах, – сказал Феликс, – он всю ночь у костра доказывал мужикам, что жизни на других планетах не может быть. По науке доказывал...
– Да, он такой, – сказала Люда без выражения, думая о другом. Посидела в задумчивости и продолжала: – Я в Ольховском работала, в охотхозяйстве номер один, – там все другое, не то что здесь. Интересно, конечно, крупные люди приезжали. Вообще-то большие люди простые, а вокруг них разная мелкая сошка увивается... Противно... Здесь этого нет. Здесь мне нравятся люди...
– Тоже всякие есть, – сказал Феликс.
Разговор стал затухать. Да и день пошел на убыль. Люда опять переоделась в то самое платьишко, в котором Феликс застал ее утром. Принялась мыть окна. Что-то в ней изменилось. Она теперь не глядела на Феликса. Завела магнитофон: «Под окном стою я с гитаа-ро-ю...» Феликс послонялся по двору. Люда выбежала с ведром и словно удивилась, увидев его, сказала:
– Игорь скоро должен быть. Вы можете его подождать. – Так сказала, что будто и не было этого дня – ни лодки на озере в камышах, ни гуда в крови под тяжестью солнца, ни карасей в сметане.
– Дак я к нему по собачьему делу, – сказал, улыбаясь, Феликс. – А дело-то уже сделано...
– Всего вам доброго, – сказала Люда, глядя мимо Феликса, вообще никуда не глядя, затворилась, задернула шторку. – Спасибо, что навестили. Заезжайте еще. Можете позвонить по телефону, договориться с Игорем, чтобы зря не приезжать.
– Ну, пока! – сказал Феликс. – Счастливо!
Прыгнул в лодку, оттолкнулся от бона, завел мотор... Смотрел на окошки базы, видел Люду, но она не обернулась к нему. Уплыл он в каком-то раздумье, недоумении.
Люда сказала Игорю, что был Феликс Нимберг – насчет Сайды с Пыжом... Сколько он пробыл, как они похожали сеть, как жарили карасей и болтали – про это она не сказала.
Игорь хмыкнул:
– Была забота... Пес у него ублюдочный... – Вопросов он никаких не задал жене. Ходил по дому босой, в тельняшке, высоко держа массивные плечи, и напевал густым баритоном: «Последний троллейбус по улицам мчит. Вершит по бульварам круженье. Чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи крушенье...»








