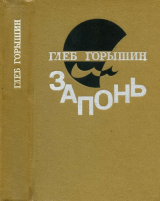
Текст книги "Запонь"
Автор книги: Глеб Горышин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 26 страниц)
Запонь

Эта книга
Я начал писать эту книгу давным-давно...
Однако что значит книга? Почему какое-то количество повестей, рассказов (роман – особое дело) бывает сложено вместе, заключено в обложку, становится книгой?
Писатель пишет себе да пишет – рассказы, повести, что-то еще; одни сочинения он печатает в толстом журнале, другие – в тонком, третьи пока что нигде не берут. Писатель пишет, он занят текущей работой – в этом его призвание, долг и потребность. Его сочинения множатся, пухнут папки и стопки исписанных им листов. Будучи исписаны, листы без пощады измарываются, затем перебеляются, перепечатываются и снова измарываются. Однако мало-помалу листы становятся чисты, удобочитаемы; в папках и стопках образуется некий порядок, пока что понятный одному их творцу.
Однажды творец принимается тасовать свои папки и стопки, то распускать, то опять собирать воедино, прикидывать, взвешивать. Похоже, что он раскладывает пасьянс...
Это значит, в сознании сочинителя забрезжило предощущение книги. Не только в сознании, но и в мышцах, и в органах чувств. Сочинитель почувствовал меру содеянной им работы. Он работал дни, месяцы, годы, из-под пера его (из-под клавишей пишущей машинки) выходили повести, и рассказы, и путевые заметки, но книги не было, чего-то недоставало – весу, то есть весомости материала, вложенного в стопки и папки.
Материал сочинитель черпал из собственной памяти, сердца, ума...
И вот он отвлекся от крепко державшей его работы, откинулся на спинку стула (кресла) и огляделся. Измерил мысленным взором ступени осиленного труда. Подобно тому, как строитель, закончивший кладку стены, знает меру ее высоты, вес каждого кирпича, прочность сцепления, гармонию завершенности, так писатель может однажды сказать себе: книга готова.
Иные книги пишутся быстро, иные долго, иные всю жизнь...
Жизнь писателя измеряется его книгами. Отпущенное ему время он делит на книги: «Мне нужно еще написать такую-то книгу, такую и вот такую». Иногда предполагаемые писателем сроки не выполняются, книги остаются недописанными, даже и неначатыми...
Эту книгу я долго писал, лет, может быть, двадцать, – и не думал о ней, поскольку всегда был занят работой над другими, очередными книгами. Эта книга накапливалась и складывалась подспудно, ее отдельные главы – рассказы, повести, путевые заметки – включались в другие книги. Я уходил, уезжал, улетал, уплывал от нее – в иные края, сюжеты, темы, судьбы, географические пояса, душевные и семейные обстоятельства. Но затем возвращался на круги своя. Снова ступал на мною же проторенную стежку, она приводила меня в знакомые, милые сердцу места, к старым моим друзьям, добрым знакомым, а иногда и недругам.
Друзья – и недруги тоже – переменились за время моей отлучки; одних повысили по службе, других понизили, третьи женились, четвертые развелись. Иных и вовсе не стало. Текла вода – даже реки обмелели. На берегах рек выстроились каменные дома, через реки перекинулись мосты. Рыбы, птицы, грибов и ягод стало поменьше, людей побольше. Площадь лесов, болот и кустарников сократилась, зато увеличилась площадь сельхозугодий. Зайцы повывелись в лесах, зато пожаловали откуда-то и расплодились дикие кабаны и свиньи.
Уходя (улетая, уезжая, уплывая), я возвращался к себе на родину. Обретая Родину с большой буквы, я с годами все крепче держался за малую мою родину, дышал ее кислородом, насыщал зрение тихой, скромной красою ее больших рек и маленьких речек. Однажды начав, продолжал писать эту книгу, держался за нити сюжетов, которые плела и распутывала сама жизнь...
В ту пору, когда я родился, мой отец был директором леспромхоза. Директорской должности он достиг в двадцать два года, а начал свою лесную карьеру семнадцатилетним помощником лесничего. Мой дед гонял барки, груженные березовым швырком, по Ловати и Поле, по озеру Ильмень, по Волхову – в Питер. Там швырок продавался, барки распиливались и тоже продавались.
Мое детство прошло в лесах. Главные его радости состояли в походах за рыжиками и волнухами, за темноголовыми боровиками и красноголовыми подосиновиками – «красными», в уженье пескарей и уклеек на маленькой, если взглянуть на нее нынче, и большой в пору детства, доброй, веселой, зимой и летом готовой к играм речке Оредеже. Радости накатывали волнами: сначала ледоход на Оредеже – можно прокатиться на льдине, да маменька не велит; там, глядишь, паводок – вот бы поплавать на плоту, побуруздиться в воде; там – земляника, черника, морошка, малина, брусника, а там и первый тонкий ледок зазеленеет на реке – подвязывай к валенкам коньки-снегурки, кати; крутые оредежские берега превратятся в снежные горы – пора на лыжи, бултыхайся в пушистых сугробах! Хорошая жизнь!
Дома, когда к отцу приходили друзья по работе, разговаривали о плане, о кубометрах, о пилах и топорах, о коротье, долготье, балансах и пропсах, о деловой древесине и подтоварнике, о делянках, лежневках, трелевке и вывозке. Позже, когда отец стал управляющим лесным трестом (до того он был молодой управляющий, даже трудно сейчас поверить), каждое утро, часов эдак в семь, я просыпался от его зычного голоса. В пору сплава отец напутствовал директоров сплавных контор и начальников рейдов: «Садись на хвост! Если вы мне осушите хвост...»
В детстве я поневоле задумывался об этом хвосте. Хвост должен плавать, он рыбий, покрыт чешуей, и кто-то хочет его осушить. Хвост большой, ворочается на мели, бьет по воде. Нужно садиться на хвост, погонять его, плыть верхом на хвосте. «Садись на хвост!» – этот приказ, призыв, совет, просьба-мольба, заклинание звучит в моей памяти как утренняя побудка. В числе других правил жизни я усвоил также и это: чуть схлынут вешние воды – нужно садиться на хвост!
Когда в лесах, где хозяйствовал трест моего отца (соседские мальчишки величали отца «королем дров»), деревья стали валиться не от лучковой пилы, а от бомб и снарядов, нашу семью вместе с семьями других лесозаготовителей посадили в газогенераторную трехтонку и повезли на восток. Малосильная, неуклюжая, с двумя дымящими закопченными колонками, наподобие тех, что ставятся в ванных, груженная вровень с бортами березовой чуркой, а поверх уже мы с нашим скарбом, машина колыхалась по немощеной дороге, увязала в очередной луже. Шофер Мишка, длинный, тощий, большеносый, с рыжеватым пухом на подбородке, ни разу еще не брившийся, не взятый покуда в армию по той причине, что родом происходил из немцев Поволжья, совершал отчаянно громкий плевок именно в эту лужу. Затем вырубался березовый или осиновый дрын – вага, конец дрына подсовывали под колесо и всем гамузом, включая старух и малых детей, повисали на ваге, вываживали наш драндулет.
Мы останавливались в каком-нибудь леспромхозовском поселке, принимались жить на этом новом месте, в бараке, но вскоре война опять приближалась, и снова мы залезали в кузов с фанерным фургончиком.
Дороги не было никакой. Мы ехали месяц по вологодским лесным проселкам. Машину ремонтировали в Вологде, в Буе, в Галиче; чурку мы сами пилили, выбирая в лесу сухостой. Наилучшая чурка получалась из сельских изгородей – о! на этой чурке машина тянула, как на бензине. Ну, не совсем так, однако тянула. Бог знает по каким законам механики мотор заводился, машина ползла. Мы пересекли Вологодскую область, очутились в Костромской. На станции Мантурово нас застигла глухая зима. Наши силы и продовольствие, а также и терпение водителя тут полностью истощились. Машину сдали – на ходу, вместе с шофером – в трест «Мантуровлес». После, я видел, эта машина возила из лесу хлысты и дрова, за рулем сидел так и не побрившийся шофер Мишка.
Мы поселились в деревне Градулево, на берегу Унжи. Вот тут-то я порыбачил, побегал за грибами, за ягодами. И, помню, влюбился – уже не впервые, но сильно – в одноклассницу (я ходил в четвертый класс), кажется Тоню.
Первое мое путешествие по лесным российским проселкам, с ночевками у костра или в избах у незнакомых, но неизменно добрых, чудно́ говорящих людей, с первой привычкой к пиле, топору и лопате как предметам первейшей жизненной необходимости, с новой мерой оценки людей: кто чего стоит перед лицом общей невзгоды, – быть может, тут и была заронена в мою душу искра неутолимой страсти странничества; она впоследствии разгорелась и жжет меня до сих пор.
В сорок третьем году мы вернулись – по железной дороге – в Тихвин, к отцу. Помню: солнечный мартовский день, коробка разбомбленного вокзала, обгоревшие вагоны и цистерны на путях. Я выпрыгнул из потемок теплушки, мгновенно ослеп, ткнулся носом во что-то железное, не сразу понял, что это пряжка ремня, не сразу осознал, что передо мною стоит мой отец: распахнуто его кожаное пальто, ровно настолько, чтобы был виден один-единственный орден на синей гимнастерке – орден Ленина, маленький, сияющий, без ленты орден на необъятной отцовской груди.
В сорок третьем году Тихвин был прифронтовым городом. Всякую ночь на западном краю неба прыгали всполохи огня, кровянело зарево, точился мертвенный, иссиня-зеленоватый, выморочный ракетный свет. Гитлеровцы, с поистине педантической тупостью, в назначенное время бомбили мост через Волхов, плотину Волховстроя, железнодорожный узел. Долетали они и до Тихвина. Жутко, сладостно было глядеть на серебряный самолетик в перекрестье прожекторных лучей и со всех сторон летящие к нему цветные трассы крупнокалиберных пуль. Автоматические зенитные пушки молотили как палкой по крыше. А то, бывало, навстречу омерзительно, с подвывом жужжащему жуку, или, как называли его тогда, «стервятнику» подымалась парочка наших «ястребков». Мы залезали в окоп, вырытый на огороде, с замиранием сердца наблюдали воздушный бой.
Назавтра летчики приходили к нам в гости. Многие из них дружили с отцом – вообще отец носил в своей поместительной груди многое множество всяческих дружб, – пили спирт и рассказывали, как было дело там, в небе: «Я фрицу в хвост захожу, а он...» Частенько «он» вспыхивал, падал, взрывался на собственных бомбах...
Когда мы с ребятами бегали за грибами, то искали не столько грибы, сколько разные штуки и железяки. Один раз мы нашли человеческую руку с часами и компасом на запястье. Мы в те годы, конечно, играли в войну, но игрушки наши могли взорваться, выстрелить, ранить, убить. Что случалось не раз.
В пятом и шестом классе я был жестоко и безответно влюблен в одноклассницу Женю. Тут надо заметить, что эта любовь возгорелась во мне в абсолютно холодном, нетопленном классе тихвинской школы. (Почему не топили школу, об этом бы надо бы спросить у моего папаши – «короля дров».)
Мальчишки сидели в классе в ватниках (ватник в ту пору был не только общеупотребительной одеждой, но и отвечал крику моды), девчонки – в пальтишках с поднятыми воротниками; у кого были шапки с ушами, те опускали уши и завязывали их под подбородком. Понятно, что преподаваемые науки просачивались в наши мозги с пятое на десятое.
Когда в сорок четвертом, после снятия блокады, мы приехали жить в Ленинград, мои знания, особенно по геометрии и алгебре, твердо были оценены в ленинградской школе на единицу, редко на двойку. Довольно долгое время о тройке по этим предметам, да и по другим тоже, я не мог и мечтать.
Иными оказались в Ленинграде и законы мальчишеской жизни по сравнению с теми, которые я усвоил, проживя до тринадцати лет в сельской местности. Ленинградские шестиклассники, пропустившие в блокаду год или два, были старше меня и неизмеримо взрослее. В Тихвине, при недостаче мальчишек, я попривык, что ли, к первенству; здесь школа была мужская, и, сделав что-то не так, нарушив здешние правила поведения, был в первый же день жестоко бит в уборной. Умылся кровью, дома плакал навзрыд. Меня утешала мама, но я знал, что она мне не может помочь. Мне предстояло еще притереться и дотянуться не только до наук, но и до умения держать себя на уровне особенно обостренного в те годы, воистину питерского достоинства. Пережившие блокаду ленинградские мальчишки рано стали взрослыми, и, честное слово, не так-то легко было заслужить равенство с ними.
Как бы там ни было, если поверить широко известной в своде житейского человекознания формуле – «за битого двух небитых дают», – я могу, положа руку на сердце, похвастаться тем, что был бит, с полной выкладкой...
Однако учеба моя вскоре прервалась неожиданным и трагическим образом. В один из погожих октябрьских вечеров, когда с Карельского перешейка еще доносилась канонада, но в городе уже сняли затемнение, мы прогуливались втроем, с друзьями еще по Тихвину – Костей и Лешкой, по Петроградской стороне. Косте в тот день исполнилось шестнадцать, Лешке было пятнадцать, а мне – увы – еще только тринадцать.
Костя в скором времени собирался идти в моряки. Он приехал в Тихвин в сорок втором году, пережив блокадную зиму в Ленинграде, оклемался и убежал на фронт. Благо бежать недалеко. Его отыскала мать и вернула домой. Что выделяло Костю в любой среде, так это его бесстрашие, резко выраженная определенность отношения к миру. Быть другом Кости – ого! – это что-нибудь значило.
Я сразу влюбился в Костю, старался ему во всем подражать, он служил мне примером, хотя, конечно, недостижимым.
Когда мы шли по Большому проспекту, на Костю оглядывались не только девочки, но и шпана, водившаяся в ту пору по подворотням, смотрела на него с уважением. Он подметал панель расклиненными матросскими клешами, грудь нараспашку и там полосатый тельник, жесткий смоляной чуб из-под мичманки, сутемь во взгляде. Костя был плечист, коренаст, сутулился, косолапил, как надлежит моряку. Мы с Лешкой тоже старались сутулиться, косолапить.
На остановке у «Промки» мы ждали трамвая: нам с Лешкой ехать домой, а Костя жил рядом, Костя нас провожал. Откуда-то издалека по толпе полоснул кинжальный свет фары, мгновенно приблизился. Дальше я уж не помню, что было...
Долгое время спустя очнулся в больнице. Костя погиб. Шофер военного «виллиса», пьяный, быть может, по случаю скорой победы, врезался на предельной скорости в толпу, дожидавшуюся трамвая. Меня покалечило, поломало, у Лешки оторвало полу пальто.
Как это ни прискорбно, в войну хорошие, может быть, даже лучшие люди погибают не только от войны, но и от безответственности других перед жизнью. Так бывает и в мирное время...
Нынче Лешка стал генералом... Костя прожил свои шестнадцать лет, как надлежит жить мужчине, он даже сумел в своем отрочестве побыть на войне. И он был влюблен, еще в Тихвине, в девушку Катю. Когда мы собирались на вечеринку (мы – то есть семиклассники, шестиклассники и девицы из старших классов, – все мальчишки после седьмого уходили в морские, летные, танковые, артиллерийские спецшколы), то играли в вопросы и ответы. Однажды Косте выпал вопрос деликатного свойства: «Кого вы любите?» – «Я люблю Катю». Он говорил только правду. Катя тут же сидела, но он не ей признался в любви, а словно бы сделал заявление, кому-то бросил вызов, кого-то серьезно предупредил: «Я люблю Катю». Мы все почувствовали сугубую важность этого дела: Костя любит Катю.
В пору нашей дружбы Костя был беден, как птица. Он изведал такую нужду, какая не снилась даже бедным мальчикам из романов Чарльза Диккенса. Отца не было у него, а мать все не могла оправиться после блокады. Помню, ему не поднять было двухпудовую гирю, валявшуюся во дворе нашей школы, одной рукой. И он обхватывал ручку гири пальцами правой, левой фиксировал запястье несущей руки – и подымал гирю над головой, казалось, одним усилием воли...
Самых лучших бог забирает к себе молодыми. Увы, жестокий, бесчеловечный смысл этого библейского постулата оказывался пророческим еще не однажды в моей жизни. Жизнь моя не то чтоб склонилась к закату, но сегодня рядом со мною нет именно тех людей, которые мне служили в разное время примером, нравственной опорой, источником духовной силы, так нужной в иные минуты – для подзарядки. Их нет...
Чуть меньше года я провалялся в больнице с переломами, сотрясениями и ранами, распятый на деревянном щите, с вдетыми в лямки руками и подвешенными к ногам гирями. Встав, оказался изрядно подросшим, настолько изрядно, что избави бог кого-нибудь так подрасти. Больница не только вытянула меня в длину, но и кое-чему научила, то есть поворотила ко мне жизнь той стороной, какую обычно не видят в детстве и отрочестве.
В ленинградской больнице в сорок четвертом году выдавалось на день четыреста граммов хлеба, кусочек постного сахара и половинка пареной репы. К этому добавлялся еще кое-какой жидкий приварок. Стекол в окнах не было, их заменяла фанера. Свет поступал через единственную стеклянную фрамугу. Днем и ночью в палате горела слабая электрическая лампочка. Почти каждую ночь кто-нибудь умирал – на ближайшей к дверям койке. Эта койка предназначалась для безнадежных. Я лежал на ней первое время, а после меня перенесли в глубь палаты...
Когда я пришел год спустя в школу, не в восьмой, как бы мне полагалось, а в седьмой класс, то оказался на голову выше моих одноклассников. Теперь уже никому не приходило в голову меня побить. Признаюсь, и я никого не побил. Ненаказанными остались мои обидчики сорок четвертого года. В душе моей нет обиды на них, наверное, они были правы. Очень нервные и драчливые были ленинградские мальчишки после блокады.
Последующие десять лет я прожил в городе, окончил школу, университет, с огромным облегчением, как в знойный полдень головою в прохладную заводь, попросил направить меня на работу на целину, на Алтай.
Это был мой первый самостоятельный шаг, первый кирпич в собственноручной кладке судьбы-биографии. Слава богу, что я его совершил, первый шаг определил весь дальнейший путь…
Работая на Алтае в газете, я написал свои первые рассказы, напечатал их в «Неве» и «Звезде». Мою первоначальную удачливость, то есть скорое прохождение весьма еще несовершенных, как я теперь понимаю, ранних рассказов, надо в известной степени отнести за счет значимости темы, созвучия найденного мною материала злобе дня. Рассказы были о целине. Их герои занимались именно тем, чем следовало заниматься героям в конце пятидесятых годов: поднимали целину, пахали, сеяли, убирали хлеб и вывозили его из глубинки на элеватор.
Это я говорю для тех, кто впервые вставляет в машинку чистый лист бумаги или берет в руки перо с серьезными намерениями и надеется при этом на удачу. На удачу надеется каждый берущий перо, иначе не стоит и браться. Однако удачу должен ковать себе автор, не полагаясь только на так называемый «дар». Нужно сообразовать найденную тему, жизненный – из личного опыта – материал с общественными ориентирами времени.
Литературный талант может проявить себя, будучи подключенным к животворному человеческому таланту, найденному в жизни. Талант – как закваска; любое дело, будь то космонавтика, воспитание подрастающего поколения или строительство мостов, движут талантливые люди. Талант обыкновенно бывает скромен – не кричит: «Я – талант». Надо вначале его отыскать – в «гуще» жизни, на горячем участке, на переднем крае, где заново сотворяется жизнь, где трудовые процессы, работа требуют от людей не только навыка и физической силы, но еще и присутствия духа, наличия «царя в голове».
В хорошей книге герой непременно отмечен печатью таланта, то есть обаяния неповторимой, не заменяемой в данных обстоятельствах творческой личности. Впрочем, талант – это еще и свойство души, он может себя проявить в сфере чувств...
Удача необходима пишущему человеку, как огню для горения кислород. Степень удачи, конечно, прежде всего зависит от способностей литератора. Но я знавал многих способных и даровитых людей, которым не удалось переступить пределы собственного изначального жизненного опыта, подключиться к системам высокого напряжения, к энергии времени. Их не печатали, не принимали. Они обижались, еще более замыкались в себе и сходили с дистанции. Никто из них так и не понял, в чем дело.
Фигура литературного неудачника ни в ком не вызывает сочувствия. Писательство – это профессия, не литкружок, не любительский клуб. Профессии литератора противопоказана самодеятельность. Писатель должен многое знать, в том числе и правила своей профессии.
Писатель пишет не для себя. В каждой книге зафиксирован определенный момент общественного самосознания: так мы живем (или не так, как хотелось бы), так поступаем, мыслим, ликуем, горюем, любим, ненавидим. Первопричина многих литературных неудач – в несовпадении волны вещания – авторского «я» – и волны восприятия – общечеловеческого «мы».
Писатель пишет не для себя...
Хотя и для себя тоже – тут диалектика творчества. Пишет и радуется вместе со своими героями, наслаждается вместе с ними каким-нибудь дивным видом, восходом солнца, пережитым однажды счастливым озарением. Писателю надобно полюбить изображаемый им мир, живущих в нем людей, надо быть сопричастным их жизни и чаяниям настолько, чтобы ощутить их как содержание собственного ума и сердца.
Как бы далеко ты ни уезжал, в какой бы «гуще жизни» ни обретался, надо, чтобы обретаемый заново материал был твоим, и только твоим. Чтобы тебе, как автору, удобно, привычно и равноправно жилось среди твоих героев, в том месте, которое ты избрал местом действия очередного произведения. И чтоб хорошо, интересно, радостно было тебе писать...
Бывает, участие автора словно и незаметно в повествовании, как незаметен труд лесовода, посеявшего лес, когда лес разросся, стал чащей. Бывает, приемы строительства выступают наружу: конструкция, план, технология кладки, подгонка одних частей и деталей к другим. Можно заметить, когда автор свободно владеет материалом, верен логике жизни, психологии реально бытующих людей и когда он прибегает к волевому усилию, сводит концы с концами, выстраивает лица, события, обстоятельства в придуманные им фигуры, когда приукрашивает естественный ход вещей, а когда обедняет, схематизирует, упрощает всеми нами переживаемую, такую многосложную, многотрудную, многоликую, многоцветную и такую прекрасную жизнь.
О тех произведениях, где личность автора выявляется с наибольшей полнотой, где автор дал волю собственным мыслям и чувству, говорят, что в них сильно лирическое начало или еще: «лирическая струя».
Здесь перекинут мостик из поэзии в прозу. Без поэзии проза сухомятна, как званый ужин без вина...
Поэзия ближе к природе, или, лучше сказать, натуре, нежели проза со свойственной ей «железной примесью» рассудочности. Многие прозаики начинали свой путь со стихов или же с легкой, подвижной, непосредственной, наиболее натуральной для выражения юного, чувственного восприятия мира лирической прозы.
Сам я начал писать задолго до того, как попал в Сибирь, оказался в центре общесоюзных движений, строительств и освоений. Однажды, в бытность мою студентом, я приобрел ружье – курковую тулку, сел в поезд, идущий в северном направлении, и чем дальше уезжал от города, тем лучше мне становилось: промелькивали за окном такие милые сердцу березки, сосенки, избы деревень со стелющимся над трубами дымом, вешние воды, алеющие на заре, лилово-синяя гряда дальнего леса, потоки расплавленного низкого солнца в оконном стекле – все находило отклик во мне. Душа обретала покой, слиянность с природой и в то же время делалась зрячей, чуткой, особо отзывчивой на попутные впечатления. Душа (да простится мне это старинное, так и не объясненное до сих пор наукой словечко) преисполнялась сознанием наступающего блаженства. Я ехал именно в то место, возвращался – после долгой отлучки– в тот мир, откуда я родом, и волновался, предчувствуя встречу с ним. Эта лирическая взволнованность, нарождение чувств и предчувствий, рой необыденных мыслей, как говорится, теснили грудь. Нужно было их облечь в столь же необыденные, красивые слова...
Это состояние известно каждому грамотному человеку, его запечатлел – в одиннадцатой строфе стихотворения «Осень» – Александр Сергеевич Пушкин:
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге...
Пальцы просятся к перу почти у каждого смертного хотя бы раз в жизни (легкие рифмы могут навстречу и не бежать); стоит ему куда-нибудь уехать, из города в деревню или из деревни в город, – надо поделиться новыми впечатлениями.
Новизна впечатлений способствует обновлению мыслей и чувств, подвигает на творчество, хотя бы в эпистолярном жанре.
Циркулирующие внутри данного города или района письма едва ли содержат в себе пейзажные зарисовки, взволнованные описания домов, лестниц, дворов, поездок на городском транспорте. Иное дело письма издалека, по крайней мере километров за сто от адресата, – в них бывают не только семейные просьбы и пожелания, но и картины. Почти в каждом смертном дремлет художник...
Художественная проза многим обязана эпистолярному жанру, доступному всем.
В пору моей юности деревня очень сильно еще отличалась от города, жила в избах, строенных дедами, сохраняла бабушкины иконы по углам, не глядела телевизора, не тарахтела мотоциклами, знала цену ухвату и чугуну.
Никому не приходило в голову воспевать какие-то особые, только деревне присущие ценности, будь то резные наличники, иконы старого письма, вековечные лавки и столешницы, туеса и лапти или же добродетели нравственного порядка: исконное чадолюбие и трудолюбие селянина, близость к земле, пантеистическое отношение к природе и пр. И тем более никто не оплакивал утрату сельских, дедушкиных и бабушкиных привычек, навыков, ремесел. Утрату и не замечали перед лицом неоценимых материальных, социальных, культурных благ, которые давал колхозной деревне социалистический промышленный город. В процессе стирания граней между городом и деревней городу отдавалась всецелая гегемония.
Так оно было и есть на самом деле, соответствует объективной реальности развития нашего общества, основанного на союзе рабочего класса с колхозным крестьянством. Но постепенность стирания граней во второй половине шестидесятых годов и особенно в семидесятые годы, в пору научно-технической революции, уступило место решительной ломке устоев сельского жизнеустройства, сложившегося в веках, переводу трудовых процессов и самого быта деревни на новые, индустриальные рельсы, с узкой колеи на широкую, на ту самую, по которой все шибче катится вперед поезд нашей современности.
Вот здесь-то, на стыке двух исторических эпох, в самом эпицентре слома и созидания, приобретений и утрат, одновременно с кульминацией развития возникла так называемая «деревенская проза» – литературное и общественное явление, по созвездию талантов, по нравственной высоте идеала, по философской глубине постижения действительности, по гуманизму и верности правде жизни соизмеримое с образцами русской классической литературы этого ряда.
Разумеется, такое сопоставление условно. Речь идет о лучших, широко известных произведениях последнего десятилетия, знаменовавших собою не только новый шаг в восхождении советской литературы к художественным высотам, но также и новую степень демократизма; творческие индивидуальности, художественное кредо авторов, как бы ни были они ярки, не кричат о себе, вроде отступили на задний план, дав место самовыявлению народной души, ума, таланта. На авансцену выступила целая череда героев без каких бы то ни было обязательных прежде атрибутов и знаков отличия. Самих авторов и не видно в этой череде, они (авторы) скромны. Я помню, сам слышал, один из них так однажды сказал: «Мой литературный талант, если он есть, сам по себе ничего не значит; в России, даже в моей деревне, есть люди талантливее меня – я должен помочь им высказаться».
Я понимаю условность, может быть, даже некоторую намеренную придуманность наименования «деревенская». Сами писатели, прозванные «деревенщиками», отрицают эту рубрику. Но даже и отрицание – дружное, в духе единомышления – свидетельствует о самоценности литературного явления, разумеется сопряженного с общим процессом. Явление всеми замечено и окрещено: «деревенская проза». Надо думать, под этой рубрикой оно и войдет в историю нашей литературы. А несогласие авторов верстаться под общую рубрику останется в личных архивах каждого из них.
Как бы там ни было, «деревенщики» наши – сами выходцы из деревни, крестьянские сыновья; каждый из них написал о своей деревне – будь то большое село или же деревенька – из опыта собственного детства, отрочества, юности, со слов своих матерей: отцов у большинства из них унесла война. Их деревенский опыт – непосредственный житейский, социальный и трудовой, мускульный, именно такой опыт Лев Толстой считал необходимым и предварительным условием художественного творчества.
Разумеется, писатели-«деревенщики», равно как и «горожане», живут купно в больших городах, представляют собою творческую интеллигенцию. Деревенские, то есть вернее будет сказать, национальные, народные, обретенные в веках ценности они сознательно толкуют, даже и воспевают в своем творчестве в их абсолютном значении, вылущенном из-под житейских слоев. Это не сельское бытописание – Литература.
Можно предположить, что если бы некий писатель имярек или даже целая группа писателей жили оседло в деревне, перемежали бы хлебопашество и другие сельские радости-тяготы с густописанием деревенской прозы, и если бы сама деревня или, скажем шире, провинция отличалась от города малоподвижностью и духовной рутиной, как это было в начале века, то, надо думать, в творчестве «деревенщиков» прозвучало бы нечто подобное чеховскому: «В Москву! В Москву!»
Но все это было уже и, по счастью, минуло. Речь идет не о противостоянии деревни городу, «деревенской» литературы «городской». Лучшие наши писатели, обращаясь мысленным взором к селу, то есть к историческому пути своей родины, далеки от каких бы то ни было антиурбанистических концепций. Деревенская проза одушевлена не идеей ценностного предпочтения, а, наоборот, идеей взаимодействия, синтеза, гармонии всего лучшего, жизнеустойчивого, прогрессивного, гуманного, то есть подлинно коммунистического.
Кажется, это понятно и самоочевидно, когда читаешь лучшие произведения деревенской, впрочем и городской тоже, прозы, написанной по-живому, с непосредственным, кровным авторским сопереживанием всему происходящему в романе, повести или рассказе. Понятно также и то, что «воспевание» не обходится без «оплакивания», если речь идет о ломке вековечных устоев, даже и во имя созидания: ломка не обходится без утрат. И сами слезы, если душа готова откликнуться на утрату, прочищает наши глаза.
Понятно, да не всем. «Деревенская» проза, появившись на свет, утвердив себя как литературное и общественное явление, вызвала на свою голову не только венец похвал, но и поток критических отповедей как по части художественной формы, языка, так и по части идейного содержания, его соответствия генеральной линии современности. Зачастую критика этого рода переступала границы разбираемых сочинений и обращалась на личности их авторов, поскольку сами эти личности оказались, в житейском смысле, общедоступными, не защищенными от молвы, любопытства, всякого рода приятельства, лжеприятельства и т. п. Однажды я слышал, как уважаемый критик делился с аудиторией, охваченной интересом к литературе (градус этого интереса в наше время весьма высок) результатом одного своего социологического эксперимента, направленного на развенчивание «деревенской» прозы: «Я говорю ему: «Вася (или же Витя, Феня, Валя, Федя – все равно; наши критики разговаривают с «деревенщиками» на «ты»), вот ты печешься о мужике, соболезнуешь его горестям, а сам живешь в городе, в трех-, четырех-, пятикомнатной квартире... У тебя есть автомобиль, холодильник, телевизор...» И он не нашелся, что мне ответить на это».








