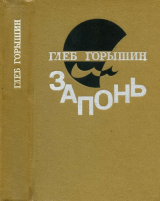
Текст книги "Запонь"
Автор книги: Глеб Горышин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц)
Неделю я бился, искал концы. Как в воду... Из Карголья немцев вышибли – я туда. Людей там ни души. Два раза фронт проходил – всех подмело. Как ветра в поле искать...
– Да-а-а, тяжелое дело, – сказал Астахов.
– Ну, каково было мне, Иван Николаевич, судите сами, вдвоем остался я с сынишкой малым. И выхода нет никакого. Нет выхода, кроме как фронт. Договорился я с заведующей детского дома, – эвакуировались они, – чтобы Гошку взяли с собой. С Каргольем связь восстановилась, до военкома я дозвонился, говорю ему: «Так и так, или берите меня добровольцем на фронт, или я за себя не ручаюсь». Он мне говорит: «Не можем, Степан Гаврилович, не подлежишь мобилизации». Вот поверите, Иван Николаевич, иду я по улице, ноги не держат, и в глазах темно. Степанида Тарасовна, бухгалтер мой, попала навстречу, после она мне рассказывала: «Лица, говорит, на вас не было, Степан Гаврилович». А я ее даже не слышал, не видел. Белого свету я невзвидел, Иван Николаевич. Как жить мне было – не знал. Апатия во мне появилась к жизни. Как обухом по голове оглоушили. Домой притащился, бутылку на стол, на боевой взвод пушку поставил...
– Ну, хватит, Степа, – сказал Астахов. – Давай за Алевтину Петровну. Поехали. Найдется еще, бог даст... Давай. Нам нельзя раскисать. Нам столько с тобой предстоит, что черт его знает. Кроме нас некому. Лес мы с тобой вроде умеем рубить...
– Умеем-то умеем, – сказал Даргиничев. – Так ведь не топоры. Люди живые…
4
Астахову было в ту зиму тридцать четыре года, Даргиничеву – тридцать два. Астахов родился в большом селе Велгощи на реке Стреже, возле озера Ильмень. Батька его был сплавщик, гонял по Стрежу барки ильменских купцов. Зимой астаховский батька рубил в купеческих рощах березу, сушил ее на швырок. Купцы торговали дровами в городе. Швырок там шел нарасхват. Продавали его вместе с барками, барки тоже распиливали на дрова.
В семье у Астаховых было семеро мальцев и дочка. Изба их в пять окон стояла на Стреж фасадом. Старшие нянчили младших, возили их на тележках с сосновыми кругляшами вместо колес. Если младшие сильно ревели, не унимались, то их прокатывали на рысях по булыжному тракту. Тележка тогда грохотала, и младшие только икали от страха и тряски, а плакать уже не могли.
У Стены Даргиничева батька погиб на германской войне. Деревня, где Степа родился и малость подрос, называлась Юрзовка. Она отстояла от Велгощ на двести верст к северу. Весна приходила в Юрзовку неделей позже, чем в Велгощи, и липа там не росла, а ольха да осина. Детство похожее было у Степы и у Ивашки Астахова. Штанов им не выдавали, только ситцевые рубахи по колено. Ловили они пескарей да раков. И сами, как раки, как пескари, не вылезали из речек, пока грело солнце. Головы их становились такого цвета, как летний песок на речных косах.
Но жизни сложились разно у Ивана Астахова и Степы Даргиничева. Степа закончил свою науку во втором классе церковноприходского училища. Нужда увела его из деревни тринадцати лет. В ту пору барки и лодки ходили по Мариинской системе на конной тяге. Степа стал коногоном – артельным мужиком. Ребра широко расперли его грудную клетку, как еловый шпангоут – днище лодки-соминки.
Иван Астахов закончил семь классов и поступил в лесной техникум. Под воскресенье он бегал к себе в деревню – сорок семь верст по столбам – и запасался хлебом на всю неделю. Семнадцати лет он вышел из техникума с дипломом помощника лесничего. Звание это ставилось высоко с незапамятных пор. Был лесничий хозяином леса; хозяин, как водится, барин. Помощник его – барчук.
Шли двадцатые голы – время освоения бывших помещичьих, купеческих рощ и угодий. Деревня отряхивала с крыш замшелую дрань и солому, повсюду зашоркали зубья продольных пил, забелели в порядках венцы новых изб. С утра собирались к лесничеству со всей волости ходоки и просители. Лесничий гонял по проселкам на паре раскормленных жеребцов. Помощник лесничего ездил верхом или в бричке. Повсюду им был уготован почет, самогон, соленые рыжики со сметаной, ночлег на перинах. Не раз порывались Ивана Астахова поженить на румяных селянских невестах, но быстрые ноги да конь уносили Ивана.
От батьки он унаследовал дух артельности, компанейства, эту легкость сближения с людьми и азарт гостеванья. О нем говорили по селам: «Он парень простой». Иван стал начальством в неполные восемнадцать. Народная власть подняла, посадила его в седло. Был юный помощник лесничего предан властям, безотказен и расторопен в работе.
Когда к Ивану прибыл в лесничество на каурой кобылке старший Астахов – за лесом, —он отвел ему гриву спелой сосны. Вскоре на берегу Стрежа рядом со старой астаховской избой срубили новый дом, покрыли янтарным сосновым тесом. Семья была велика у Астахова, хотя старшие рано повыходили в люди.
Иван женился двадцати одного году на учителке, свозил ее на смотрины в Велгощи. Батьке не понравилась учителка, была она тощевата, курила папиросы, и не хватало ей простоты. Но – вольному воля. Иван уже стал к той поре лесничим, крупной в округе величиной. Учителка его, отучительствовав в деревне два года, уехала в город поступать в институт. Уехал с нею Иван. В лесном тресте ему дали должность директора леспромхоза, которого еще не было пока: надлежало его создать в нерубленых спелых лесах.
По-разному воздвигали свои карьеры Иван Астахов и Степа Даргиничев. Степа командовал лошадьми, орудовал рычагами первой в лесу машины, он накручивал гайки, наваривал втулки, постигал геометрию пилорам и физику четырехтактного двигателя. Иван же Астахов наращивал голос, кричал в телефонную трубку, грозил, поощрял, наставлял. Он работал с людьми, возвышаясь немного над ними. Работа не набивала ему на ладони мозолей. Но и не давала эта работа досуга; даже в ночное время звонил телефон. Суждено было Астахову стать капитаном на деревянном, сосновом, еловом, березовом корабле.
Леспромхоз Ивана Астахова вырос, лесу хватало тогда. Год за годом Астахову доставалось знамя ЦК союза и наркомата, Ивана хвалили, награждали его значками, путевками в Ялту, в Алушту. В те годы писали в газетах: «Кадры решают все».
Съездить в свою деревню Велгощи недосуг было директору леспромхоза, да и не тянуло его туда. Лет десять не был Иван в родительском доме, корил себя за это, морщился: «Вот же, ей-богу, закрутишься тут – и батьку родного забудешь...» Наконец собрался, поехал.
Обошел отцову усадьбу. Заглянул в нечищенный хлев, но за вилы не взялся. Крыша сквозила в хлеву. Почесал ботинком бок чумазому поросенку. Принес два десятка ведер, полил огород. Земля, навоз и скотина – эти запахи, эта работа – были знакомы Ивану. Он бегал с ведрами к огороду в семь лет и в пятнадцать... И все казалось ему теперь ненужным, чужим. Он отсюда ушел, оторвался. «Серость, – думал Иван, – бескультурье, деревня-матушка. Сколько надо ей еще, чтобы сдвинуть с места...»
Глава третья
1
В декабре сорок первого года великим морозом сковало землю и реки. Снег не ложился, медлил, лед зеленел, трескался. Звук получался сухой, пистолетный. Где-то лопались мины, тявкала автоматическая зенитка, напряженная от стужи земля доносила дрожь канонады. И опять тишина воцарялась над плоским, вымерзшим, обесцвеченным северным краем.
Зимнее, без лучей, солнце висело над крышами Вяльниги. Заборы сломали все на растопку, дома обособились, будто не стало улиц, будто стога перепрелой соломы нахлобучились в бросовом поле. Рдели окна от солнца, словно стога запалили и с первым ветром взовьется пожар.
Полыхали Гошкины щеки. Он крикнул:
– Папка, мы с дядей Васей видали там аэросани. Как все равно самолеты. С пропеллерами, а крыльев нету. И колес у них нету. А как же они поедут на лыжах без снегу?
– Снег будет еще. Хватит снегу. Беды с ним не оберешься, – сказал Даргиничев. – Давай-ка на квартиру, там вам покушать оставлено, нагулялись.
– Войска тут нагнали – у-у-у! – сказал Василий, шофер. – Так-то пройтиться – вроде и нет ни души. По дворам замаскировавши. А главная сила у них вон в лесу...
Солдатик в серой шапке с завязанными ушами, раскосый и круглолицый, в ботинках с обмотками, в шинелке с чужого плеча, вывернулся из проулка, прыгнул через канаву, дико взглянул на штатских мужчин и мальчонку, вдруг побежал, и путался в полах шинели, и озирался, спешил.
Даргиничев и Астахов спустились к реке, и тут на припаромке морская пехота спросила у них документы. Старший патруля был в полушубке, опоясанном флотским ремнем, с ним два матроса в черных шинелях. Ресницы и брови патрульных заиндевели, но ворота распахнуты были у них, чтобы виднелись тельняшки. Морская пехота скалила зубы, приплясывала, говорила, что там, за рекою, на пятачке было им дюже гарно, там дали они гансу прикурить. И рыбки хватало.
– Как шарнешь толу грамм восемьсот – хоть три судачка оглушишь, а то и пяток. Лешей, язей этих разных мы и за рыбу там не считали.
– Вот погодите, – сказал Астахов, – скоро девушек ленинградских сюда привезут. Берите шефство. Мы возражать не будем. Только чтобы работать могли в лесу...
Патрульные с интересом спросили, когда привезут, и сколько, и где будут жить эти девушки...
– Найдем местечко, сказал Астахов. – Подселим поближе к морскому флоту.
На середине Вяльниги, на склизком зеленом пузыристом льду, лесное начальство встречал председатель райисполкома Макар Тимофеевич Гатов, в романовском полушубке и в портупее.
– А я уж за вами собрался, – говорил он, тряся руки Астахову и Даргиничеву. – Коноплев вызывает по ВЧ: «Где Астахов?» А мы знать ничего не знаем. На Афониной Горе пробка, войсками забито, в ночь навряд ли проехать смогли бы из Кундоксы. А и проехали, дак... где ночевой стали? В Сигожно, может, там сторож на рейде живет... Не знаем, что и ответить Виктору Александрычу Коноплеву. Он требует с нас, а мы сидим, как Робинзоны Крузо на острове. В кабинете Семена Аркадьича Журавлева, первого нашего секретаря, все и ночуем.
2
В райкоме звонил аппарат ВЧ. Астахов схватился за трубку:
– Только прибыли, Виксандрыч... так точно... будет сделано... сегодня же начинаем... гражданского населения нет... два конюха и сторож – старики... будет сделано, Виксандрыч. Желаю всего наилучшего!
Астахов снял шапку, расстегнулся, достал папиросы. Все потянулись к его «Казбеку». Всех было, кроме Астахова, трое в кабинете: первый секретарь Журавлев, предрика Гатов и Даргиничев.
– Шестьсот девушек отправлено к нам из Ленинграда, – сказал Астахов. Машинами через озеро и на Войбокало... Там погрузят в теплушки. Первая партия, если не разбомбили, уже должна быть в Кобоне... Суток через трое надо встречать. Там половина у них на ногах не стоит. Дистрофия... Это вот я вам привез командира бабьего батальона. Директор Вяльнижской сплавной конторы Степан Гаврилович Даргиничев. Прошу любить и жаловать.
– Как-нибудь знаем мы Степу маленько, – сказал Журавлев.
– Уж кого-кого, его-то знаем, – улыбался Гатов. – А с девок-то с этих, какая ж работа-то с них, Иван Николаевич? Их же надо ложить в лазарет, да кормить, да обихаживать. Им же приварок нужен, а мы и сами тут всухомятку живем. Хватишь когда кусок по-волчьи, ляскнешь зубами, и ладно. Прифронтовая полоса.
– Вода хоть близко, – сказал Даргиничев. – Нащепал вон лучины, самовар задул, хлебай чаи до седьмого пота. Как казахи говорят: чаю не пьешь – сила нет.
– Это всенепременно, – сказал предрика. – Самовар нам как мать родная...
Все поглядели на меднобокий, с прозеленью, ведерный самовар, стоявший в красном углу. Он вдруг издал скулящий тоненький звук, будто сладко зевнула собака.
– Живой, – обрадовался Гатов, – когда разогревали его, а все голос подает...
– Разместить где – найдется, – сказал секретарь райкома. – С жильем более-менее мы выкрутимся, а вот питание – это уж вы позаботьтесь, Иван Николаевич. У нас фондов нет. Да и заниматься некому: вот Макар Тимофеевич и я – мы на казарменном, не отлучаемся из райкома.
– Разве на вояк понадеяться... – сказал Макар Тимофеевич. – Вон аэросанный батальон стоит, у них харч особенный. Их для рейда готовят через озеро. У них там каждый третий – инженер, а два остальные – техники. Пущай разбирают невест, хоть поштучно, хоть скопом.
– В общем, дела такие, – сказал Астахов, хмуря лоб, – хлеба им дадим по шестьсот грамм – есть такая договоренность. И водки по двести грамм в день. Это тоже решенное дело. Из Устюжны будем водку возить. Дрянная водка, но, говорят, содержит в себе калории.
– Ну, развеселая жизнь начнется, – причмокнул Гатов.
– Другого пока что у нас ничего в леспродторге нет, – сказал Астахов. – Шаром покати. Вот Степан Гаврилович знает. Придется как-то выкручиваться, изыскивать местные ресурсы.
– Мы с Иваном Николаевичем ехали из Кундоксы, – сказал Даргиничев, – в аккурат под Каргольем самые бей, дали там немцу по первое число. По самой линии фронта мы газовали. С пулеметов по нас лупцуют почем зря. В одном месте там лошадей, я заметил, у дороги валялось набито. Должно быть, накрыли обоз. Которые живы еще, встать пытались, а которые закоченели совсем. Сытые лошади, справные, овсом, видать, их кормили. На таком морозе они пролежат, хоть бы что, до весны. В сохранности мясо будет, и воронам не расклевать. Снежком укроет – и амба. Я место приметил, от Борков на восьмом километре. Народу там нет ни души, фронт на запад переместился... Обустроимся немножко, организуем туда экспедицию. Конины там тонна с гаком наберется. Тонна с гаком... Пригодится в хозяйстве...
– Машина есть у вас, вам, конечно, проще... – начал предрика с жалостной нотой в голосе.
– Подыщем пару машин, – сказал Астахов.
3
Солнце так и не поднялось. Разъяснившийся с утра край неба скоро стал остывать, погасать. День наполнен был сумраком, сизым туманом... Такие дни за Полярным кругом считаются ночью. Тянуло ветром. Невидимый в воздухе снег струился, тек, завихрялся на гулком зеленом льду Вяльниги.
– Надо сегодня мне выбираться, – сказал Астахов, – а то навалит снегу, застряну здесь у тебя. Пять леспромхозов еще и две сплавные конторы на мне. Все стало, все заморожено, снегом засыплет – и концов не найдешь.
Они поднимались берегом к вершине яра. Даргиничев шел впереди, за ним Астахов, местные власти. По дороге пристроился к ним капитан, командир батальона.
Вяльнига открывалась внизу. Ее схватило, сковало морозом в разгар работы. Лес нахлынул на запонь, нажал и замерз. Запечатленное во льду, виднелось суставчатое, связанное из плотов тело запони. Стояли с опущенными головами краны на рейде. Снег прибывал и забеливал реку, ровнял. Исчезали следы движения, жизни, трудов. Жизнь стала, оцепенела земля и вода. Солнце коснулось леса, разгорелось багровым заревом...
– Вот это сила! – сказал капитан, облегчив себе душу незначащей, но исполненной воодушевления фразой. – Весной даст ума. Не удержишь. Что ты? Такая махина как попрет...
– И нам секим башка будет, – сказал Даргиничев. – Упустим в озеро – будет секим башка.
– Кровь с носу, а надо держать, – сказал Астахов.
Но как удержишь без мужиков, без тросов, без катеров? Как удержишь ее, эту запонь, если снежной будет зима, если в мирные годы в высокую воду едва удерживали? Что со льдом-то поделать? Весь вяльнижский лед будет тут...
– Триста тысяч кубов заморожено, – сказал Астахов. – И мы отвечаем за них головой. Другого лесу нет у нас. И срубить до весны едва ли мы что успеем. Топливо в Ленинграде сейчас ценится наравне с хлебом. Обком и Военный совет поставили нам задачу спасти этот лес и организовать его отправку через озеро. Других реальных возможностей как-то решить вопрос с топливом нет. Нам обещают помочь, но особенно рассчитывать на помощников не приходится. Обстановка крайне тяжелая. Самим надо выкручиваться... Да... Всего остается: январь, февраль, март, апрель... – Астахов загнул четыре пальца в кулак, остался оттопыренным только мизинец. – В мае наш лес должен быть в Ленинграде... Последний лихтер отсюда отправили в августе. Флот на озере весь разбит. Запонь удержим – сразу же встанет вопрос о транспортировке. Заново строить придется суда...
– Троса нужны, – сказал Даргиничев. – Без тросов это гиблое дело. Лежни сопреют за зиму, сотрутся, будет труха. Труха будет.
– Тут нервы нужны ой-ой-ой, потолще тросов, – сказал командир батальона.
– Троса будут дело решать, – сказал Даргиничев. – Не будет тросов – значит, нужно повесить дощечку на нашу лавочку: «Все ушли на фронт». Как в гражданскую войну. Хоть какой толк да будет. А без тросов тут и подступаться нечего.
– Ты, понимаете, брось эти штучки – на фронт, – рассердился Астахов. – Вот здесь нам фронт доверен – и будем держать. Будем тросы искать, доставать... – Астахов смягчился. Гнев его поднялся мгновенно, сломал ему брови и тотчас опал.
Спустились к запони, щупали тросы, лазили по заломам. Остановились на рейде возле печально поникшего крана «норд-вест». Что-то скрипело под ветром в его организме, покряхтывали сочленения железных суставов.
– Вот на нем я начинал работать кранистом, – сказал Даргиничев, – в тридцать пятом году. Двигатель на нем тогда был – «висконсин». Хороший кран. Послушный в управлении. Смотря как им управлять, конечно... Ушли, бросили, даже грейфер не закрепили – от же народ...
– Не до того было, – сказал Журавлев. – Немцы вон перли.
– Все уже было у нас подготовлено переходить на партизанское положение, – сказал Макар Тимофеевич.
Метель крутила вовсю.
– Ну ладно, – сказал Астахов, – надо мне выбираться, пока не поздно. Будем подыскивать тебе, Степа, заместителя и снабженца. Больше броней пока что нам не дадут.
Глава четвертая
1
Поселился Даргиничев в Сигожно в конторе сплавного участка на втором этаже. Контора была обитаема, не настыла. Жил в ней оставленный тут бессменный дежурный, мужик небольшенький, не взятый в армию по давнишней болезни. Работал он прежде не то завскладом, не то кладовщиком. Семью отправил вместе с другими, когда надвинулся фронт. Сам остался, раз был назначен дежурить. С дежурства он отлучался редко – уходил на Вальнигу в магазин отоварить карточку. Иногда в конторе звонил телефон, дежурный брал трубку. Это его проверял секретарь райкома или председатель райисполкома. Дежурного звали Петр Иванович.
– ...Ну что ж, Петр Иванович, – сказал дежурному Даргиничев, – будем с тобой работать. На мне руководство, на тебе производственный отдел. И снабжение. Василий, шофер, управляющего в Карголье повез, вернется – его поставим главным механиком. Штат нашей сплавной конторы, выходит, укомплектован. Укомплектован штат. Гошка галок будет считать...
Гошка, серьезно слушавший разговор, громко втянул ноздрей воздух.
– По совместительству, может, когда придется тебе и приглядеть за парнем. Чаем его попоить. Такие у нас дела, Петр Иваныч. Три мужика – вся наша семья. Без женского персоналу остались. Мама наша гораз далеко.
– Само собой, Степан Гаврилович, – сказал Петр Иваныч, – мальчонка с соображением. Не маленький уж. Что надо, все будет сделано... Какой разговор.
– Некогда разговаривать нам с тобой, – сказал Даргиничев. – Через трое суток сюда прибудут блокадницы. Девушки ленинградские. Наголодались, на ногах не стоят. Будем с ними запонь держать.
– Ай-я-яй, – покачал головой Петр Иваныч. – Ну, дела-а...
– Хозяйство я у тебя принимать по акту не буду, – сказал Даргиничев. – Так, на слово поверю. Кони есть у тебя, хоть одна завалящая лошаденка?
– Одна, Степан Гаврилович, некована стоит, ноги сбивши. Овсом прикармливаю ее, два мешка, что списанный был, мышами весь трачен. На живодерню ей и дорога. Кожа да кости.
– Пошли-ка взглянем на твоего рысака, – сказал Даргиничев. – Под седло не сгодится, значит, пустим на суп. Супу нам много потребуется, Иваныч, барышень наших кормить. Накормим – будут работать. А не накормим – грош нам с тобой цена. Грош цена.
– Какой с его суп, – сказал Петр Иваныч. – Только разве на мыло...
По цельному снегу они протоптали след до конюшни. Дверь в ней была подперта колом. Когда отворили ее, на свет поднялась лошадиная голова; шевельнулись ноздри, нижняя губа отпадала, выставлялись желтые зубы. Лошадь прядала ушами, как бы приветствуя и жалуясь, о чем-то прося. Она лежала на боку. Заржала, будто закашляла. Уронила голову. Подтянула ноги, хотела подняться, но не могла. Пегая ее шкура была в инее, ноги все в язвах, в парше.
Даргиничев достал из кобуры наган. Лошадь косила на человека выпуклым влажным дымчатым глазом. Даргиничев приставил наган к ее уху и выстрелил.
Вышли на снег. Петр Иваныч подпер дверь конюшни колом.
– На первый случай будет обед, – сказал Даргиничев.
– Какой уж обед. Собаки и те погре́бают... – пробормотал Петр Иваныч.
– Ты вот что... – Даргиничев вдруг задохнулся, губы стали синюшные. – Ты мне это брось. – В голосе его зазвучала гневливая астаховская нота. – Нам еще, может, похуже, чем собакам, придется тут лиха хватить. Ты если брезговать будешь собачьим кормом, я тебя выкину отседа, как труп. Как труп, выкину. Сами мы живы будем или помрем – это дело четвертое. Четвертое наше дело с тобой. Мне, может, пулю в себя пустить проще, чем в эту животину. Дело нехитрое. А вот шестьсот человек накормить, которые не евши, может, три месяца... Чтобы была животина ободрана и разделана к вечеру. И чтобы я от тебя не слыхал больше этого паникерства, Петр Иваныч...
– Будет сделано, Степан Гаврилович. Я тут один сижу дак... Ум за разум заходит...
– И еще ты вот что... Ты из каких сам-то мест?
– Здешний я, кыженский родом... Из Кыжни.
– Ты, Петр Иваныч, прикинь-ка в уме, кто где остался из стариков, по деревням и на лесоучастках. Я их всех знал, да оторвался последнее время. На Сярге должны быть деды и на Шондиге кадровые лесовики. Без них нам кто будет пилы-то править да топоры точить? Пилить девка научится, а вот развести пилу – уж ау, ни одной не дано. Деды нужны нам, пущай пилы правят. Рыбка есть в Вяльниге. Девок пущай учат уму, а рыбку ловить мы их настропалим. Без стариков нам ее не достать оттуда. Мережу не всякий поставит. А деды могут. И место знают.
– Да как не знать, Степан Гаврилович... Была бы сетка, а рыбка никуда не девши, вся тут по ямам стоит…
2
Позвонил Астахов, спросил, как дела.
– Мясозаготовкой занимаемся, – сказал Даргиничев. – Какая ни есть животина осталась – секим башка ей делаем. Но только что без хлеба не выживем, хлеба не подвезут – считай, что вторая блокада. Без хлеба работы с людей не спросишь. Не подымешь людей.
– Ты, Степа, вот что, – сказал Астахов. – Ты будь готов к тому, что хлеб тебе зерном отгружать будем. Сегодня в ночь отгрузим вагон. Муки ни мешка нет на складе. Вологодскую рожь нам дают. Немолотую. Придется тебе самому помол организовать. В колхозах позондируй почву, может, где мельничка сохранилась...
– Навряд ли, – сказал Даргиничев.
– Ну, в общем, так... Гляди сам. Считай, что еще повезло нам с зерном. Зерна много, хватит на первое время. Потом все отрегулируется, войдет в норму. Мельничать и пекарить тебе пока что самому придется. Ты будь готов к этому.
– Понятно, Иван Николаич, – сказал Даргиничев. – Снежку нам подвалит – беда... Из снега хлеба не спечь. Будет зерно – это уже полдела. Уже полдела...
– На мельников нам приказано переквалифицироваться, – сказал Даргиничев Петру Иванычу. – Рожь вологодскую будем молоть. Мельницы не нашлось в Вологде. А нам хоть в ступе толочь... От мудрецы, ей-богу...
– Водяные-то мельницы порушены все, – сказал Петр Иваныч. – Паровая была во «Второй пятилетке», дак тоже из строя вышоццы. Раскулачена вся подчистую.
– Под Афониной Горой, в Шондорицах, мы ехали, у меня на механизмы наметанный глаз, там вроде локомобиль из снега торчал, у скотного двора в аккурат...
– Дак там у них, в Шондорицах, оказия такая была – жмыхи мельчили для скота. Два жернова там и привод к локомобилю. Прошлый год у них она пущена была, тарахтелка. Не знаю, цела ли, нет сей год...
– Сколько тут до Шондориц?
– Двадцать семь будет по дороге, а если через Кондозеро, лесом, то меньше. Не знаю, хожено нонче или нет.
– Не хожено, дак я первый буду, – сказал Даргиничев. – Надо у них насчет локомобиля разнюхать. Нам бы он очень сгодился на первый случай. Председатель-то в Шондорицах не Андрей ли Иваныч, хромой?
– Он. Один и оставши в Шондорицах над бабами командир. Вековечный председатель. Хороший мужик, работящий. Теперь его дело тараканье, на печке усами шевелить. Батальон у них размещенный в Шондорицах или дивизион, уж не знаю. От командира части все и зависит, без его разрешения ни в лес за дровами, никуда.
– Поглядим, что он за гусь, этот командир, – сказал Даргиничев. – Вызывать меня будет Астахов или из Вяльниги кто, скажешь, пошел по колхозам выяснять наличие местных ресурсов.
3
Морозный, сыпучий снег раздавался под ногой, идти было легко. Следом за валенками тянулись две борозды, в отвалах борозд искрились снежинки. Лес обрядился в изморозь. Протаяло небо, повсюду легли подвижные, легкие синие тени. Ночью зайцы натоптали тропы. Через дорогу прыгала белка. Прометала ровную стежку лиса. Синица пикала на березе. Прянули из-под снега тетерева, оставили по себе радужный сполох снежной пыли.
Даргиничев радовался ясному дню в лесу. Радовалось его тело: ноги, грудь, горло. Смоляной студеный воздух вливался в него, свежели сердце и голова. Он шел все скорее. Сияло над лесом солнце. Лес справлял свой престольный праздник. Обида, смута, потемки последних дней растворялись в морозной ясности. Вчера еще жизнь казалась Даргиничеву рухнувшим домом. Хотелось рвануться из-под обломков, уйти, оскалить по-волчьи зубы и драться. Вчера он не думал о завтрашней жизни. Все клином сошлось...
Директор сплавной конторы шел зимним лесом, лес был вверен ему. Лесная тишь означала простой, непорядок. Он прикидывал, как тут разбить делянку, сколько будет кубов, сколько потребуется лошадей на трелевку. «Ладно, будем здесь воевать, – говорил себе Степа. – Второй фронт откроем. Откроем второй фронт. Если о жизни думать, без лесу не обойдешься. На кресты тонкомеру нарубить – нехитрое дело. Если в лес направляют людей – значит, думают жить. Значит, думают жить...»
Даргивичев думал об Алевтине, жене, и опять выходило, что только работа давала надежду. Только работа. «Нуль без палочки я сейчас, – думал Степа Даргиничев. – Директор без коллектива, без производства, без техники. Бреду по лесу, как дезертир. Только обреза не хватает».
Он улыбнулся: «Раз нужен лес, то без Степы не обойдутся. Не обойдутся без Степы. А там поглядим».
4
В Шондорицах топились печи, пахло березовым дымом, снег иссечен машинными, тракторными колеями, слышался звук моторов, по улице двигались люди. Все эти знаки артельной, деятельной жизни обрадовали Даргиничева. У околицы его остановил часовой. Степа спросил, как найти командира части. Командир оказался навеселе, и что-то сразу не понравилось Даргиничеву в этом капитане, в отекшем, несколько обветренном, мятом его лице. Капитан хмурил взгляд, глаза его, навыкате, с кровяными прожилками, мутнели, он засовывал пальцы под широкий ремень, сгонял к спине складочки гимнастерки. Живот был у капитана не то чтобы велик, но был! «Не гораз ты лиху хватил ка войне, – подумал про капитана Даргиничев. – Гарнизонный пьянчуга».
– Ты кто таков? – спросил капитан.
Даргиничев был моложе этого капитана. Свежий он был, загоревший на зимнем солнце. Глядел открыто, светло, с почтительным добродушием.
– Директором я назначен сплавной конторы в Вяльнигу, товарищ капитан. Вот мои документы.
– Ты кто таков? – сказал капитан. – Видали, ребята, директора? – обратился он к сидевшим с ним за столом лейтенанту и старшему лейтенанту. – Вот он, вот, живой директор. Мы тут воюем, а он директор. Над кем ты директор-то, а?
– Да я и сам не знаю, ребята, – сказал Даргиничев, весело глядя в глаза капитану. – Решением обкома и Военного совета меня сюда направили. Одна кобыла мне тут оставлена была в подчинение, и той пришлось секим башка делать. На суп пустить.
– По твоей роже не видно, чтобы ты сильно недоедал, – сказал капитан.
– Нам грех в лесу жить да зубами ляскать. Мы как бобры: дерево спилим, тем и сыты бываем. Как бобры... Если надо, и спиртику нацедим. Нашего, лесорубского сучка.
– Еще тот бобер, – сказал капитан. – Мы сейчас с него шкуру сымем... – Он хрипло засмеялся, оборвал смех кашлем.
Даргиничев, улыбаясь, достал из висевшей у него на боку сумки черную бутыль, заткнутую шматком газеты, выставил ее на командирский стол. Он сказал, что вскорости принимает себе в подчинение шестьсот ленинградских девушек. Тут поблизости их расселит. Лейтенанты оживились.
– Ты, директор, мастак заливать, – сказал капитан. – Жаль, тебя с нами не было, когда нас десантом выбрасывали на остров Лункулансаари. Скучно нам там было. Может, повеселил бы.. – Капитан оглаживал под ремнем гимнастерку, как-то вскидывался, озирался, гневно супил брови. Спирт не веселил капитана.
Когда Даргиничев заговорил о жмыходробильной машине, капитан, не дослушав, сказал:
– Не дам. Пригодится в хозяйстве.
Даргиничев глядел на капитана по-прежнему весело, добродушно. «Или так стукнуло в Лункулансаари, может, по сих пор не очухался... Контуженный, видно...»
– Придется обращаться к вашему начальству, вплоть до командующего армией, – сказал Даргиничев. – Нам такие права даны решением Военного совета...
– Иди ты, директор... – сказал капитан.
С тем и ушел Даргиничев из командирской избы.
5
Стемнело уже, но в деревне слышался скрип шагов по умятому снегу. Кто-то кашлял, кто-то смеялся, где-то рдела цигарка, мяукала гармошка. Сквозь щели закутанных окон цедился свет. Даргиничев помнил, как рано засыпала эта деревня в мирное время, только брехали собаки. «Собак-то извели, что ли, – подумал он, – или командир ихний распорядился... Дундук гарнизонный. Ну ладно».
Он отыскал председателеву избу, в ней не было света. Председатель вышел на стук – в опорках, в кальсонах, сухонький, колченогий, Андрей Иваныч...
– Даргиничев я, Степа, помнишь, лодку-то первый раз на Кондозере пускали с мотором, я ее привозил... – Даргиничев говорил веселым, громким голосом.
Председатель зажег лучину. Голубенькие старые его глаза слезились.
– Да ты военный теперь или как? – выспрашивал он Даргиничева.
– Не, мы к лесу с тобой приставлены, Андрей Иваныч. Директор я Вяльнижской сплавной конторы. Без лесу много не навоюешь. И блиндажа не построишь. Лес нам поручено партией и правительством заготовлять. Ленинград поддерживать лесом. Там уж они все дома деревянные сожгли подчистую, хлеб спечь у них дровишек не хватает. На нас с тобой у них надежда, больше не на кого. Мне полномочия даны – мобилизовать все внутренние резервы. Вот ты и есть для меня внутренний резерв. Без твоей подмоги я нуль без палочки. Лесная промышленность без колхозника – все равно что армия без пехоты.








