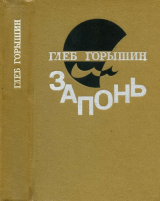
Текст книги "Запонь"
Автор книги: Глеб Горышин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 26 страниц)
Разрушение тишины
Летом я живу в каюте дебаркадера. Утром выйду на божий свет, и если солнце, то перелезу через перила и спрыгну в Кундорожь. Дух перехватит вначале, потом хорошо. Наколю дров, снесу охапку на летнюю кухню, зажгу огонь под плитой. Выйдет егерь Евгений Васильевич Сарычев, скажет:
– Ну, что на завтрак будем готовить?
– Картошку можно пожарить с тушенкой, – отвечу я. – Да чаю.
– На леднике сала шматок здоровый, – скажет егерь, – я на веревке его опустил, в корзинке. А хочешь – сеть иди похожай. На жареху-то всяко попалось. Я съезжу травы накошу для кроликов, а ты давай действуй. Шуруй!
Я жарю картошку. Слышу: прошли мотоёлы – и тихо. Стрекочут и свищут скворцы. А вот брякнул цепью егерь внизу на бону. Приходит ко мне на кухню. Садимся к столу и медленно, сладко жуем. Громко хлебаем дегтярной заварки цейлонский чаек, давим в стаканах сощипанную неподалеку в траве землянику. Мы не торопимся. День огромен, не почат. Нам хватит хлеба, круп, табаку и рыбы. Нам хватит работы. Мы курим и щуримся, как коты.
– ...Ну что, убил? – спрашивает меня егерь. – Я спал уже, слышал выстрел.
– Убил, – отвечаю я и горжусь. – Целый час ее караулил, сидел, выцеливал. Близко, дробь кучно летит, надо точно поймать на мушку...
Мы выходим на берег, спускаемся к забранной сетью загонке. Тут сидит на гнезде подсадная утица Катя, тут двенадцать ее утят. Вчера это было: двенадцать. Сегодня считаем: десять. В гнездо повадились крысы. Вот здесь я сидел, караулил с ружьем... Подымаем убитую мной накануне зверюгу с длинным голым хвостом. Кидаем подальше в речку.
– Ну ладно, Евгений Васильевич, – говорю я егерю, будто прошусь у него отпустить. – Пойду посижу...
– Надо, надо, – напутствует меня егерь. – Только давай откачаем сначала воду из дебаркадера. А то затонешь еще, погибнешь с недописанной статейкой в руках.
– Давай.
Помпа скрипит и чавкает. Льется вода из чрева нашего дебаркадера в Кундорожь.
– Ну хватит, – прошу я егеря. – Теперь не затонет. Можно садиться к столу.
– Садись, – разрешает егерь. – Валяй.
Забираюсь в каюту. Вижу в окошко утиный садок, Катя вывела желтых утят на травку. На шесте подвешена мертвая сойка. Прошмыгнула крыса в траве. Задергиваю занавеску, мучаюсь над бумагой, над первым словом…
«Лето нынче солнечное. Земляникой обсыпало низкие берега речки Кундорожи. Медленно движутся, огибая озеро, гонки леса, поваленного зимой на Вяльниге, Шондиге, Кыжне. Штабеля березовых и осиновых дров проносят высоко над травянистыми берегами самоходные баржи.
Старший егерь Кундорожского охотничьего хозяйства Евгений Сарычев поднимается на крышу и оглядывает в бинокль губу: не забрался ли кто в тростники с моторной косилкой. Шуметь в тресте мотором запрещено: можно распугать утиные выводки.
Стук моторов на канале, лязг кранов, гудки пароходов и крики чаек растворяются в сосредоточенной тишине великих водных пространств, лесов, тростниковых плавней. Тишина плодоносна. В тишине подымается новое поколение леса, движутся косяки судаков, сигов и лососей, тучнеют луга, полнятся дичью озера.
...Недавно на Кундорожи был слышен лай охотничьих псов: Шмеля и Карая. Лай не вредил тишине. Какое жилье в лесу без собачьего лая?
Востроухий, норовистый Шмель прибыл на Кундорожь молодым подпеском; в первую зиму он взял живьем четырех куниц и трех енотов. Он отыскал среди торосов на озере нерпичью лежку и разнюхал однажды медвежий след...
Шмеля привез Евгений Сарычев. Они жили вначале вдвоем, вместе мерзли и грелись: у печки. Они разговаривали друг с другом, а когда по утрам распахивали дверь на волю, в снега, то видели лосей, глодавших кору на осиновых чурках.
Шмель вырос в добрую зверовую лайку, с приветливым и нетерпеливым, с азартным, веселым и злобным на охоте нравом. Пяльинские охотники завидовали Сарычеву. Егерь Сарычев любил своего пса и гордился им. Он мечтал именно о такой собаке, и она досталась ему к сорока годам. Он ее воспитал.
Карай был жесткошерстной немецкой легавой. Он появился на базе летом, его привез охотовед Людвиг Блынский. Охотовед приехал на Кундорожь из города вместе с женой, ребенком и тещей.
Он был десятью годами моложе егеря, по службе Сарычев подчинялся ему. Охотничали и рыбачили они порознь. Блынский взыскивал с егеря за служебные упущения и отлучки. Сарычев отлучался в город: там осталась его семья. Но жили егерь с охотоведом под общей крышей – без ссор.
Карай уступал на охоте Шмелю. Он за год задавил только одну курицу в Пялье и отбил из стада одну овцу. По зверю он не пошел, на утиных охотах был бесполезен.
Блынский завидовал Сарычеву. Ему тоже хотелось сдавать куничьи шкурки первым сортом – по двадцать рублей за штуку. Он стрелял ворон и сорок и получал премию за вороньи лапки. Он собирал чаичьи яйца в кочкарнике и потчевал семью яичницей. Он разорял зимние хатки ондатры и получал установленный профит за ондатровый мех. Он ставил капканы на горностая. Один раз выстрелил по токующим на берегу турухтанам и уложил зараз восемь штук позабывших об осторожности весенних щеголей – куличков. Зимой он застрелил из малокалиберной винтовки прибившуюся к теплу синицу. Стрелял он и по лебединым стаям...
Блынский был вооружен жизненной философией – точной программой действий. Он при случае говорил: «Озеро с его рыбой и дичью отравляет Сонгострой. Оно и вовсе погибнет, когда выстроят Верешинский нефтеперерабатывающий завод. И реки тоже погибнут. Нужно попользоваться здешним зверьем, рыбой и птицей, пока не поздно».
Блынский учился в сельскохозяйственном вузе, затем поступил на завод, сделался слесарем-сборщиком высшей квалификации. Он говорил, что зарплата его достигала ста семидесяти рублей. Но он покинул завод и город и перебрался в лесную глушь – этого требовала его философия.
Он принялся разводить кроликов на усадьбе охотничьей базы и подсчитал, что каждый кролик даст ему пять рублей дохода за мясо да пару рублей – за шкуру.
В установленные сроки Блынский посылал в хозяйство отчеты о поголовье зверя и птицы на подведомственной территории. Егерь Сарычев был не нужен ему, добычливая собака Шмель раздражала охотоведа. Блынский считал, что с обязанностями егеря справилась бы его жена. Планы Людвига были обширны и обоснованы коммерчески. Он собирался взимать немалый оброк с болотного зверья и птицы.
Семнадцатого июня Сарычев отправился в дальний угол своего хозяйства, на берег озера – ставить столбы с аншлагами. Вместе с ним пошел Виталий, семнадцатилетний сын, студент техникума. Сарычев сказал, уходя, что они заночуют с Виталькой на берегу, порыбачат и наберут земляники...
Наступила белая ночь. Лаял Шмель, оставленный хозяином на цепи. Потом пес замолчал. Все стихло.
И вдруг тишину над Кундорожью и над губой разорвало истинным смертным собачьим воплем. Шмель взвыл и сразу умолк...
Егерь возвращался с сыном домой. Их выжили комары из лесу. Они кинулись на собачий вопль и звали Шмеля...
На тропинке, ведущей к губе, им повстречался Людвиг Блынский. Он нес на плече сачок.
– Где Шмель? – крикнул Сарычев. – Его кто-то прибил...
– Он погнался за лошадьми, – ответил Блынский, – они его могли вполне лягнуть...
– А ты что здесь делаешь?
– Надо сетку сходить проверить, – сказал Людвиг.
Сетку никто не ходил проверять по ночам. Вой Шмеля послышался с этого места, где стояли сейчас Блынский и Сарычев.
Людвиг пошел разболтанным шагом на берег губы, Сарычев с Виталькой кликали Шмеля, искали его по кустам.
...Они нашли его в ста метрах от тропинки. Он был убит ударом по голове, стащен с тропинки и брошен в густой ивняк.
Блынский явился с озера, в сачке у него прыгали два карася.
– За что ты убил мою собаку, сволочь? – сказал Сарычев, чувствуя огромную, непомерную усталость.
– Я не убивал твою собаку! – вскрикнул Блынский.
Он, не прибавив шагу, дошел до дому и скрылся в дверях.
Сарычев тяжело переставлял оцепеневшие ноги за ним следом. Все напряглось в нем, зачерствело до хруста. Он сел на порожек летней кухни и закурил. Было тихо, светло, на губе покрякивали утки.
– Какое зверство, – сказал Сарычев. – Какая подлость. Какой точный расчет. Он поманил за собой Шмеля, приласкал его, увел на берег губы и там убил. Он думал, что я не вернусь сегодня в ночь. Он знал, что я не смогу здесь жить без собаки...
Сын Сарычева Виталька плакал. Он еще не терял в своей жизни друзей. Он еще не встречался с низкой людской жестокостью. Он любил Шмеля, больше ему не с кем было дружить на Кундорожи...
– Давай ему тоже что-нибудь сделаем за Шмеля, – сказал Виталька. – Давай мы его убьем...
– От этого нам не станет лучше, – сказал Сарычев. – От убийства никому не бывает лучше.
Из дому выбежал Блынский и крикнул:
– Я не трогал всю собаку! Я ничего не знаю.
– Ты убил Шмеля, сволочь, – сказал Сарычев, – и взял сачок, чтобы спрятать концы в воду.
...Сарычев сидел на порожке вою ночь. Всю ночь дышал огонек его папиросы. Ночь была незаметна, светла.
Блынский вышел к нему еще раз и сказал:
– Ну да, я убил Шмеля сгоряча. Карай запутался на своюке. Шмель его повалил и грыз. Я не мог удержаться и психанул... Я находился в состоянии аффекта... Сколько тебе заплатить за твою собаку?..
Утром жена Блынского играла с его тещей на берегу Кундорожи в бадминтон. Сарычев все еще не вставал с порога и пристально глядел на игравших женщин, протирал слезящиеся от курева и от солнца глаза. Происходящее было нечеловечески странно...
Когда вышел Людвиг, Сарычев сказал ему:
– Я тебе даю на сборы два часа. Чтобы тут не было ни тебя, ни твоего семейства, ни твоего вонючего пса... Иначе я за себя не ручаюсь...
Сарычев смотрел на Блынского, курил и щурился, и Людвиг понял, что спорить с этим человеком ему нельзя. Он быстро собрал свои вещи, и пяльинский егерь Птахин отвез его на Гумборицкий причал.
К вечеру на базе собрались пяльинские охотники. Они написали письмо в охотничье общество с требованием наказать убийцу Шмеля и никогда не подпускать его больше к лесам и водам. Под этим письмом поставили подпись четырнадцать человек.
Сарычев обратился в общество с просьбой разобраться в том, что произошло на Кундорожи в белую ночь.
Сарычева вызвали на административную комиссию. И Блынского тоже вызвали. Блынский сказал, что убил собаку в состоянии аффекта, что пяльинские охотники имеют зуб на него, потому что он был с ними строг по закону.
Эта версия устроила комиссию. Блынского решили отозвать с Кундорожи, но от должности охотоведа он не отстранён...»
Я пишу эти строки, сидя в каюте дебаркадера на Кундорожи. Мне видно, как собирает последки своих вещей Людвиг Блынский, – он приехал вместе с полномочной комиссией. Хозяйство Сарычева подвергается пристрастной ревизии...
Зыбится кругом текучая, бурая вода. И замывает следы лодок, уносит в озеро мазут и ошметки коры от приплывших по каналу гонок леса.
Сидит на пороге егерь Сарычев. Курит. В глазах у него мука и сомненье. Он говорит:
– Как я буду теперь без Шмеля? Виталька спросит меня: почему убийцу не наказали? Что я ему отвечу?
В душе у Сарычева разрушена тишина, необходимая каждому человеку для труда, для созревания доброй мысли.
Дневник егеря
В августе пропала мошкара, небо сделалось свежим и синим, заря – высокой и алой; ночь обрела наконец исконную черноту. Старший егерь Сарычев к открытию охоты покрасил базу в салатный цвет. Вместе с пяльинским егерем Птахиным зачалили и разделали приблудную гонку леса, загнали в дно Кундорожи сваи, срубили и обшили тесом новый бон. Засмолили лодки, заготовили, натесали еловых жердей на пропёшки, выставили их сушиться на солнцепек. Каждый день в назначенный час становились к пожарной помпе, выкачивали воду из чрева старого дебаркадера.
Егерь Птахин, известный больше по имени Ваня, а также Ванюшка, приплывал на большой, свежевыкрашенной, как адмиральский катер, моторке подсобить по работе Сарычеву, а также похожать свою сеть в губе. Подолгу он не оставался на базе, уплывал с карасями в корзине. За долгие отлучки и неусердие в добыче его шпыняла жена – учителка Пяльинской школы. Все лето Ванюшка носил треух из ондатровых шкурок. Он сам его сшил и хвастал, что голова не потеет, что солнце ее не берет.
Наезжал на Кундорожь и гумберицкий егерь Кононов, в тертой форменной куртке лесоохраны с зелеными петлицами и в фуражке с околышем. Он привозил для старшего егеря-бобыля молока в бидоне, садился в летней дощатой кухне к столу и разговаривал долго, сладко щурясь и шепелявя, будто ел вкусную тюрю из хлеба и молока.
– Сей год моя баба теленка в лето пустивши дак... – рассказывал Кононов. – Минькой его нарекли. Телята и все у нас Миньки али Маньки. А поросята – Степки. Кот Васька был, только корюшку жрал, а лососку – ему ни сыру́, ни варену не надо. И баб ён не признавал за людей. Как, бывало, Глафира, за Мишкой Колодиным-те она замужем, в сплавной конторе у Степан Гаврилыча Даргиничева он работает сплавщиком, как только она дверью шарнет, зачем забежит к моей бабе, так Васька – скрысь под кровать и оттеда шипеть на ее почнет, на Глафиру-то. А мушшина придет – он нюхат. Если корюшкой отдает, весной-те все мушшины у нас корюшкой пахнут, даже больше, чем сама корюшка, пропитаемся, – так он мурчит и лапой по голенищу поскубат: давай ему корюшки... А пес был гончий еще перед финской войной – Рогдай, тот наладивши был на бабу мою посягать. Лапы ей на плечи вздынет и валит наземь. Настырничал – спасу нет. Кобелина здоровый. Я поеду в губу мережи потрясти, а сердце все не на месте. Рогдай под дверью сидит, а баба моя на осадном положении... На баб и на книги он был азартный. Как в избу ворвется, то книгу где ни на есть обнаружит и начисто всю сожрет. Три дневника егеря съел у меня, а директором охотхозяйства в Вяльниге тогда был Русин Семен Евстигнеевич. Он приезжает ко мне: «Андрей Филиппыч, а ну покажи-ка дневник егеря, чего ты там накорябал». А я ему говорю: «Семен Евстигнеевич, пес проклятый сожрал без остатку». Я молодой тогда был, пылкий, давай его школить ремнем, Рогдая-те. Убить покушался дак... Митрию отдал, завхозу лесничества, за стог сена...
– Ты лучше мне про собак не говори, Андрей Филиппыч, – прерывает старого болтуна Сарычев, – это мне как по больному солью... Давай мы сегодня дровами займемся, а то директор приедет, скажет: «Вам за что тут зарплату дают?»
Дел на базе невпроворот. Кононов побалагурит – и нету его: дома корова да Минька-телок. Птахин потарахтит мотором и сгинет. Нужно ему накосить тресты в губе для своей коровы. Пучок леса – кубометра четыре – обсыхает на забереге. Ваня спроворил, зачалил его весной, когда шел сплав. Нужно теперь сговорить мужиков на лесоучастке, чтобы пришли с моторной пилой, – на два часа работы.
Сарычев варит рыбу с перловкой, вынесет кастюлю на берег Кундорожи и покличет: катя, катя!» И пришлепают по воде к нему кати – подсадные крякухи с подрезанными крыльями, а за ними лётом утята. Сарычев кличет: «сенька, сенька!» И селезни мчат по воде, подымая буруны, долбают клювами утят, отторгают от корма. Отцовские чувства их не томят. Шумят отросшими крыльями дети сенек и кать.
...Накормив пернатое стадо, егерь садится в лодку с косой и мешком. Накосит мокрой травы на краю болота за Кундорожью. Снесет ее в кроличью загонку. Красноглазые алчные звери жуют, жуют, жуют...
Вечерами Сарычев зажигает лампу, выкручивает фитиль, садится к столу, включает транзистор и долго пробирается сквозь толчею джазов Нового, Старого света – к внятной, простой, старомодной музыке. Джаз не звучит на Кундорожи: темп жизни иной. Время медлительно. Егерь сидит над синей разграфленной тетрадью, над служебным своим дневником. Думает. Начинает писать: «12-е августа. Утром объехал губу. Видел утиные выводки в Ляге и Чаичьих озерках. Молодые утки доверчивы, подпускают на двадцать метров. Задержал браконьера с ружьем. Ружье отобрал, марки ИЖ-54. Заводской номер К-2199. Днем было тепло и солнечно. Завершили с Птахиным строительство бона. Разделывали с Кононовым дрова. Выводки подсадных уток слетаются на кормежку. Взамен убитого Блынским Шмеля пяльинские охотники подарили месячного щенка. Утверждают, что западносибирская лайка. Назвал Комаром. Думал о подлости Блынского. Он говорил на административной комиссии, что убил Шмеля в состоянии аффекта, защищая своего Карая. Но ведь Блынский увел Шмеля за двести метров от базы, он приманивал его и ласкал. Шмель не пошел бы со всяким. У Шмеля был гордый и независимый нрав. Какая подлость!»
Сарычев хочет еще писать о Шмеле, но нет места, графа одного дня заполнена в дневнике егеря и прихвачено завтрашнего пространства.
Скребется и плачет под дверью дымчато-рыжий и толстогузый Комар. Быть может, когда-нибудь он подымет, поставит, насторожит свои уши и будет лайкой, веселым, умным и злобным в лесу на охоте зверем. Быть может, хвост Комариный загнется баранкой. Но пока что он свесил свой хвост, скулит и трясет ушами.
Булькает музыка. Кто-то где-то играет в футбол... Прожит день. Он уложился в четвертушку тетрадочного листа. Сарычев достает дневники прежних лет, читает записи своих предшественников. Вот так же садились они к этому столу вечерами. Обмакивали ручку в чернила... Записи коротки! «Был в лесу. Ничего не видал...»
Сарычев улыбнулся. Человек пришел в лес, но лес был ничто для него. Как утро и полдень. Как воздух. Березы были ничто. Цвели рябины – и это ничто. И сосны, и елки, и ландыши, и пенье дрозда, и лосиная скидка – ничто. «Был в лесу. Убил пернатую птицу...», «Выступал на собрании по случаю 47-й годовщины...».
Предшественники Сарычева писали разными почерками, но всем одинаково трудно им было растянуть свой прожитый крохотный день на большое пространство бумаги – на четвертушку листа.
Сарычев топит плиту, жарит картошку с салом, пьет чай. Руки и плечи его тяжелы после весел, косы, топора. Теперь бы лечь и уснуть, но сердце еще не готово ко сну, в сердце нет тишины, Сарычев читает давешнее письмо из дому. Жена ему пишет:
«Женя, родной! У нас как будто все сносно. Витальке скоро исполнится восемнадцать лет. Ты не забыл, что двадцать седьмого августа у него день рождения? Он хочет, чтобы ему подарили гитару. Теперь это модно – бренчать на гитаре. Теперь все бренчат. Ну что ж, пускай. Мы подарили ему два года назад мотоцикл – он был счастлив. Теперь пусть будет еще и гитара. Богатые подарки нам стали не по карману.
Я хожу на поддувания. Мой т. б. как будто стабилизировался, не прогрессирует ни в ту, ни в другую сторону. Мой врач опять предлагает мне лечь в больницу поколоться, но я отказалась. Мне не хочется оставлять Витальку одного. Я верю, что он не свихнется со своими мотоциклами и гитарами, но мне спокойнее, когда я возле него. Очень нам не хватает тебя. Ты знаешь об этом, это старый наш разговор. Ты зовешь меня к себе на Кундорожь, но без дела я ведь не могу, а крестьянская работа на земле для меня навсегда заказана.
Я знаю, тебе тяжело сейчас, Виталька мне все рассказал, и вот теперь я еще прочла в газете про эту ужасную историю со Шмелем. Как это низко – убить беззащитную собаку. Ты помнишь Есенина? «Счастлив тем, что целовал я женщин, мял цветы, валялся на траве. И зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове»... Но я хочу сказать тебе, Женя, и о другом. Ты должен понять, как тяжело мне быть без тебя одной месяцами с моим т. б. Тебе сейчас больно – убили твою собаку. А моя боль не оставляет меня ни на минуточку. Я не жалуюсь, нет. Я знаю, как ты любишь природу, леса, крестьянскую работу и как томишься служебной тягомотиной в городе. Но что же, что же нам делать, Женя, родной мой?..»
Сарычев курит и горбит спину над столом. Он полысел со лба, ресницы и брови его выгорели добела, лицо все сжато в кулак, загар на нем медно-багровый и медная шея. Маленький крепкий нос петушиным клювом. Проступили под свитером лопатки-лемеха, большие руки лежат на столе, иззубрены, заскорузли. Сильный сорокатрехлетний мужчина плачет и курит. Выходит на волю. Комар ему тычется в ноги, и лижет, и дергает за штанину. Он любит и просит любви. Живая душа – он не может один. Егерь гладит щенка по лобастой, ушастой его голове, по мягонькой шерсти.
Тепло, черно, тихо; только бормочет землечерпалка на канале да брезжит свет над рейдом в Гумборице. Да гукнет выпь на губе, сполохнется спросонья кряква. Сарычев слушает, слушает ночь. Земля и вода спят и дышат. Дыханием движим воздух; наносит спелые запахи сена, березы, грибов, проросшей стоялой воды. Сарычев думает, что со светом надо податься в сосновую гриву в загубье, за ночь там народится белых грибов: парно. Сарычев думает, почему, почему люди бывают жестоки друг к другу, почему эта скудная, чистая, работящая жизнь, которую он выбрал себе, почему его скромное счастье причиняет несчастье другим? Почему?
«Дурачок ты, Комарик, – говорит Сарычев щенку. – Ничего ты не понимаешь. У меня был товарищ, дружище мой Шмель. Он меня понимал. А ты недотепа еще. Тебе поиграть бы. А у меня больная жена. Ей надо, чтобы я каждый день приходил со службы домой. А мне уже пятый десяток. Ты понимаешь, пятый... Я умею косить, пахать, рубить дом, охотиться на куницу. А в городе это не нужно. Вот, братец, такие дела. Я крестьянин, а жизнь меня загоняет в город. Ну, ничего, мы с тобой постараемся устоять... Ну что ты, что ты, собака, что ты лижешь меня? Я ведь горький на вкус. Я весь прогорклый».
На губе лопнул выстрел, будто большая рыба ударила по воде. Сарычев выносит из дому ружье, гремит на бону цепью. Вот взялся мотор. Проснулась река. Застонал дебаркадер. Пролетели какие-то птицы. Размигался на небе спутник-шпион. Вскрикнула чайка. Запахло тревогой. Разнеслись над водой гневливые голоса мужчин.








