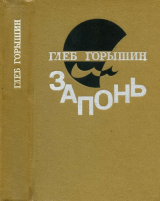
Текст книги "Запонь"
Автор книги: Глеб Горышин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 26 страниц)
– Дак ведь какая помощь, – сказал Андрей Иваныч, кряхтя, дымя цигаркой, – людей-то в колхозе всего ничего, себе-то за дровами съездить в лес – целая история. С хлебом плохо. Хлеб весь съели подчистую.
– Хлеб есть у меня, рожь вологодская, немолотая. Не знаем вот, как на муку ее переделатъ. И водка устюжинская есть. Поможешь мне дело поставить в лесу, будешь со мной работать рука об руку – внакладе не останешься. Мы люди с тобой свои. Простые люди. Договоримся. Это вон капитан у вас с гонором. Ну ничего, надо будет – подправим ему мозги. Армия пусть воюет, Андрей Иваныч. А нам с тобой хозяйство вести. Хозяйство в стране нарушится – значит, пиши пропало.
– Дак а ржи-то много ли у тебя? – интересовался председатель.
– Хватит! – заверял Даргиничев. – Смолоть ее надо, Андрей Иваныч, жмыходробилка у тебя, я видел, брошенная валяется. Тебе она ни к чему, а нам бы сгодилась на первый случай. И локомобиль под открытым небом ржавеет. У нас есть в Вяльниге локомобиль, да золотник у него сработался... Золотник – это сердце локомобиля.
– Дак это конечно, – соглашался председатель.
Так они разговаривали, трещала сосновая лучина, роняла в деревянную бадью летучие перышки.
Потом они вышли на волю. Деревня затихла совсем. В намерзлом заиндевевшем небе ежились звезды. Председатель стучался в окошки, в одно, другое. Его пускали в избы. Вместе с ним выходили на улицу женщины в кацавейках. Андрей Иваныч привел под уздцы запряженного в дровни мерина. Артелью раскачали завязшую в снегу жмыходробилку. Но не хватило артели силенок поднять жернова на дровни. Андрей Иваныч снова стучался в глухие окна. Не скоро, не вдруг выходили на председателев зов шондоринкие бабы. Но выходили.
Жернова уложили в сани. Председатель почмокал, подергал вожжи: «Н-но, пошел». Мерин дернул, мотнулся вправо, влево, полозья жестко заскрипели, как по песку.
– Спасибо, бабоньки! – громким шепотом сказал Даргиничев. – Вот ужо муки намелем на этой вашей оказии, блинов напечем. Масленицу справим.
Бабы глядели на него в сомнении, как бы в полусне, еще не поняв, для чего и откуда взялось, верить этому мужику в романовской шубе или не к добру его появление в ночи.
Так и остались они. Председатель Андрей Иваныч вывел воз на зады деревни. Дорога значилась на снегу, бежала к близкому лесу.
– Тут за дровами у нас езжено, – сказал председатель. – Делянка ваша оставлена с лета. С той стороны к ней кыженские ездят. В аккурат на большак и выберешься. Все патрули минуешь.
– Спасибо, Андрей Иваныч, – сказал Даргиничев. Он долго держал в своей большой пясти председателеву руку, крепко ее сжимал. – За нами не пропадет.
Он взял вожжи, почмокал мерину, мерин пошел и скоро стал белый, заиндевел.
...Через день Даргиничев приехал в Шондорицы на тракторе «сталинец», укрытом – для маскировки – сосновыми ветками, с приказом из штаба дивизии выдать локомобиль. Капитан выделил в помощь команду – размонтировали локомобиль, погрузили в сани.
– А ты, директор, настырный парень, – сказал капитан. – Такие мне нравятся.
Глава пятая
1
Ленинградских девушек везли через озеро на машинах. Дорога от Осиновца до Кобоны была не то что длинна, но долга, изрыта, искрошена бомбами. Машины ползли от полыньи к полынье, от бомбежки до бомбежки. Морозная метель залетала в фанерные кузова-фургоны, кто ехал живым на Большую землю, кто помер, – не разобрать. Мертвые тесно сидели в ряду с живыми, упасть им некуда было. В Кобоне их отнесли в сторонку, сложили в маленький штабель. Живых накормили горячим супом с мясом, с картошкой. Довезли до железной дороги, погрузили в теплушки.
На станции Вяльнига девушек встречали солдаты, подхватывали, опускали на землю, передавали с рук на руки, подымали в кузова подъезжающих военных машин. Лица девушек чуть виднелись под ватными шлемами-колпаками, ноги не помещались в голенища валенок и сапог. Голенища разрезаны были. Состарились девушки за три блокадных месяца, Многих мучил понос. Справляли они свою нужду тут же вблизи вагонов. Глаза у всех обратились вовнутрь, застеклели, задернулись сизым декабрьским ледком.
Солдаты заглядывали в лица девушкам, говорили что-то, даже пытались шутить, но девушки не улыбались. Оттаять они не успели еще, хотя в теплушках топились железные печки.
Высадкой и отправкой руководил Даргиничев. Помогали ему Петр Иванович, заместитель, шофер Василий и председатель райисполкома Гатов. Тут же были военные власти. Вместе с солдатами подхватывали они девушек под руки – несли. Самых слабых Даргиничев отправлял в свою полуторку, там настелили сено. Одна была в рыжей собачьей шубейке, в фетровых ботах и байковых лыжных штанах. Ноги ее не опухли, не вздулись, как у других, но идти она не могла. Даргиничев поднял девушку в рыжей шубейке, взял на руки. Гатов хотел подсобить.
– Не надо, – сказал Даргиничев. – Унесу. В ней весу, как в Гошке моем.
Только глаза, нос и губы девушки виднелись из-под оренбургского платка, пропущенного под мышки, увязанного за спиной. Глаза глядели темным-темно – один сплошной зрачок, обведенный светло-желтеньким ореолом. Ноги девушки истончились на нет. Даргиничев чувствовал у себя в руках косточки, прутья. Он заглянул сверху ей в лицо, сказал:
– Курносая. Счастливая будешь. Курносым везет.
– Как вам не стыдно, – сказала девушка, – такому здоровому, толстому, быть здесь, когда в Ленинграде умирают каждый день от голода тысячи. Как вы можете? – В голосе девушки не было раздражения, гнева. Она будто разговаривала с собой, размышляла. – Неужели вам не совестно каждый день досыта наедаться и ничем не рисковать, когда кругом гибнут тысячи лучших людей? Я бы таких, как вы, судила в трибунале, – сказала девушка, – и расстреливала, чтобы вы даром не ели хлеб тех, кто отдает свою жизнь.
Руки Даргиничева прямые сделались, жесткие.
– Бодливой козе бог рог не дал, – сказал он. – Расстреливать просто, девушка... Из живого человека покойника сделать – ни ума не надо, ни силы. А вот из могилы человека вытянуть – тут силенка нужна, тут не справишься не поевши. Вот тебя я из могилы тяну, еще не знаю, вытяну ли, и еще шестьсот таких, как ты, тянуть надо. Да лесу нарубить, чтобы тем, которые в Ленинграде остались, совсем не закоченеть... Лес рубить – нужен крепкий загривок. – Даргиничев нес девушку на вытянутых, прямых руках, разговаривал с ней. – Это не то что приговора подписывать да в расход пускать. А мы лесорубы. Вот так-то, курносая. Родились на свет мы, чтобы жить. На самих на себя нам негоже крест ставить. Надо будет кому – значит, спишут в расход. Нехитрое дело. А нам с тобой, курносая, выжить приказано, мы с тобой еще можем пригодиться на трудовом фронте. На трудовом фронте нам с тобой велено воевать. На меня побольше ответственности возложено, на тебя – поменьше... Тебя как зовут-то?
– Нина Игнатьевна, – сказала девушка и улыбнулась чему-то. – Нечаева. Мой дальний предок по материнской линии был декабрист...
– Ну вот, станешь на ноги, Нина Игнатьевна, пооткормишься, мясом обрастешь – и продолжай свою линию на здоровье. Ребята вон в аэросанном батальоне – дай боже, ниже лейтенанта у них никого нету.
– Инженер-капитаны в основном да инженер-майоры, – сказал Макар Тимофеевич Гатов. Предрика не отставал от Даргиничева, в одиночку было ему не по себе среди этих по-каторжному состарившихся девушек. Чувство вины возникало в нем, огорчало. Горько, жалостливо опускались углы его губ, он качал головой: – Ай-я-яй, до чего же их довели. Они еще молодые, а пожилым-то там каково?
Даргиничев устроил Нину Игнатьевну в кузове своей полуторки, сам сел к рулю. Наказал Петру Иванычу с Гатовым:
– Сотню еще в Сигожно направляйте, остальных в Кыжню и Шондигу. Я поеду пригляжу, как они там размещаются.
– Журавлев утром звонил из Шондиги, – сказал Гатов. – Матрацев у них там только двадцать две штуки...
– Вповалку первую ночь переспят. Не в санаторий приехали, обойдутся. Потом надо будет сенцом разживиться у шондижских бабок. Пущай потрясут свои сеновалы.
– Навряд ли кто даст, – сказал Петр Иваныч. – Зимы-то много еще. Деревня сей год коровами только и кормится. Корове нечего исть – тогда и зубы на полку.
– Ничего, – сказал Даргиничев, – мы им дровишек подкинем, погреем бабок, они сговорчивее станут. А нет, дак вон у нас в тупике вагон устюженской водки стоит. Договоримся.
– Бабы-те скорее сами себе дровишек напилют в лесу, чем наших работничков ждавши, – сказал Гатов и горестно покачал головой. – Гляжу я на них, Степан Гаврилович, когда еще толку с них ждать. Еще ходить-то им нужно учиться. Как зимние мухи. Не знаю. В глубокий бы их тыл, в Ташкент куда-нибудь, а не в наши леса...
– Оклечетают, – сказал Даргиничев. – Живучий народец. Питерский. Поехали, Вася.
Василий достал заводную ручку, минут десять лязгал, пока подал голос мотор. Паршивенький был этот газогенераторный мотор, самовар, не машина.
Ехал Даргиничев тихо, щупко, на первой скорости. Дорогу вчера прошли бревенчатым угольником, раздвинули снег. Слышно было, как он скрипит под колесами. Перелетали дорогу тетерева, рассаживались в вершинах осин.
– Вон оно, мясо-то, – улыбался Василий. Но Даргиничев не отрывал глаз от неприкатанной рыхлой дороги. У околицы в Сигожнс навстречу машине выбежал Гошка. Но отец не взглянул на него. Гошка поспевал за машиной. Серьезно, хмуро глядел, как отец с Василием снимают с кузова неуклюжих, закутанных, молчаливых теток, уводят, уносят их в дом.
Поздно совсем, за полночь, в потемках, Даргиничев вошел в этот дом, нащупал фонариком рыжую шубейку среди серых одеял и ватников, приблизился к ней. Два темных глаза влажно блестели в луче. Даргиничев погасил фонарик.
– Спи, спи, Нина Игнатьевна, – сказал шепотом. – У нас не бомбят пока что. Спокойно. Спи. – Он достал из кармана банку консервов, поколдовал над ней. Поставил на пол у изголовья. – Покушай. Веселее будет. У нас питание – не проблема. Большая земля.
Даргиничев очень старался не нашуметь, но половицы екнули под грузом его большого, тугого тела, под заскорузлыми на морозе валенками.
Кто-то сказал ему вслед:
– Во боров. Как земля-то их носит, таких?
2
Мороз в ту зиму был вражий, служил делу смерти, дожимал, добирал последки живого, стращал одиночными выстрелами по ночам. Он глухо зашторил окошки в бараках, где ленинградские девушки, лежа в постелях, жевали сырой, непропекшийся хлеб, разжевывали каждое зернышко, дожидались, когда превратится хлеб в силу, когда согреется кровь.
Давали им рабочую пайку – шестьсот граммов и еще обещали триста – за перекрытие нормы. Только когда ее перекроешь, и какова она, лесорубская норма?
Мороз залетал в растворенные двери и шарил, кого бы кусить, но в стуже был еще запах соснового леса, хвои. Так пахло детство, давно, до войны. И в черных бутылках устюженской витаминной водки плавали хвойные иголки. И в солнце, хотя оно не могло растопить мохнатую изморозь на окнах, тоже был витамин.
Приходил в бараки Даргиничев, весь свежий, румяный, от него тоже пахло сосной; завернутые втрое голенища валенок обхватывали круглые икры, полушубок перепоясан, на ремне кобура, рот полон ровных белых зубов. Хорош был директор, мороз шел на пользу ему, от него пахло жизнью, хотелось потрогать его – откуда он взялся. Как будто с другой планеты, где знать не знали войны и блокады.
– Ну что, девчата, – сочным, громким, здоровым голосом говорил директор, – может, танцы устроим? Патефон у меня найдется... Найдется патефон...
Тонкий, надтреснутый, будто заржавленный голос вдруг доносился откуда-то из угла:
– Това-а-арищ, дире-ектор, погрел бы... Во-он у тебя под шу-убой сколько тепла-а... Что тебе, жа-алко? Погре-ей, мы вста-анем.
– Не хватит на всех, – говорил Даргиничев. – Еще вашего брата двести пятьдесят душ прибыло. Помещения не хватает размещать. В избах на полу спят вповалку. Просто беда. По району гоняюсь, где на коне, а больше пехом. Дровами нужно всех обеспечить, питанием. А кадров у меня всего четыре деда с бородами. Четыре деда всего. Управляющий трестом Астахов нажимает, обком беспокоится и Военный совет. Хлеба прибавили норму в Ленинграде, двести грамм дали, рабочим триста пятьдесят. Дорогу наладили через озеро, муку подвозят. А с топливом худо. Без топлива хлебушка не спечешь. Мука – полдела еще. Полдела. Дровишки нужны. С нас спросят. От нас идет топливо в город Ленина. Не выполним – значит, хлеба не будет. И мне тогда – по шапке. И вам будет стыдно в глаза посмотреть своим близким, которые там, в Ленинграде, не сдаются врагу... – Лицо директора становилось другим, когда он говорил свою речь. Румянец с него сходил, губы выпячивались, глаза стекленели, проступали желваки на щеках.
– ...Триста тысяч кубов леса на Вяльниге в запони заморожено, – говорил Даргиничев. – Готовый лес, ни пилить его, ни подвозить, ни в воду срывать не надо. Грузи на баржи да отправляй через озеро. Нам задача поставлена удержать этот лес в запони на период ледохода. А он весь вмерзши во льду. Ледоход будет сильный сей год. Лед толстый, монолитный. Как будем держать – не знаю. На вас надежда, девчата. Упустим лес – позору не оберешься. Нельзя упускать. До последнего будем держаться. Как на фронте, на передовой. Упустим – значит, считай, что на нашем участке фронта фашисты прорвались, значит, мы пропустили врага...
Удержим лес в запони, – говорил директор, – банкет закатим на всю округу. В аккурат к Первому мая подгадаем. Дня прибавится – иллюминации не надо. Дедам накажем красной рыбки поймать, лососки. В гарнизоне какой ни на есть оркестришко найдется. За водочкой нам к куму бегать не надо, этого добра хватит... За вами дело, курносые. Вон в Шондорицах у меня из бабок старых бригада сколочена, дровишки заготовляют. И ничего...
Девушки слушали директора, глядели, тянулись к нему, улыбались. От него исходила воля, хотелось подняться и делать, как он прикажет. Хотелось глядеть на него. Пусть он говорит, не уходит.
Глава шестая
1
Многое успевал Даргиничев, но не хватало суток ему: мельницей занимался, пекарней, гонялся по сплавучасткам, разыскивал тросы в снегу. Транспорта не хватало директору, дров не хватало, времени, голосу, силы в руках. Руки его не доходили до главного дела – до техники. Технику бросили летом сорок первого года. Мужчины ушли на войну. Остались на женщинах малые ребятишки. Технике женщины не хозяйки. Как работали два крана «норд-вест» на плашкоутах, так и вмерзли в лед. И катера вмерзли, лебедки, сплоточная машина, сортировочная сетка, восемнадцатисильный движок засыпало снегом.
Сердце обливалось кровью у Даргиничева, когда он приходил на Вяльнижский рейд и видел умершие краны. «Сколько ни бейся, как ни старайся лес удержать, если весной не заработают краны – все пойдет прахом. Все прахом пойдет. Голыми руками лес не возьмешь из воды». Даргиничев забирался в будку крана, садился к рычагам – пять рычагов, две педали. Ветрено было там, скрежетало железо. «От же, ей-богу, мать честная, ну что ты будешь делать?..»
Лучшие его молодые годы прошли на этом кране «норд-вест». Лихо работал Степа. По два кубометра коротья зачерпывал грейфером из «дворика», плавно и точно клал их на днище баржи. Кран хороший, поворот у него триста шестьдесят градусов, крутись сколько хочешь вокруг собственной оси.
Десять «норд-вестов» купили в тридцатые годы в Америке, два доставили водным путем на Вяльнигу. Двигатели у кранов бензиновые были, марки «висконсин». Перед войной решили их перевести на газогенераторную тягу. Поставили шестидесятисильные тракторные моторы ЧТЗ. Напилили, насушили березовой чурки. Задымили котлы-самовары. Американская техника – ничего, поддалась этой реконструкции. Только вскоре полетели передаточные шестерни. Американская шестерня съедала нашу отечественную. Пока исследовали химический состав металла в американской шестерне, началась война.
Сколько ни рылся Даргиничев на складе Вяльнижской сплавной конторы, запасных шестерен там не было. Треклятые эти шестерни отравляли Даргиничеву жизнь. «Все прахом пойдет, все прахом, если не пустим краны весной... »
2
Тут-то и приехала Серафима Максимовна Лунина. На военной машине приехала, моряки ее подбросили, из бригады морской пехоты. Лет ей было за пятьдесят, невеликого роста, в кости широкая, в полушубке и валенках с галошами, в шапке-ушанке. Сошла бы Серафима Максимовна и за мужика, только глаза ее в глубоких глазницах теплились, излучали тепло. Лицо было зимнее у Серафимы Максимовны, изморозью затянутое, та же печать лежала на нем, что у блокадных девчат. Кости проступали в лице, мужские, крупные кости; широкие скулы; но глаза выражали сосредоточенную, серьезную, бабью доброту, доверчивость. Что-то округлое, домашнее, крепкое было в этой женщине. По-утиному, вразвалочку, не глядя по сторонам, как по давно знакомой улице, Серафима Максимовна прошла в контору. Руку ей оттягивал чемодан. В дверях столкнулась с Даргиничевым.
– Здравствуй, Степан Гаврилович.
– Да никак это Серафима Максимовна! Здравствуйте! Какими судьбами?
– Иван Николаевич направил. «Хватит, – говорит, – без тебя есть кому в конторе бумаги писать. Езжай-ка, Серафима Максимовна». Кружным путем добиралась, через Кобону. Да немцы как раз нападение устроили. Ну, моряки, молодцы, отбили. Крепко держат. Вот на-ка, возьми чемодан, гостинцев я тебе привезла.
Даргиничев взял чемодан, удивился:
– Ого, с полпуда будет...
Они поднялись в кабинет к Даргиничеву, Серафима Максимовна раскрыла свой чемодан. Одни железки в нем были, больше ничего.
– Компенсационную коробку к крану «норд-вест» я тебе привезла, Степан Гаврилович, да еще вот пару запасных шестерен, на тридцать зубов и на двадцать два. В августе в Гумборице около крана бомба упала. Коробка, к счастью, цела оказалась. Я ее прихватила с собой в Ленинград. Думаю, пригодится. В январе Иван Николаевич дал нам команду переезжать в Карголье, стала собирать вещи первой необходимости, да вот только эти детали и взяла. Сестра меня провожала, помогла чемодан в машину погрузить, одной бы мне не под силу. Да и у нее-то тоже силенок совсем не осталось. В общем, кое-как дотащила...
Даргиничев держал в руках шестерню на двадцать два зуба, глядел на Серафиму Максимовну, рот его несколько растворился, и как будто слезой ему застлало глаза.
– Спасибо, Серафима Максимовна. Выручили вы нас, просто вынули из петли... От же, ей-богу, всем жертвуют люди для общего дела. Ни с чем не считаются. Нет цены нашим людям, нет цены... Пойдемте, Серафима Максимовна, в столовую, накормим вас нашим сплавным обедом. Не бог весть что, но накормим досыта. И талона с вас не возьмем.
– Ну вот и ладно, – сказала Серафима Максимовна. – Я хоть сухарей насушу, сестру надо поддержать в Ленинграде, а то совсем она сгинет, бедняга.
– Об этом не беспокойтесь, Серафима Максимовна. Поселим вас у Ефросиньи Михайловны, заведующей пекарней. Она одна, изба у нее большая. Хлебушка у нас в обрез, сами рожь мелем, сами печем, овсеца добавляем, из конского пайка. Но кое-какой припек получаем. Бывает припек, не без того. И о конях заботиться надо, но если у нас не найдется, чем человека поддержать, который жертвует собой для общего дела, то грош нам цена. То, значит, никудышные мы хозяева.
3
Серафима Максимовна Лунина происходила родом из череповецких корабельных мастеров. Отец ее строил барки для Мариинской системы, и все дядья работали на верфи, и братья пошли по отцовской линии, и сестры научились держать в руках фуганок, топор и гаечный ключ.
Лунины строили барки, учили детей своему деревянному ремеслу. Флот был деревянный на Мариинской системе. Но Серафима заглядывалась на плывущие мимо железные пароходы и уплыла однажды из своего затона. Ей был сладок запах мазута и внятен голос машин.
Она избрала себе мужскую судьбу. Талантом механика одарила ее природа. Чертежи и схемы она читала с той легкостью, с какой прочитывают книгочеи страницы своих любимых авторов. Законы взаимодействия железа, огня, электричества, пара, бензина оказались просты для нее, как просты законы плиты и духовки для домовитой хозяйки.
Коротко стриженная, с папиросой в зубах, в мужской кацавейке, осуществляла Серафима Максимовна механизацию сплавных работ на северных реках – устанавливала сплоточные машины, пускала движки, монтировала краны. Где что не ладилось или случалась авария, звали Серафиму Максимовну. Талант выделял ее из толпы сплавщиков, подымал.
К сорока годам Серафима Максимовна стала инженером-механиком лесного треста по сплаву. Хотя не училась она в институте и даже в техникуме не бывала – самоучкой дошла.
Вся жизнь ее проходила в разъездах, в командировках. Домом она не обзавелась: так, кое-какая жилплощадь имелась в городе – для ночлега. Война застала Серафиму Максимовну на сплавном рейде в Гумборице. Такой же рейд, как на Вяльниге, полтораста тысяч кубометров приплавленного в запонь леса, два крана «норд-вест». На второй день войны из мужчин остался в Гумборице только директор сплавной конторы.
На кране он не умел работать, а суда приходили, как всегда, по графику, становились под погрузку. Директор хватался за голову: «Что делать, Серафима Максимовна? Что делать?» – «А что будешь делать, – отвечала Серафима Максимовна, – парнишек надо учить. Их ведь только допусти до крана, они рады-радехоньки будут».
Шестерых гумборицких парнишек научила Серафима Максимовна орудовать рычагами на кране «норд-вест». Было парнишкам по пятнадцать да по шестнадцать. Инженер-механик треста принимала у них экзамен, выдала справки о знакомстве с техникой безопасности. Первым делом парнишки перемазались с головы до пят. Так и звали их на рейде «чернокожими». Да еще пришлось опустить сиденья в будках кранов, иначе не выжать было кранистам педалей.
Глаз был нужен да глаз за чернокожими. Чуть им выдавалась минута, они катали друг дружку на грейфере. И девчонок катали. От кранов готовы были вовсе не отходить. И спали тут же, в будке на берегу. Грузили суда по графику. Особенно ловко работали Леша и Коля, краниста Денькина сыновья. Один наверху за рычагами, другой на «дворике» помогал грейфер загружать. Потом другой лез наверх.
Младший, Леша, сидел наверху. Поднял нагруженный грейфер, только начал поворачивать стрелу, нога у него соскользнула с педали. Раскрылся грейдер. Полтора кубометра дров упало сверху на Колину голову. Похоронили Колю.
Серафима Максимовна постановила не допускать к работе на кране без специальных кожаных набоек на обуви. Прибили набойки, грузили суда, пока не стали падать на Гумборицкий рейд бомбы, а потом и снаряды.
4
– Ну что будем делать, Серафима Максимовна? – спрашивал Даргиничев. – Кроме меня, нет кранистов. Один на всю Вяльнигу... Я-то бы с полным удовольствием краном командовать согласился. Было бы на кого остальное хозяйство переложить... Не на кого перекладывать. От же, ей-богу, положеньице... Девчат заправщицами чурки можно будет около кранов держать. А к рычагам им рано садиться. Мясом пущай обрастут...
– Парнишек надо учить, – говорила Серафима Максимовна. – Они восприимчивые к технике. Быстро осваиваются на кране. В Вяльнигу вот ужо схожу. На учет надо взять всех парнишек. Да и к девчатам тоже приглядеться. Может, которым приходилось с техникой дело иметь.
– Приглядывайся, Серафима Максимовна, – говорил Даргиничев. – У меня-то времени не хватает до каждой дойти. Бойкие есть – просто беда. Вон бригадиром у меня Тоня Михеева назначена – огонь девка. На Бадаевских складах она грузчицей была. И еще с ней товарки ее приехали, тоже грузчицы со складов. Я их пока с работой не торопил, так они сами ко мне в кабинет пришли. «Давай, – говорят, – директор, работу, мы трудиться приехали, а не баклуши обивать». Я их послал троса на залом заводить, перетягами лес крепить. Тяжелая, мужская работа, в кровь руки рвет, а ничего, справляются... Разные девки есть... Походи, Серафима Максимовна, по баракам, побеседуй с ними. Тебе легче общий язык найти.
Серафима Максимовна ходила, дымила махорочной цигаркой. Девушки обращались к ней: «Товарищ начальник». Кто же еще, как не начальник, стриженая, серьезная, строгая женщина в полушубке? Девушки жаловались ей, что нет писем, нет рукавиц и хлебушка не хватает. Жаловались, но ропота не слыхала от них Серафима Максимовна. Главное, чем жили сейчас эти девушки, была работа. Им хотелось работать помногу. Работа спасала их зимой. Тех, которые не смогли работать, они похоронили на Пискаревском, на Серафимовском кладбищах. Девушки были дружинницы, бойцы батальона МПВО. Они научились зимою мерить запас своей жизни полнотою самоотдачи, участием в общем для всех бытии. Содержание, смысл, основу этого бытия составляла работа. Жизненная потребность и чувство долга соединились. Война и блокада сделали девушек солдатами трудовой армии.
Они бы не уехали из своего города, но их послали работать. Велика была их жадность к хлебу, к еде, но еще сильней была жадность к работе. По утрам бригадиры подымали свои дружины и батальоны. Командиров стали звать бригадирами. Девушки выходили на лютый мороз, в сизое, неразвидневшееся, заиндевелое утро. Они спускались к запони, тянулись гуськом по глубоко протоптанной тропе вверх по руслу Вяльниги. Распутывали мотки стального троса. Долбили ломами лунки во льду. Рыли на берегу траншеи. Пилили дрова.
Звуки работы пока еще не могли пересилить густую морозную тишину. Звуки эти были слабы, едва заметны. Но становились они слышнее день ото дня. Тяжелая снежная, ледовая оцепенелость нарушилась движением, голосами, дыханием работающих людей.
Работа девушек подчинялась плану, план был простой у Даргиничева: до весны разбить, взорвать смерзшийся залом, разобщить древесину, переплести ее тросами и привязать к берегам. И еще навести по льду две вспомогательные запони выше коренной, генеральной – чтобы переломить ледоход.
Приехал на Вяльнигу профессор из научно-исследовательского института лесосплава, познакомился с планом и укорял Даргиничева за примитивность решения и объяснил, как нужно действовать по науке. Однако наука требовала технической оснастки, а у Даргиничева имелось в наличии только восемьсот ленинградских девушек. Да и то не все еще выходили на работу. И рукавиц не хватало. Без рукавиц с тросами много не наработаешь.
После войны уже, через двадцать пять лет, Даргиничев смеялся, вспоминая того профессора: «Поставить бы его тогда на мое место – за милую душу лес бы весь упустил в озеро. Пришлось бы на науку списывать. От же, ей-богу, мудрецы...»
5
Однажды на берегу среди ковыряющих мерзлую землю девушек Серафима Максимовна выделила, одну, постарше, она была и одета получше. Перчатку сняла с руки, и проблеснул у нее на пальце перстень с драгоценным камнем. Лицо печальное было у молодой женщины: бескровные губы, присыпанные пеплом глаза. Какое-то недоумение, несказанный вопрос выражало это лицо.
Серафима Максимовна заговорила с женщиной и узнала, что по профессии она штурман дальнего плавания.
– Что же это получается, товарищ начальник, – пожаловалась женщина Серафиме Максимовне. – Нам говорили, что мы поедем всего на две недели на заготовку дров для Ленинграда. Я даже запасной одежды с собой никакой не взяла. А мы уже здесь полтора месяца, и конца не видать...
– Не знаю, кто вас неправильно информировал, – отвечала Серафима Максимовна. – Только думаю, что отчаиваться вам не надо. Пароходы сейчас все равно не плавают. Весной начнется навигация – ваши знания нам здесь очень будут нужны. Да и сейчас они пригодятся. Это непорядок, что вы землю копаете. В сплавной конторе острый недостаток в счетных работниках. Я договорюсь с директором, пойдете работать в контору.
В сумраке барака с замурованными морозом, забитыми фанерой окнами плакала девушка. Руки она разорвала стальными заусенцами тросов. Руки маленькие у нее были, нерабочие руки.
Девушка все рассказала Серафиме Максимовне про себя, выплакалась, навсхлипывалась и умолкла. Работала она раньше заведующей библиотекой в консерватории. Серафима Максимовна пообещала устроить девушку заведующей на почту.
Нина Нечаева не плакала, она лежала на топчане, глядела в потолок, глазницы ее были совсем синие, чуть желтел ободок вокруг расплывшегося зрачка.
– Ну, чего валяешься? – спросила Серафима Максимовна хрипловатым, грубым, череповецким своим говорком. – Пролежни наживешь, и только. Ты что раньше-то делала? Или просто дочкой у родителей была?
– Я в медицинском училась, – сказала Нина. – И еще зажигалки на крыше гасила. Маму похоронила. О папе хотела поплакать, но слез у меня не нашлось. Вот и все. Больше я ничего не успела.
– Ну что же, – сказала Серафима Максимовна, – на ноги встанешь – устроим тебя на медпункте работать. Хворых всяких, калек хватает. А докторов у нас вет, на тебя вся надежда. Подымайся-ка, девушка, я тебя свожу погулять...
– Я сама умею, – сказала Нина, – я еще полежу немножко и встану. Я сегодня на работу утром ходила... Мне плохо сделалось, сознание потеряла. Клава, наш бригадир, меня домой привела. Я чуть-чуть полежу и встану.
– Не задерживайся, девушка, включайся в работу, – напутствовала Серафима Максимовна. – В коллективе не пропадешь. А вечером заходи-ка ко мне, чайку попьем. Я рядом с пекарней живу, у заведующей пекарней, Ефросиньи Михайловны...
Так ходила по поселку приземистая, ширококостная, похожая на мужчину женщина в полушубке, по баракам ходила, по поселку, по рейду, спускалась на запонь, лазала по залому. Она разговаривала с девушками, и в голосе у нее не было сочувствия, жалости. Мужской был говор у инженера-механика. И повадки мужские. Только глаза смотрели со спокойной, мудрой, уверовавшей в себя, не поколебленной жизнью, беспредельной бабьей добротой.
Вечером Серафима Максимовна сказала Даргиничеву:
– Давай-ка, Степан Гаврилович, парня твоего переселим ко мне. Хватит уж ему в конторе-то отираться. Меня хоть на сплаве и век считают за мужика, а ведь все же я баба. Способней ему будет около меня.
Гошка противился этой перемене в своей судьбе, хныкал:
– Я с папкой буду...
Переселили его к Серафиме Максимовне. В бане намыли. Дырки заштопали на штанах.








