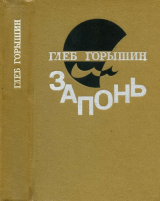
Текст книги "Запонь"
Автор книги: Глеб Горышин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
– Ничего, ничего, – сказал Степа. – В моем возрасте это нормально. Отпустит сейчас, – храбрился Даргиничев. Поднял рюмку с коньяком: – Ваше здоровье, Нина Игнатьевна... Ну вот отпустило...
– Надо остерегаться отрицательных эмоций, – сказала хозяйка дома. – Так, что ли, медицина-то учит? Наверно, не нужно было встречаться. А? Ведь целая жизнь прошла... Я когда писала тебе письмо, мной владело какое-то двойственное чувство. Я знала, лучше нам не встречаться. И в то же время хотелось тебя увидеть. Да, да, хотелось. В жизни больше такого не повторилось, как в сорок втором году. Это, кажется, называется первой любовью. Мне хотелось еще раз взглянуть на нее. Притронуться. Всегда хотелось, все годы – и чем ближе к старости, тем сильнее. Я очень любила моего мужа. Но это совсем другое...
– Я не получил твоего письма, Нина Игнатьевна, – сказал Даргиничев. – Почему ты раньше не написала о дочке? Я ведь не знал...
– И она тоже не знала двадцать лет. В Афониной Горе ей рассказали, у Поли Бойцовой мы гостили. Ну, слушок и пополз – Даргиничева дочка. Там ведь, ты знаешь, тесно люди живут. Стены у домов тонкие... Кстати, вот ты мне скажи, товарищ Герой Труда, почему в этих ваших лесных поселках живут, как на полустанках – до следующего поезда? Жизнь проходит у людей – ни кола у них, ни двора, грязь по уши, домишки поставлены кое-как, ветром насквозь продувает. Даже и улиц-то нет, сараюшки всякие, бараки, хибары лепятся друг к дружке как попало. Ну, добро бы помыкаться так год, два, а тут ведь десятилетия... Ты бы послушал, как там люди кроют своего директора. «Он, – говорят, – о плане заботится, до людей ему дела нет. На горбу нашем, – говорят, – славу себе зарабатывает, ордена получает...»
– Слышал я все это, знаю, Нина Игнатьевна, – сказал Даргиничев, – насчет начальства любят языки почесать. Лесу рубить не осталось в Афониной Горе, последки добираем. Нет смысла вкладывать средства в жилищное строительство.
– Вот видишь, нет смысла. А есть ли смысл людям мыкаться всю жизнь по времянкам? Во имя чего?.. Чтобы оставить после себя на месте сосновых боров пустыри?.. Это я тебе дочкины аргументы выкладываю. У нас с ней иногда целые дискуссии развертываются. Я защищаю тебя, Степан Гаврилович, трудненько мне приходится. Совсем разошлись мы с дочкой после той поездки на Вяльнигу. Даже разъехались. Порознь живем. Ну, правда, теперь будто опять подружились. На новой основе, с полным соблюдением суверенных прав.
– Ну и что же она, совсем в одиночку? – спросил Даргиничев.
– Не знаю, Степан Гаврилович. Этого я ничего не знаю. Денег она у меня не берет. Сама достаточно зарабатывает. Много видела, много думает, знает. Жизни не боится, смело живет, а вот счастлива ли она – я не берусь судить... Она тобой очень интересуется, Степан Гаврилович. Пристально вглядывается в тебя. Пока что издали вглядывается, а может, и заявится к тебе со своими вопросами. Нелегкие это вопросы, ты учти. Бывало, с Нестеренко, девчонкой еще, она целые философские споры затевала – о смысле жизни...
Они поглядели на полковника, он ответил им прямым прищуренным дальнозорким взглядом. Взгляд не останавливался на них, уходил за окошко, в небо.
– Вы мне дайте Ирин адрес, Нина Игнатьевна, – сказал Даргиничев.
– А надо ли? Твой сын Георгий знает этот адрес.
– Да ну? Откуда?
Новости сыпались сегодня на Даргиничева, одна другой несусветней. Даже покачнуло его, губы выворотились. Уж кто-кто, но чтобы Гошка, чтобы у Гошки была какая-то тайна, какая-то отдельная от отцовской жизнь... Этого Степа не мог осмыслить.
– Он у тебя хороший, Георгий, – говорила Нина Игнатьевна. – Цельная, чистая личность. Только уж больно застенчивый, заторможенный какой-то. В тот раз, когда мы были с дочкой в Афониной Горе, и Георгий туда приехал. Разговор у них состоялся, уж не знаю о чем. Он ей тоже понравился, Гошка... Она говорит, таких нынче и не бывает.
Они посидели еще. Говорить стало трудно. Степан Гаврилович поднялся уходить.
– К вечеру надо на Вяльнигу попасть. Да еще к Ивану Николаевичу Астахову обещался заехать. Помните, управляющий трестом был в сорок первом году? Не повезло ему – четыре инфаркта... Всего вам наилучшего, Нина Игнатьевна. Главное, чтобы здоровье не подкачало. Дочке самый сердечный привет от меня.
– Будьте счастливы, Степан Гаврилович. Уж не взыщите, что огорчила вас. Но что поделать?
Даргиничев попрощался с Ниной Игнатьевной за руку. Когда спускался на лифте, противно дрожали ноги, плыло в глазах. Вышел из подъезда, несколько раз глубоко вздохнул.
Большой самолет ТУ-104 низко бесшумно проскользил над крышами, а следом рев навалился, все небо застил, даже стало темно. Даргиничев поднял лицо и глядел, пока самолет не скрылся. Грохот ударил в землю, растаял, но Степа все слышал, слышал его...
Реки большие, речки маленькие
На дворе лесозавода выстроена шеренга машин. На каждой кабине написано: «Лесовоз». Лейтенант с улыбчивым юным лицом ведет техосмотр. Водители выкатывают свои лесовозы из ряда, берут разгон, нажимают на тормоза. Лесовозы пыхтят, приседают на пятки.
Стоит на виду директор, в ватнике, в шапке с ушами, в больших кожаных сапогах, – все кадры завода ему по грудь.
В чумазом комбинезоне, широколицый, скуластый, с вычерненными глазницами, подходит к директору рабочий, во взгляде его укоризна, но и вина, и сыновняя робость. Молчит. Только глаза говорят, страдают. Лицо директора высоко, недоступно. Директор тоже молчит, начинать разговор не ему.
– Что ли уж, – говорит комбинезон, – я последний пьяница? Сразу приказ на меня отдали...
– А ты что же думаешь, что ты первый пьяница?
Комбинезон смешался, ушел.
Директор ораторствует – для всех, кто слышит его. Все слышат. Такой его голос.
– В наше время мы работали – один фельдшер был на всю округу. Да идти надо было к нему километров за сорок пешком. А теперь, – директор позволяет себе несколько образных словосочетаний, – теперь кто-нибудь чихнет или за сердце схватился – уже на машине его везти в поликлинику. Уже день пропал для работы. Разбаловались...
Директор исполняет роль старозаветного строгого и рачительного хозяина дела. Он легко входит в роль.
Но вот сел в машину – и весь в улыбке. Выйти из роли так же нетрудно ему, как и войти...
Сидим с директором в столовке лесозавода, едим яичницу-глазунью. Вечером столовка превратится в кафе «Березка».
– Какие у тебя планы? – спрашивает директор.
– Да, собственно, никаких планов нет, просто надо побольше увидеть, в редакции меня просили о сплаве написать. А у вас какие планы, Степан Гаврилович?
– Я вверх поеду, в Афонину Гору. Пьяниц гонять. Пьяниц надо погонять. – Директор смеется.
– Меня возьмете с собой?
– Пожалуйста.
Мы ехали с директором с пригорка на пригорок. Машина бежала легко. Повернули на боковую дорогу, остановились у моста через Шимоксу. Под мостом сидели мужики с баграми. Запонь-перебор еще не поставили поперек реки, она была пришвартована к берегу. Начальник дистанции Елкин слегка покачивался на мосту и молчал на директорские упреки. Директор попрекал его теми же словами, что в прошлом году, в позапрошлом, и десять лет назад, и пятнадцать. Пенная, будто намыленная, бурая река торопилась внизу под мостом...
Сеялся дождь, и лесоучасток Афонина Гора по уши утонул в хлябях. В поселке не было улиц, дома в нем стояли боком, спиною друг к дружке, подобно толпе у доски по обмену квартир.
Дома надолго увязли в болоте, к ним притулились хлева, сортиры, сараи, поленницы дров. Лесной поселок строился с расчетом на малое время жизни – пока есть что рубить, пока есть что кидать в бегущую мимо реку. Срубить, сплавить – и уйти.
Директор, сидя в конторе лесоучастка, кричал в телефонную трубку так, что слышала вся округа:
– Ты как разговариваешь в рабочее воемя? Совсем уже распустились. Ты думаешь, не найдется управы на вас? Найдется, достанем. Ты слышишь меня, Егор Иваныч? Как ты смеешь пьяный подходить к телефону? А ну положи трубку! Я вот сейчас оформлю на тебя документы!.. За мелкое хулиганство! Пойдешь на пятнадцать суток. Положи трубку, я тебе говорю! Девушка, – громыхал директор на весь лесопункт, – разъедините меня с Надумовым и не соединяйте. Я запрещаю тебе, Надумов, разговаривать по служебному телефону!
Придя в машину, директор улыбался:
– Надумов на Кондозере начальник участка. Мазурик, горький пьяница. Ведомости для оплаты подаст – всех старух и младенцев впишет. Все мертвые души соберет... Дороги туда нет сейчас к ним... Бывало, на лошади ездил, на Сером. А то и пешком. Некем заменить Надумова, нет людей...
Снизу от реки пришли пятеро молодых еще, загорелых, с царапинами и синяками на лицах, мужиков в бумажных свитерах, в сапогах с завернутыми голенищами, в беретах. Они, скромно улыбаясь, сознавая неосновательнссть своих претензий, попеняли директору, что нет в столовой картошки, даже к треске подают вермишель.
– К Первому мая, – сказал директор, – чтобы закончили срывку. Тридцатого я за вами машину пришлю. На праздники в белых брюках гулять будете, как тузы. В белых брюках будете гулять...
Постоянные кадры разинули в улыбке свои зубатые рты. Директор умел разговаривать с ними.
Мы ехали дальше, директор рассказывал о былом. Теперь каждый день его жизни был повтореньем былого, в каждом слове его, в каждой версте дороги, в каждом встречном лице, в каждом мостке он встречался с собою былым, узнавал себя – тут запечатлелась вся его жизнь. И некуда двигаться дальше, нет времени новое начинать. Каждый день жизни теперь уплотнился, спрессовался, включив в себя прошлое; он имел под собою фундамент – сорок пять отработанных лет. Недостатки, огрехи жизни и производства уже не смущали и не томили Даргиничева; плотины держали в реках воду, лес был напилен зимой, связан в штабеля; запони увязаны тросами-лежнями, кадровые рабочие имели дома, техника на ходу; ордена хранились до праздника на лацкане нового директорского костюма...
– ...Вот, помню, еду лет двадцать назад, – рассказывает директор, – в аккурат у этого мостка на бровке дед лежит. Под голову багор положил и спит. Я его взял в охапку да от воды-то подальше несу. Он проснулся, кричит: «Где багор?» За багор первым делом схватился. Восемьдесят четыре года деду. Сивый совсем...
Директор вдруг велит шоферу остановиться. Сбегает к реке. Через реку протянута узкая запонь-перебор. Скинутый выше лес сгрудился, образовался пыж. Лесу надо плыть дальше, но держит его перебор... Снять забыли. Директор качает головой, но не гневается, не хмурится: и это бывало за сорок-то лет.
В конторе сплавучастка отчитывает начальника, Николая Иваныча, вразумляет, как половчее снять перебор. Кому-то читает нотацию в телефонную трубку:
– Спокойно живете, Петр Иваныч, пуза распустили. Пуза у вас болтаются поверх ремня. Это мне можно позволить, мне седьмой десяток пошел. А я и то вон три ночи не спавши, по берегу бегал. На два миллиона у меня наплавных сооружений на реке, а ледоход тяжелый сей год. Спокойно живете, говорю, нервам большую профилактику делаете. В шляпах по берегу гуляете, как тузы.
В конторе сплавучастка усердствует дед Степан Федорович Орлов. На выголившемся его черепе остался один хохолок, рот запал, вылезла вперед голая нижняя челюсть. Жизнь оголила деда, растительность сошла, кожа истончилась, сквозь нее проглядывает, сквозит кость. Смазки осталось немного во втулках костяного дедова механизма, суставы сухо хрустят, но механизм подвижен. Дед хватает трубку, принимает сводку, записывает ее в ведомость. Деду восемьдесят два года. Два положенных ему по пенсионному статусу месяца в каждом году он предается службе...
Должность его называют – «ночной директор».
Утром директор отчитывал по телефону провинившегося вчера начальника кондозерского сплавучастка Егора Иваныча.
– Нам с тобой, Егор Иваныч, – говорил он директорским своим, в последней, высшей инстанции тоном, – вверено Советской властью руководить хозяйством и управлять людьми. Мне в большей степени, тебе – в меньшей. Ты меня понял, Егор Иваныч? Я говорю, что мы несем с тобой ответственность перед государством за вверенные нам участки. Ты старый работник. У тебя же есть ум. Хороший ум, Егор Иваныч. я даже не побоюсь сказать, выдающийся ум. Как же ты можешь себе позволять при людях в рабочее время нести в телефон свою пьяную ахинею? Если еще повторится такое твое поведение, я соберу свидетельские показания – свидетели есть, люди слышали, – оформлю на тебя документ в милиции, и ты пойдешь на десять суток уборные чистить. Я говорю с тобой серьезно, Егор Иваныч. Если ты не сделаешь нужные выводы...
Поговорив с Егором Иванычем, директор опять улыбался.
– Нужно по курозерскому начальству походить. Пойдем, я тебя познакомлю, – сказал мне директор.
Мы пошли, директор стучал по деревянному тротуару железными подковами сапог. Все большое село Курозеро полнилось стуком подков, каблуков: курозерский люд шел на службу. Шел на службу директор здешнего леспромхоза – в зеленой велюровой шляпе, в нейлоновом полупальто, в сапогах. Курозерский леспромхоз рубит лес, сплавляет его Вяльнижская сплавконтора. Мой вожатый, директор сплавной конторы, был в стеганом замасленном ватнике, в большой зимней шапке с ушами.
Мы пришли в кабинет к директору леспромхоза, директор сел за письменный стол, прочно уставил на столе локти. Мы расположились против здешнего директора. Первым заговорил мой директор. В его речах почти не было пауз.
– ...Ко мне приехали с Украины сезонники, я каждого поодиночке пригласил к себе побеседовать, поглядел, что за публика. Которые с места на место летают, работы полегче ищут, а рубля подлиннее, этих я сразу же от порога поворотил... Автобус им дал и на станцию свез с почетом. А тех, что в колхозах работают, отправил на лесозаготовки... И лес им отгрузил на Украину, в адреса колхозов. И ничего, работают, никто не бежит. А с этой публикой только себе бы на шею мороку лишнюю взял...
– Да, да – сказал курозерский директор, – бегут, не держатся. Да еще скандалят, транспорта требуют.
– А зачем бежать? – сказал директор сплавной конторы. – Я сам их вывез, с почетом, на автобусе. Без всякого скандала, скатертью дорожка.
После директора леспромхоза мы посетили начальника курозерского отделения милиции. Мой директор сказал ему, что надо бы наказать Егора Надумова, мазурика и хулигана. Хотя бы суток на десять. Пусть будет для всех в Кондозере пример. Начальник милинии возразил: да, знает проделки Надумова, но нужны свидетельские показания. Директор заверил начальника, что за показаниями дело не станет.
Начальник милиции был сед, однако на погонах его всего по четыре маленькие звездочки. Понимая несоответствие своих седин званию капитана, он, улыбаясь печально и смущенно, сказал:
– Выше уже не присвоят: пятьдесят третий год, пора на пенсию – потолок.
Разговор с капитаном постепенно склонился в сторону красной рыбы. Во всей здешней округе витает видение этой рыбы. Тут живет золотая рыбка. Кто-то ее изловил в свой невод. Говорили о лососе и форели. В Вяльниге она еще есть, и в Шондеге, и в Кыжне, и в Талдоме, и в речку Пить подымается нереститься. Кто-то колет ее острогой, кто-то ловит мережей. Поди узнай кто. Всем хочется красной рыбы.
– У вас в запони лесу много, – посетовал капитан, – вся река забита пыжом. Лососке не пройти будет вверх.
– А чего не пройти? – улыбался директор. – Метра два ей останется на дне, и хватит. Пройдет.
На обратной дороге директор говорил с прошлом. Его прошлое пролегло по этой дороге, по этим рекам, речкам, лесам. Леса еще не очнулись после зимы. Да и лесами они представлялись лишь издали, Вблизи оказывались порослью маломерной березы, осины, ели.
– Рубить-то есть еще что, Степан Гаврилович? – спросил я директора.
– Мало, – признался директор, – совсем кот наплакал.
Мы повернули к мосту через реку Шимоксу. Тут уже поставили запонь, мужики шпыняли баграми прибывающий лес. На берегу сколотили будку, над трубой подымался дымок. Начальник дистанции Елкин нетвердо стоял на ногах, качался. Директор разговаривал с ним в этот раз без укора. Елкин молчал.
Мы ехали третьи сутки, я чувствовал тяжесть, которая давила директору на загривок: реки, речки, высокая, быстрая их вода, плывущий лес, переборы, запони, механизмы; мир директора был исполнен движения, тяжести, силы, нажима.
Шофер включил приемник, радио что-то такое запело о ночных поездах, о вокзалах и сигаретном дыме. Странно было слушать это вальяжное пенье, томление духа. Какие поезда, какие вокзалы, какие сигареты? Весь этот край – его малые речки, большие реки, большой начальник Степан Гаврилович и маленькие начальники: Петр Иваныч, Василий Иваныч, Николай Иваныч, Егор Иваныч, чумазые водители механизмов, сплавщики с баграми, с побитыми, поцарапанными на срывке леса руками – все тут жило оседло. Никого не томила романтическая, беспредметная мечта о ночных вокзалах...
– Вот подожди, – сказал директор, – на пенсию выйду, местечко подыщем такое, где комаров поменьше. Я комаров не люблю. Стол на полянке поставим, горилкой запасемся и сядем писать роман. Я рассказывать буду, как мы тут работали, а ты пиши. Местечко мы облюбуем себе – дай боже...
Шофер молоденький у директора сплавконторы. Быстро ехать по новой шоссейке было в радость ему. Не слишком быстро – это директор не любил, жалел мотор, – но так километров под восемьдесят.
Шоссе, как дамба, рассекло, разгородило низкий лес и болото на две равные половины. Придорожные елки, сосенки стояли в воде по колено. Деревья исчахли. Уже оплел их сивый лишайник – погребальное украшение. Дамба остановила воду, нарушила водосток. Жизнь воды в движении. Остановили движение – вода померла. И лес помирал у дороги.
– От же, ей-богу, – сказал директор, – дерево на дровишки кто-нибудь срубит у нас в лесу – его засудят за самовольную порубку. А шоссе построили без дренажных труб, сэкономили государственную копейку... Что тысячи кубометров леса сгубили – виноватого не найдешь... В газете пишут, что это мы, лесная промышленность, лес изводим, природу губим. А в город приедешь, посмотришь, сколько сжигается лесу, сколько его гниет на стройках – никто не считает. Это пока дерево на корню, до него вроде всем есть дело, а свалят, разрежут – и трын-трава. Нас подгоняют: давай-давай... Мы нарубим, отгрузим, а потребитель не знает, как распорядиться путем нашим лесом.
Заготовителю леса положено лес вырубать, он его вырубает без колебаний и без рефлексий, сколько нужно по плану, да еще и сверх плана. Но он тоже ищет ответа на некий вопрос. Лес вопрошает: «Зачем меня рубят и рубят под корень, с мала и по велика? Что останется после меня?» Вопрос все слышнее. Он слышится даже и лесорубу. Нужно найти ответ...
Директор глядел в окошко на голый, сиротский, выморочный лес, будто внимая его немому вопросу. И ответил, только на свой, лесорубский лад:
– Завод переводим на лиственные породы. Осины да березы полно. Только не умеем мы ее довести до дела. Избаловались на сосне. Вон итальянцы из осины бумагу делают высшей кондиции, а у нас она на корню гибнет... Ну, кое-чему и мы научились. На завод приедем – посмотришь. К нам теперь за наукой едут. Кое-что есть...
Мы въехали в заводские ворота и сразу, без роздыху, без обеда, пошли по устеленному корой дворищу. Повсюду громоздились штабеля осиновых и березовых бревен, плыл дымок над высокой кирпичной трубой. Блестела на солнце река. Пахло прелыми, забродившими опилками. У работающих на штабелях парней были свежие, загорелые, не фабричные – сельские лица.
– Вот это катушечный брус, – объяснил директор, – береза. Полезный выход – двенадцать процентов. Нетоварную березу мы пускаем на целлюлозный баланс. Щепу продаем комбинату древесностружечной плитки. Опилки отправляем в Харьков на меховую фабрику, как дубильное средство. Они еще лучше на кожу действуют, чем дубовые опилки... Здесь осину пилим на заливную клепку – фабрикат для бочкотары. Чурку осиновую отгружаем на целлюлозу в Финляндию...
Мы вышли на берег, сели на осиновую чурку. Солнышко пригревало.
– Да-а, – директор покачал головой, прицокнул языком, – рассказать кому – ведь не поверят, как мы работали тут. Целый роман написать можно. Целый роман.
День-деньской
Рыба в мережах
На Первое мая гуляли три дня, а там подошел престольный Егорий, стопили баньки, спекли пирогов с красной рыбой, и тут как раз День Победы. Гуляли дома с хозяйками и родней, а по утрам с туманно-приголубыми глазами спускались к своим мотоёлам, причаленным возле домов, пускали дизеля и плыли каналом в Ку́ндорожь, тихую речку, – на правом ее берегу помещался в амбаре приемщик рыбы с весами, в просторной избе жил сторож, которого звали дедом. У деда был стол для густой каждодневной ухи, над русской печью томились распятые судаки и щуки. В передней горнице починяли сети, на стенах висели плакаты, а также график добычи рыбы. Согласно графику во втором квартале звену вменялось добыть и сдать государству сорок центнеров красной рыбы – лосося и форели, наряду с лещом, язем и плотвой.
После донной, зимней, заснулой жизни красная рыба шла в берега на жировку, а там невода-ставники раскинули крылья на километры. Лососи-тигры бились в рыбацких руках. Рыбакам причиталась пайковая доля с улова. На мотоёлах дымились печурки-жаровни, варилась уха. Нежно-сладкое, жирное, красное рыбье мясо смиряло рыбачьи души, замасливались глаза...
На правом берегу Кундорожи хранило снасти, гуляло, проводило собрания звено Голохвастова, на левом же берегу – звено Ладьина. В деревне Пялье все жили рядом, изба к избе вдоль канала, и лодки стояли борт в борт. Но Кундорожь разделяла бригаду; звено Голохвастова пело на своем берегу и выясняло отношения, – звеньевой выходил виноватым перед Аркадием, Колей и Генкой. Но больше всех виноват был рыбный инспектор, а также некто еще, не видимый с берега, там, высоко.
Голохвастовское звено подступало ко мне, приезжему человеку:
– Вот ты скажи, скажи, почему это так? Почему рыбаку не дают заработать? Ведь мы хотим же как лучше для государства. И для себя... Почему председатель колхоза Урезов пишет в плане, чтоб сорок центнеров лосося, а нам не дают?.. Какой-то вредитель, наверное, затесался... Почему, ты скажи... Ведь лососка, если в ней десять килограмм, все равно уже сдохнет. Уже переспелая рыба.
Голохвастовцы кидали наземь свои кепари. Звеньевой Голохвастов молчал и вздыхал, сучил и увязывал сети. Он был огромен, багровонос, толстопал, в высоких кожаных сапогах на железе. Лицо его было такого цвета, как красное рыбье мясо. Он был смурен после Первого мая и Егория, щетинист, как крупный озерный окунь, голубоглаз, как все мужчины на побережье...
На левом берегу звено Ладьина если пело, то стройно и зычно:
Рревела буря, грром грремел,
Во мрраке молнии блистали…
Звено играло на бильярде в избе, где когда-то смолили сети. Ныне сети смолить не надо – капрон. Избу помыли, поставили бильярдный стол, но чадный смоляной дух сохранился, и потолок в избе черен, как в бане с каменкой. Запевалой на левом берегу – Виктор Высоцкий, низкого роста мужик, который будто бы и высокий, крупный детина, настолько он соразмерен, плечист и лобаст.
Виктор закончил заочно школу рабселькоров при районной газете «Рыбацкая вахта», он стал выделяться среди рыбаков своей основательностью и сознанием. Его поставили с осени бригадиром – кого же еще? Но зимой рыбаки обижались на нового бригадира: он подал в газету заметку, что будто все в рыбацкой бригаде овладели второй профессией плотника. Рабселькор ничего не соврал: конечно, Аркадий, и Генка, и Коля, и Павел, и Кеша, и Голохвастов, и Серега Ладьин – все сами рубили избы. Но в зимнее время, свободное от рыбалки, они сыскали бы дела своим топорам. Председатель Урезов, прочтя в газете заметку, нарядил бригаду строить причал в Гумборице. Тамошние рыбаки смеялись над пяльинскими работягами... Что бригадир написал на бумаге пером, бригаде пришлось отстучать топорами.
На левом берегу Кундорожи звено степеннее, чем на правом. Никто не звонит без толку, не шлепает кепкой оземь, звено дает сверх плана леща, судака и плотву, в апреле взято было изрядно корюшки. А что касается красной рыбы, то государству видней, сколько ее взять, а сколько оставить, – чего же молоть языками? Лососины пока что хватает на уху и на пироги...
На Первое мая и на Егория звено Ладьина ходило смотреть ставники, хотя сильно клонило в дрему с похмелья и вертело на озере. Пошло оно и Девятого мая. Мотоёла, стуча своим дизелем, развалила надвое Кундорожь. Серега Ладьин и Павел Ладьин – в Пялье каждый четвертый двор – Ладьины – и еще незнакомые мне рыбаки сидели в корме. Я вышел на дебаркадер охотничьей базы и помахал рыбакам. Они приглушили дизель и крикнули мне:
– Пошли с нами в озеро!
Но я помотал головой:
– Не пойду.
...После тихой Кундорожи и чуть вспененной ветром губы озеро встретит ржавой на солнце волной. Короткая, тупоносая и бокастая ёла будет нырять и вскидываться. Она не боится озерной погоды, умещается меж волнами. Ни гвоздем, ни кнехтом, ни зазубриной не нарушены борта мотоёлы. Можно ее всю огладить, как нерпу, ладошку не занозишь. Ёла обтерта сетями до лоска. Елы строят на судоверфи колхоза «Рыбак», на них сцентрованы дизеля, тарахтят на всхолмленном ветрами озере.
Горизонт на озере – океанский, баллы здешних штормов рыбаки не считают...
Серега Ладьин кинет якорь. Подтянут к борту мотоёлы вихляющиеся на буксире лодки с деревянными уключинами. Попрыгают в них, возьмутся за весла, закружат меж кольев и толстых проволок, натянутых над водой, Будут взлетать и падать, хвататься за проволоки, вытягивать невод, вываливать из его карманов рыбу. Павлуша Ладьин затопит печурку в корме мотоёлы, черпнет ведром озерной воды, накрошит луку, начистит картошки, подсыплет перцу в ведро и, конечно, лаврового листу. Он распластает ножом большую лососку или форель. Будет уха.
К охотничьей базе подваливает на лодке с трехсильным мотором Володя Ладьин, мужик средних лет, большеносый и загорелый, в изжелта-оранжевой робе, левобережный рыбак.
– Хотите со мной сходить посмотреть мережи в губе? – говорит мне Володя. – И сети у меня в Чаичьих озерках поставлены. Язь уже отнерестился. Теперь лещу бы пора идти. Сей год раньше он пойдет на неделю против обычного. Ранняя сей год весна. Плотва уж, поди, заиграла... Я сестру забросил в Гумборицу, – говорит Володя и улыбается. – Они у нас со свояком моим на Первое мая гостили... Ну, и у них там тоже сели за стол. Я полстакана спирту выпил, на разговор потянуло. Думаю, дай заеду на базу – если егеря нет, то хоть кто-нибудь должен... Если хотите, пойдемте в губу. Одному-то мне вроде как в праздник скучно.
– Идем, – говорю я Володе.
...Я приезжаю по веснам на Кундорожскую охотбазу, хотя в губе охоту не разрешают: здесь утиный заказник, гнездовья. Тихо. Только проносятся с шелестом стаи скворцов. Скворечников всем не хватило. А больше жить – где? В корявом береговом ивняке нет дупел. Кому достались скворчиные люксы? Тысячи бобылей садятся на провода, не справляют свадеб и новоселий. Слетают на землю за червяками, скворчат. Негде жить, но зато много рыбы, а стало быть, много и мух, червяков. Скворцы остаются все лето бобыльничать.
И егерь на базе – бобыль. И рыбаки оставляют в Пялье своих хозяек, бобыльничают в мужском государстве на Кундорожи! И я приезжаю сюда по веснам, летом и в осень. Осенью тут гремит ружейная канонада. В мае тихо.
Только плещут хвостами язи. Крячут утки. Для продолжения жизни нужна тишина... Простонет старый сруб дебаркадера – значит, прошел по каналу лихтер, пустил волну.
...Тухтит моторчик, везет нашу лодку. На буксире рыскает носом лодка поменьше.
Над устьем Кундорожи, на горбушке земли, в траве, в окружье кустов ивняка горит костер, огонь обесцвечен солнцем, дым вровень с кустами, а выше его съело ветром. Три парня встают над костром и пристально, дерзко глядят нам в глаза. Их лодка втянута в берег. Они стоят на кряже молчком, неприятельским станом. Волчий, дерзостный блеск в их глазах. И робость: будто мы их застали на деле, на озорстве. Хотя кругом только ветер, вода, не видно чьей-либо собственности, даже копешки сена.
– Сонгостроевские архаровцы приехали наши мережи трясти, – говорит мне Володя Ладьин...
Выходим в губу. Тростники здесь летом сжали серпами пяльинские женщины. Мужики свезли тресту на лодках к усадьбам, сметали в стога. В зиму скормили коровам. Треста подымется снова к июлю. В мае губа открыта. Фарватер означен шестами, на них надеты ящички, чтобы видеть и править издалека. Серые крачки застыло сидят на кольях.
– Вон видите, у меня здесь сорок восемь парочек поставлено, – говорит Володя, – и в Чаичьих озерках двенадцать сетей.
Он глушит мотор и скидывает якорь. Перелезаем в меньшую лодку. Берем пропёшки-шесты. Володя в носу, я в корме.
– Надо на ветер держать, – говорит мне Володя.
Держу.
Мережи поставлены вдоль протоки. Колья как венки. Коротким рывком Володя выдергивает крайний кол из донного ила. К нему привязаны две мережки – парочка.
– Никто не хочет теперь с этим возиться, – говорит Володя Ладьин. – Мережи наладить – нужно всю зиму сидеть над ними. А прежде, еще до войны, отец хорошо брал мережами в губе леща. И мы все трое приноровились: мы с Павлом и наша сестра. Мы день-деньской, бывало, рыбачим втроем... Сестра теперь замужем в Гумборице. А с Павлом просто беда. Каждый вечер его выношу из мотоёлы. Он так-то смирный, не позволяет себе ничего... Жена ему даст с собой в озеро молока, а он молоко пополам с водкой... Набаловались совсем... – Володя смеется. Трясет мережу. Она округла, суставчата и длинна. Внутри ее горловины-ловушки трепещется рыба: язи, густера, плотицы. Вот плюхнул на днище лодки белесый лещ-альбинос. А следом за ним – черноспинный, блестящий тускло, как лемех.
– Вот видите, – объясняет Володя, – этот белый и мелкий – у нас его называют густерник. У него ход бывает, когда густера идет. А этот – плотичник. Он вместе с плотвой нерестится. Порода вроде одна, а тоже есть разница. Самый поздний лещ – то черемушник. Он, как черемуха зацветает, так и заиграет.
Володя трясет свои парочки. Я стою с пропёшкой в корме, правлю лодку носом на ветер.
– Я перед войной на тральщике плавал матросом, – говорит Володя Ладьин. – На «Щуке». В Лиепае у нас база. Когда война началась, мы в море были. Тральщик немцы захватили, а команду интернировали. Сначала в концлагерь всех посадили... На тральщике боцманом у нас был латыш. Яковом звали, Хороший мужик. Вместе со мной он сидел в концлагере. Потом латышей стали домой отпускать помаленьку. Тоже кому-то работать надо в сельском хозяйстве. Яйца, масло, бекон немцы брали на хуторах у хозяев. И латышей отпускали домой, которые в плен попали. Яков тоже ушел.








