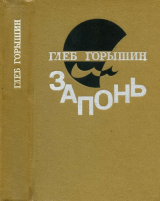
Текст книги "Запонь"
Автор книги: Глеб Горышин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц)
Как видим, критика наша не чурается архисовременных методов социологических опросов.
Деревня, город – ипостаси единого бытия. Но пока существует между ними разность потенциалов, пока перед окончившими сельскую школу парнем или девушкой встает вопрос остаться или уехать – не житейский, бытийный вопрос, – не может быть безучастным к нему и творческое сознание писателя-гражданина. И живая природа, как бы мы ни отчуждались от нее в городах, питает наши легкие кислородом, плоть белками и витаминами, а душу – поэтическими образами. Без поэзии нет и прозы. И так далее...
Тот случай, когда не могут договориться друг с дружкой «деревенщик» и «горожанин», живущие в одном доме, на разных этажах, пользующиеся одним лифтом, одной и той же булочной, надо счесть аномальным случаем. Что-то тут не так, кто-то из этих двоих, может статься, переучился...
В предисловии к этой книге я хочу обозначить три наиглавнейших фактора, определившие ее суть: личное биографическое – генетическое начало (мы не Иваны, не помнящие родства), наиболее значительные (во всяком случае, для меня) явления современного литературного процесса, направленность первых моих исканий.
...Итак, мне двадцать два года. Более половины этого срока я прожил в сельской местности. Город при первой встрече крепко врезал мне по зубам. Я живу в городе, но не знаю его, не смешался с толпой, не научился городской бойкой речи, завидую горожанам, все мечтаю куда-то уехать, томлюсь неискоренимым своим провинциализмом.
И вот уезжаю. В сельскую местность. К отцу. Мой отец, совершив восхождение по служебной лестнице, от дровосека до «короля дров», не удержался на верхней ступеньке. Чего-то ему не хватило – образования или каких-нибудь ста́тей. Тогда я не мог разобраться в моем отце. Отец вернулся на круги своя, в дровосеки. Он работал теперь в леспромхозе, в Лодейном Поле. (Впоследствии совершил еще одно восхождение.)
Насколько я помню, отец мой на всех ступеньках своей – с подъемами и спусками – карьеры грешил безудержностью натуры и еще поистине беспредельной простотой. Он предавался радостям дружества сверх всякой меры: с лесорубами, сплавщиками, заготовителями, снабженцами, рыбаками, охотниками, фанерщиками, пивоварами, закройщиками, плотниками – бог знает с кем только он не дружил, не пировал.
Это свойство характера, такую вот простоту, я унаследовал от отца. Отцу она, может быть, помешала продвинуться выше по лестнице, зато мне помогла. У Омара Хайяма есть строчка-завет: «Дорожи своими друзьями, но пуще дорожи друзьями отца». Именно отцовы друзья, рыбаки-лесники-сплавщики, и ввели меня, повзрослевшего, кое-что уже написавшего и жадно ищущего предмета для новых писаний, в свой мир рыбачества, лесорубства, лесосплава и лесоводства. Лесной, речной, озерный, болотный, деревянный, избяной мир стал миром этой книги, а лесники-рыбаки-сплавщики – ее героями...
Но это будет потом.
Пока что я еду в Лодейное Поле, с ружьем и двадцатью четырьмя зарядами в патронташе. Я еду на охоту и надеюсь что-то такое добыть, какую-нибудь дичину. В наше время в желании убийства живого, летающего, плавающего, радующегося жизни грех сознаваться. В пору моей юности ушлые лодейнопольские мужички добывали за весну на токах столько глухарей, что солили их в бочках. В Карелии колхозники сдавали глухарей в счет мясопоставки – килорамм глухарятины за два говядины...
Мне тоже хочется привезти какую-то дичь – утвердиться в охотницком деле. В каком-нибудь деле, пока что охотницком. Главное дело, то, чему я решусь, готов решиться отдать мою жизнь, пока что еще не ясно, но я уже знаю: оно ждет меня. Чтобы взяться за дело, нужно сначала уехать, а после идти по лесной дороге, идти до тех пор, пока хватит силы в ногах. Вот тогда и начнется дело...
Уезжая из города, юным, в весенний вечер, я переживал примерно те самые чувства, какие описаны Львом Толстым в «Казаках». Помните, что чувствовал, думал юный Оленин, уезжая в ночь из Москвы?.. «Он раздумывал над тем, куда положить всю силу молодости, только раз в жизни бывающую в человеке... не силу ума, сердца, образования, а тот неповторяющийся порыв, ту на один раз данную человеку власть сделать из себя все, что он хочет и как ему кажется, и из всего мира все, что ему хочется... Он любил до сих пор только себя одного и не мог не любить, потому что ждал от себя одного хорошего и не успел еще разочароваться в себе самом».
Разочарование тоже будет потом.
Тогда я ехал с одним счастливым и неотвязным призывом к себе самому: «Пора, пора приниматься за дело». Дело мое состояло в том, чтоб писать. Я был студентом отделения журналистики. Писание представлялось мне счастьем. Писать без счастья в душе я тогда не хотел. Я не мог отделить еще дела от счастья, а счастье мое пребывало в лесу…
Передо мною тетрадка с измятыми краями, в линялой обложке. Она исписана зелеными чернилами, чернила малость расплылись. Почерк вострее и четче, чем мой теперешний почерк. Тетрадка лежала в столе тридцать лет. В ней сделана опись одной из моих поездок из города на охоту, в Лодейное Поле, за Свирь. Дневниковая запись – или все-таки лучше назвать ее ‹описью» – представляет собою пролог к этой книге. Тут можно найти и первые признаки жанра (впоследствии его назовут «лирической прозой»), и манеру письма, и пейзаж, и наброски героев...
«Выехал из Ленинграда душным и сизым (критика однажды упрекнет меня за это сдвоенное прилагательное, я малость злоупотреблю приемом сдвоения) апрельским вечером, когда город насыщен лязгом, нестерпимым, оглушающим; воздух напитан пылью и последними лучами первого жаркого дня. Только небо по-весеннему прохладное, чистое и недосягаемо далекое.
В такие вечера мне хочется уйти от этой суматохи, духоты и скрежета, хочется ступать по мягкой влажной земле, прислушиваться к тишине и дышать, дышать жадно, глотать аромат застывших сосен, освещенных красными лучами заката, пить самый чудесный настой поднимающегося от земли легкого тумана, настой прошлогодних трав, прели – весны...
Ух какой длинный период, впору откинуться на спинку кресла, перекурить. Но ведь писал-то я это не сидючи в кресле, а на валежине, на замшелом камне, согнувшись в три погибели... И был я в юности некурящий – вот молодец!
«Укладываю в мешок последний предмет моего обширного охотничьего обихода – «Ивана Ивановича» (такая книга была в те годы; о чем она, я не помню и автора позабыл). На мне резиновые сапоги с голенищами– раструбами, куцый ватник, за плечами объемистый рюкзак, ружье. Теперь я отрешился от всего, чем жил до сих пор, все это кажется мне мизерным». (Как рано я догадался: чтобы приняться, вначале надо отрешиться.)
«Поезд трогается, и чувство отрешенности, свободы растет, обостряется, наполняет огромной радостью. За окном мелькают серые, мокрые ленинградские предместья с покосившимися крестами кладбищ и бесконечными болотами. Но это уже земля, настоящая, без асфальтового панциря; я чувствую ее дыхание, оно распирает мне грудь, в голове бродят какие-то неясные поэтические образы; я весь в их власти, а стекла в окнах домов пылают багровым жарким пламенем; солнце, уже невидимое, плавит их.
Темнеет, в окно вагона врываются первые капли дождя. Они бьют в лицо, холодные и жесткие, вместе с леденящим ветром; на остановках оказывается, что дождь совсем теплый и мягкий и вечер майский, ласковый.
Приехал в Лодейное на рассвете, в лиловых сумерках побрел по густой пыли, стянутой сверху тонкой пленкой влаги.
Большая деревня спит крепким сном, ее домишки, кубические, одинаковые, притихшие, кажутся мне симпатичными в этот тихий час.
Папаша, разбуженный стуком в окно, не сразу соображает, в чем дело, а сообразив, начинает хлопотать, охать, делать всяческие предположения насчет моего устройства и блага. Мне не терпится попасть в лес, он же тут рядом, залег за Свирью, большой, щедрый, весенний.
Я торопливо освобождаюсь от чехлов, закруток, яств – всего лишнего, оставляю себе ружье, патронташ. В карман кладу финку, за пояс втыкаю топор и иду, не чуя под собою ног, не замечая того, что я за ночь не сомкнул глаз; лес тянет меня непреодолимой силой, я шагаю навстречу ему, как на свидание с самой любимой девушкой.
Кстати, я все время немножко думаю о Верочке (в более ранних и более поздних моих «записках охотника» девичьи имена другие, но суть любовного чувства все та же; впоследствии критики заметят и эту мою забывчивость на имена), она как-то необъяснимо присутствует во всех ощущениях этого весеннего утра; я взял ее с собой и таскал все эти четыре дня по лесным дорогам. Я думал, что это выдумали поэты, а теперь поверил, что можно брать свою любимую всюду, и с ней интереснее жить, только не ту, чьи глаза – загадка, чьи поцелуи отравлены сомнениями, а ту, что встретила меня такой нежностью невинных глаз, которая растопила, пусть на минуту, все мелочные преграды, воздвигнутые подозрительным умом, которая сделала ее, пусть на мгновение, совсем моей, понятной и близкой до конца...»
Я привожу целиком этот монолог влюбленной души в том виде, как он записан – зелеными чернилами, – должно быть, непонятный до конца и самому написавшему, невразумительный, косноязычный – чтобы дать читателю почувствовать, насколько труднее писать о любви, – читатель прежде всего любви-то и ищет в раскрытой им книге, – чем, скажем, о странствиях, о лесных похожденьях и прочем тому подобном.
«...Четыре часа утра. На паром въехал первый грузовик. Свирь большая, черная. К парому прицепился крохотный паровичок и легко-легко потащил его дебелое, вздутое тело наперерез быстрой, недовольно ворчащей воде.
Шофер вылез из кабины, зарядил ружье. Это еще больше подогрело мой охотничий азарт. «В Олонец надо ехать, – первым заговорил со мною шофер, —там гусей много. Теперь, правда, меньше стало». Я готов ехать в Олонец, куда угодно, меня обуревает жадность, я хочу и гусей, и глухарей, и уток, и даже в глубине души лелею надежду встретиться с медведем. Только беспокоит мысль, как доставить его тушу домой...
И вот я в лесу. Этот лес я избродил сумрачными февральскими деньками, исчертил своими лыжами его девственную снежную целину. Тогда он был пушистый, безмолвный и белый; сейчас он лиловый, пока его не позолотило солнце; он живет, дышит, наполнен тысячами голосов: текут ручьи, что-то бормоча невнятно, просыпается разноголосый птичий мир, пробует инструменты, как оркестр перед концертом; лягушки испускают хриплые трели, как будто заводят старый ржавый будильник, – это последние отголоски весеннего лягушачьего шабаша, в середине апреля всюду, где есть вода, слышен их свадебный истошный клекот...
Вдруг я остановился, привлеченный знакомым, волнующим звуком: забормотал косач, забулькал страстно, исступленно. Я улыбнулся: «Так, порядочек».
Речушка, скорее, ручей с весьма громким названием Темза. (Еще есть там речка по имени Генуя.) Перехожу сей мост Ватерлоо и сворачиваю на знакомую кондушскую дорогу. Я собираюсь достичь поляны, на которой, помню, зимой стоял с горящими щеками, с непослушными от волнения пальцами, судорожно вытаскивал патрон за патроном, стрелял по непрерывно вырывавшимся из-под рыхлого, только что выпавшего снега тетеревам. Солнце вдруг прорвалось сквозь небесную вату, бросило из голубого окна красноватые лучи, сделало медными сосны – мир сразу окрасился в три цвета: белый, розовый, голубой. У меня навсегда запечатлелась эта картина: ослепительно белая огромная поляна, со всех сторон окруженная позолоченным лесом, свежий лосиный след по опушке, голубое небо, всполохи снежной пыли от взлетающих птиц – и радуга в снежных фонтанах...»
Прочел и остановился: право, какой же я был молодец – увидел то, что не видят другие. Я даже не помню, чтоб где-нибудь встретился в книгах с такой картиной: взлетают с лунок в зимний солнечный день тетерева, и в каждом фонтанчике снега вспыхивает радуга – кто видел радугу зимой?
«Зимой дорога была одна, и мне казалось, что найти поляну нетрудно, однако единственная зимняя дорога теперь затерялась среди десятков одинаковых дорог и дорожек, таившихся тогда под снегом. Я свернул на одну из них, идущую в нужном направлении, уверенный, что она приведет меня к цели. С дороги меня то и дело совлекают кудахтанье тетерок или хриплые клики насмерть бьющихся из-за них тетеревов, или клюква на болоте, или свист рябчика, или глухариный помет под сосной.
Вдруг на тропинку прямо передо мной выскочил заяц. На фоне зеленого мха и желтой хвои белое пятно выделяется неожиданно резко. Заяц скачет как будто не торопясь, без признаков страха. Я ясно вижу его, длинноногого, тощего. Пускаюсь за ним вдогонку, да где, не догнать...
Скоро тетеревиные трели заводят меня в дремучее болото; чавкаю по нему, еле вытаскиваю вязнущие ноги. Косачи, увлеченные битвой, подпускают настолько, что я вижу их, свирепо орущих, исполняющих свой любовный и воинственный танец. Вспугнутые, они садятся на ближайшие малорослые сосенки, продолжают заливисто булькать. Хочу выбраться на сухое место, но меня окружило болото.
Единственная отрада – клюква: крупная, вкусная, она обсыпала кочки, притягивает к себе, и никак не оторваться от нее, подслащенной морозами.
Едва выбрался на твердую почву, сразу же сел, разулся, прилег и заснул. Разбудили меня холод и накрапывающий дождь. Быстро ободрал упавшую березу, зажег костер. Проглотил безо всякого аппетита кусок хлеба. Встал, отправился в путь.
Направление потерял, кружа по болоту. Уперся в линию проволочных заграждений, пошел вдоль нее и забрался в трясину. Что делать? Идти к чернеющему вдалеке лесу? Нет, повернул обратно, вдоль проволоки. На этот раз она выводит меня на дорогу с автомобильной колеей. Посвистывая, пускаюсь в путь. Идти мне весело, после болота песчаная боровая дорога – рай. И солнце все-таки победило на небе, ласкает меня, пригревает.
Долго ли, коротко ли иду сквозными борами, вдруг выхожу на откос – внизу как будто река. Потом оказалось, что это озеро. Вдали золотится большой монастырский купол, справа деревня, должно быть Кондуши.
Спрашиваю у первого встречного:
– Что это за деревня?
– Старая Слобода.
– А сколько до Лодейного?
– Восемнадцать километров.
– А где Кондуши?
– Там... – Малый неопределенно махнул рукой.
Машин нет, дорога тиха, пустынна. Чуть отойдя за деревню, разуваюсь, связываю сапоги портянкой, вешаю их на плечо, ступаю непривычными стопами на колючую студеную щебенку. Заставляю себя поднимать и переставлять ноги, все душевные силы сосредоточиваю только на этом. Решаю идти по пять километров без остановок. Один столб, другой, пятый... Падаю наземь, как куль... Будит меня еле уловимое, как комариный писк, зуденье приближающейся машины. Выползаю на дорогу босой и радостный. (Опять-таки сдвоенное определение!)
На пароме много людей и солнца. Баба в больших сапогах, ватнике, платке, с полинялыми голубыми глазами, в глубине которых что-то такое играет, дразнит, манит. Она отталкивает бревно, преграждающее въезд на паром. Мужики гуртятся вокруг паромщицы, зубоскалят. Баба отмахивается от них лениво, привычно. Свирь, как всегда, безучастно обтекает громоздкое тело ковчега, не пускает его в глубь своих темных вод...»
Иногда я приплывал в этот край на пароходе, с музыкой. Высаживался в Свирице, и запах дерева, воды и травы обещал мне близкое счастье.
Счастье мое начиналось сразу же за последней избой Свирицы – на высоком берегу Ладожского канала, в солнечном мареве, пронизанном цвирканьем ласточек и стрижей, свистом стрижиных крыльев и теньканьем камышовок. Идучи над каналом, можно было полакомиться земляничиной, улыбнуться волочащей свой хвост-прави́ло – от воды до воды – ондатре, налюбоваться чаичьим лётом. А главное – ощутить себя в мире отдельно от всех... Нет, упаси меня бог, я не стремился к отшельничеству или изгойству, никакой «руссоизм» (за «Исповедь» Руссо я хотя и брался, но одолеть ее так и не смог) не втемяшился мне в башку. И счастье мое состояло не только в понятном каждому смертному потреблении благ природы, но еще и в предчувствии творчества, в предощущении Слова, которому я научился служить.
Я выхаживал, вырабатывал, вынашивал в себе эту книгу – и писал ее, заново переживая над листом бумаги – памятью, сердцем – каналы, речные плесы, восходы, закаты, костры в ночных лесах, человеческие лица, судьбы, речи, произнесенные с простотою душевной. О! Это великое благо – душевная простота. Надо долго, оседло жить в лесной, со снежными зимами, долгожданными ледоходами местности, плавать на лодке, проваливаться в болото, провожать глазами невесомых в лазоревом небе бело-розовых лебедей, зарабатывать хлеб свой насущный тяжким трудом, чтоб обрести в себе эту способность раскрыть пусть даже и незнакомому человеку душу – до донышка, как раскрывает себя незамутненная лесная река.
Определялись гранины, координаты книги: берег Ладоги, Свирь от устья и до истока и там – Онего, иная держава, туда я не очень-то заплывал, мне хватало и свирских притоков – Паши да Ояти, их меньших сестер – Капши, Кондеги, Сязьниги, Вонги, Рыбежки, Шоткусы. Я переминачивал имена этих рек в моей книге, чтоб сохранить за собою право на домысел. Сознаюсь, я не очень использовал это право...
Придумывал имена для героев, но герои всегда узнавали себя и не обижались на сочинителя за вольное обращение с материалом их жизни – в силу душевной своей простоты.
Из каждой поездки, похода, плавания я привозил сюжет для рассказа; сюжет начинался со встречи, и нужно было всего-то, чтоб мне понравился встреченный человек. Тут мне помогло, быть может, унаследованное от родителя свойство характера – быстро сходиться с людьми: лесниками-сплавщиками-рыбаками. И еще: не жалеть ног. Бывало, утром, чуть заря, выйдешь из Лодейного Поля, вечернюю зорю встретишь над Оятью, в поленовских местах, в деревне Имоченицы. Столько всего увидишь за долгий майский день, столько перечувствуешь, передумаешь, со встречными всласть наговоришься. И еще: завязавшиеся в этих походах знакомства не развязывались с годами, сюжеты обретали глубину времени, то есть жизнь тянула, раскручивала сюжеты человеческих судеб, я держался за ниточку – и писал эту книгу.
В сорок первом году, в декабре, директором Пашской сплавной конторы назначили Павла Нечесанова, до той поры крановщика на рейде, мой отец подписал приказ о назначении. С фронта в Пашу долетали не только самолеты, но и снаряды, рабочего ни одного, рейд с кранами брошен, и запонь вмерзла в лед вместе с приплавленным лесом – триста тысяч кубов... Нужно было этот лес удержать по весне, в ледоход, погрузить в баржи и отправить по Ладоге в Ленинград, так же остро нуждавшийся в топливе, как и в хлебе.
Под начало к молодому тогда директору сплавной конторы привезли из Ленинграда несколько сотен изможденных блокадным голодом девушек. Нужно было сначала их накормить, отогреть и тогда уже приспособить к тяжелому мужскому труду. Удержать лес вместе с запонью, не дать ему уплыть в Ладогу, кажется, непосильное дело даже для мужиков... Удержали. Отправили лес в Ленинград. Это маленькое – в масштабе всенародного подвига – сражение, выигранное на трудовом фронте, осталось незамеченным, как сотни других примеров мужества, самоотвержения, организаторского таланта советских людей на долгом пути к Победе.
Мне рассказал о нем сам Павел Александрович Нечесанов. После войны он еще тридцать лет директорствовал на Паше; каждая дорога, каждый новый дом, каждый электрический столб, каждая человеческая судьба в округе причастны личности и трудам этого незаурядного, талантливого человека без образования, в юности бурлачившего на Мариинской системе, в высшей степени наделенного даром организатора, хозяина жизни, ясным государственным умом и теплом человечности. Бывало, как весна – я еду на Пашу к Нечесанову. Энергия, исходившая от этого человека, помогла мне написать наиболее дорогую мне вещь – повесть «Запонь».
Я начал писать ее давным-давно. В книге поставлена точка. Но, ставя точку, я знаю: однажды сяду на ладожский пароход, в лодку, ступлю на лесную тропу, встречу знакомого человека, и что-то проснется во мне – чувство сыновнего долга перед этим краем. Отсюда я родом, здесь родилась эта книга. И будет длиться она, покуда видят глаза, носят ноги, работает память, не затворилась душа.
Запонь
Глава первая
1
На исходе шестого десятка, в близком к пенсии возрасте, у Степана Гавриловича Даргиничева появился интерес к некрологам. Он вчитывался в строчки: «На пятьдесят шестом году жизни...», «На пятьдесят восьмом году жизни...». «И я вот тоже однажды сунусь мордой в землю, – думал Даргиничев, – и к богу в рай. Не умеют у нас дорожить человеком. Человек работает, как волк... А другой, бездельник, до ста лет проживет: сначала он в институте, потом инженеришком поболтается где-нибудь в конторе, глядишь – в начальники вышел. Чего же ему не жить? Это нам времени не хватило институты закончить. Это мы всю жизнь работали, как волки...»
Степан Гаврилович равнял себя к этим крупным умершим людям. Пусть они поднялись высоко в государстве, это были такие люди, как он, та же кость. Сердце болело у него, как у всех его одногодков. Он думал, что город обязан теперь чуть-чуть потеснить расплодившихся в нем бездельников и предоставить место ему, лесному волку, труженику. «И хозяйка моя пущай отдохнет...»
Без малого тридцать лет оттрубил Даргиничев директором сплавной конторы и обижался на начальника комбината и на заместителя начальника по сплаву: «Могли бы назначить – до пенсии – хотя директором лесобиржи... Квартиру дать в городе, чтобы не мерзнуть в сортире на старости лет, не мокнуть в болоте...»
Но тут-то и вышел указ о высшей награде Степану Даргиничеву. Дали ему Героя Труда. Других героев не было по району. Все поздравляли его, телеграммы носили домой и в контору, при встрече всякий издалека улыбался: «Поздравляю, Степан Гаврилович! С Героем вас социалистического труда!»
Даргиничев глядел в глаза поздравителю прямым, немигающим, голубоватым, как бы из горней выси, и в то же время приветливым взглядом, говорил: «Спасибо». Уйдя с лица, улыбка вскоре опять возвращалась. Он думал: «Уважили, не забыли. В городе век просидишь, как воробей в стае, никто тебя не заметит, а тут – на виду». Старость вдруг отодвинулась далеко. Даргиничев говорил теперь о своей старости с улыбкой: «На пенсию выйду – буду сад-огород разводить, в земле ковыряться. Да с корреспондентами по району ездить, рассказывать им, что, как и где, чтобы не врали...»
Газету Даргиничев уважал. И книгу он уважал, но для многого чтения времени не сыскалось. Только три книги запомнились ему: «Кутузов», «Разин Степан» и «Петр Первый». Особенно по душе пришелся ему Алексашка Меншиков, крестьянский сын: «От же, ей-богу, ходовый мужик, голова, царя вокруг пальца обвел, всей Россией заправлял. Не в образовании дело, в другом...»
2
Когда напечатали указ о наградах, Даргиничеву позвонил из города Иван Николаевич Астахов, пенсионер.
– Здорово, Степа, – сказал Астахов. Медленный, растянутый в каждом звуке, но не поколебленный километрами телефонной проволоки голос вдруг охватил Даргиничева и словно приподнял его – такая была в нем сила. Никто бы ее не расслышал в хриповатом голосе старика. Но Даргиничев вспомнил астаховский голос, каким он был в прежние годы.
Управляющий трестом Астахов звонил в разное время суток, гудел, как лесопильный завод, понукая к работе: «Ты это мне брось, понимаете, Степа! Садись на хвост! На шондижский хвост, говорю, садись! Если вы мне осушите хвост, я вас в бараний рог всех согну, понимаете! Садись на хвост!» – грохотал Астахов.
Состарившийся Астахов, пенсионер, сказал Даргиничеву:
– Здорово, Степа. Поздравляю тебя от души.
Герой Труда Даргиничев взял трубку двумя руками, боясь, что голос расколется вдруг, пропадет. Он наклонил к трубке большую сивую голову, даже коснулся мембраны губами и громко сказал:
– Спасибо, Иван Николаевич!
Он услышал, как дышит там, за триста километров от него, в своей квартире Астахов, который последние годы ему не звонил, который уже удалился от сплава, от запоней и хвостов. Теперь другие люди учили его по телефону, что нужно делать, хотя он знал и без них.
– Желаю тебе здоровья, успехов в работе, – медленно говорил Астахов. И Даргиничев вдруг почувствовал слезы – от счастья своей заслуги и от жалости к Ивану Астахову, так ему вдруг захотелось сесть с ним за стол, как прежде бывало.
– Спасибо, Иван Николаевич! И вам того же желаю. – Даргиничев не сказал «тово», а «того», как пишут в газетах и книгах.
Астахов подышал в свою трубку. Даргиничев подождал, не снимая с лица улыбку. Их поздравительный разговор, расхожие фразы, незначащие слова – вся эта условная форма человеческой доброты друг к другу – исчерпались, и они не знали, с чего начинать другой, их собственный разговор. И надо ли начинать его.
– Ну... как... ты там, Степа?.. – сказал Астахов.
Нечто детское, обиженное послышалось в астаховском голосе. Иван Астахов, большой человек, владыка лесов и речек, пожаловался издали на свою болезную старость и словно попросил подмоги, словно Степан и был тот профессор, который скажет ему, как сладить с инфарктом, склерозом, со смертью.
– Со здоровьем неважно, Иван Николаевич, – сказал Даргиничев. – Сердце совсем никуда. Даже выпить нельзя по случаю награды. Просто беда. – Он сказал так, чтобы немножко сравнять свое торжество с астаховской горестью.
– Ну, это ты брось, – сказал Астахов. – Теперь ты еще лет восемь сможешь работать конь конем. Я от души тебя поздравляю и обнимаю тебя. Тебе за дело дали Героя. За наше с тобой дело. Поклон твоей семье. – Астахов повесил трубку.
3
Как всегда, снарядившись с утра ехать в лес, Даргиничев заглянул в контору. Он прочел телеграммы, лежавшие на столе. Поздравляли его незнакомые люди, издалека. Из Тернея, Приморского края, пришла телеграмма. «Живешь и не знаешь, что такое место есть на земле», – подумал Даргиничев. Одну телеграмму он долго читал. В ней было написано: «Глубокоуважаемый Степан Гаврилович, мы с дочкой сердечно поздравляем вас высокой заслуженной наградой. Будьте счастливы, здоровы. Нина Нечаева».
Даргиничев убрал телеграммы в стол, а эту спрятал в бумажник. Головой покачал, улыбнулся: «Нина Нечаева...» Сел в машину, поехал песчаной дорогой по берегу Вальниги, Миновал разросшийся поселок Сигожно, лесопильный завод; нужно было заехать туда, там ждали... Главный механик – Даргиничев видел – уже встречал у ворот, и рабочие сидели на лавочке под пожарным ведром и багром. Но Даргиничев не свернул и не сбавил газа. Поехал один, хотя шофер его тоже сидел под ведром.
Шофер был сигоженский житель, приходил по утрам на завод, дожидался директора – ехать с ним на лесные деляны. На обратной дороге шофер вылезал у калитки своей усадьбы, директор пересаживался к рулю.
...Он поехал вдоль лесосклада; штабеля бревен закрыли Вяльнигу, только торчали застылые краны, как сосны-семенники. Дыбились ржавые груды перебродивших опилок. Бабы выстругивали на козлах серпами-скребками еловые чурки на экспорт. Англичане не брали елку в коре – только белую косточку. Они варили из вяльнижской ели целлюлозу и делали бумагу высших кондиций, глянцевой белизны.
Даргиничев краем глаза глянул на это свое хозяйство и отвернулся. Подумал: «Какое-то упрощение. Когда наконец на себя-то научимся мы работать как следует? На экспорт елки оскабливаем, а сами хряпаем что попало. Поглядели бы англичане эту нашу механизацию, как бабы серпами елку скубают... Неужто нельзя ошкурочную машину сделать? Сидят там в проектных институтах стрекулисты. Им бы дать в руки скребок...»
Директор любил механизмы, машинное производство, размах и порядок. Досадно было ему видеть женщин в ватных бушлатах, строгающих елку. «...Упрощение, – подумал директор. – Упрощение!»
На лесоскладе ему кто-то махнул рукой, кто-то бежал наперехват. Директор был нужен. «Все станет тут без меня», – подумал Даргиничев, посигналил, прибавил газу, перемахнул мосток через Сяргу. Машину занесло на песках, он воткнул демультипликатор, вырулил на поросший можжевельником высокий берег Вяльниги.
Опавшая, тусклая река медленно набегала внизу под ним. Стояла на юру дощатая булка на тракторных санях, с выбитым окошком. Повсюду клубились шматки заржавелых тросов... Пустынность, запах сырой древесины и можжевеловой хвои, низкие, с набухшей до черноты нависью-бахромой облака. Вымытая дождями крупнозернистая, зольная супесь. Предзимье. Октябрь.
Даргиничев шатнул рукой будку, но не взглянул на нее, вышел к откосу. Пустынный мусорный берег, чуть заметно скользящая низкая вода, истертые тросом бревна, чурки и щепки – все показалось бы мертвым стороннему оку. Но Даргиничев видел берег и реку в натуге, в движении, в силе. Он видел огрузшую запонь на Вяльниге; скрипели тросы, громоздился шондижский, сяргинский, кыжинский, нергинский лес, стонали бревна-мертвяки в траншеях. Груженная древесиной, как баржа, река давила на запонь, ревела. Так бывало из года в год по веснам – всю Степину жизнь. Верещали телефоны в сплавной конторе, но комнаты пустовали, конторский люд подсоблял своей запони. Работали тросы, буксиры, лебедки. Но также работали директорские нервы, мускулы, сердце...
Он достал из кармана бумажник, вынул листок телеграммы и опять прочитал: «Глубокоуважаемый Степан Гаврилович, мы се дочкой сердечно поздравляем вас высокой заслуженной наградой. Будьте счастливы, здоровы. Нина Нечаева».
Даргиничев покачал головой, усмехнулся: «Вот ведь, о себе напомнила... И дочка есть». Он прошелся по берегу. Ему хотелось побыть одному на этом носке над Вяльнигой, где он понервничал, и наорался, и наработался. Прежде с ним не случалось такого, он не нуждался в тихих прогулках на берегу, не имел свободных минут и вальяжных привычек. Не хаживал в лес на охоту, не стал рыбаком. Даргиничев был уверен, что рыбы становится меньше не от работы людей на реках, не от сплава, не от постройки плотин, а от безделья и запустения. Он говорил приезжим корреспондентам: «Это все ерунда, что пишут: человек губит рыбу. Обживать надо реки – и рыба будет. На Кондожке было рыбы полно, пока мы по ней лес гнали. А перестали работать – рыба пропала. И не будет. Где работа, там пища для рыбы, там жизнь. Полно было рыбы, пока работали на реке. Сплавные реки мы чистим, обихаживаем. На запонях рабочие кушают, пишу кидают в воду. Рыба гибнет в бросовых реках. Сплав рыбе только на пользу...»
Даргиничев еще постоял над Вяльнижским рейдом в пустынной хмурости осеннего дня и шагнул уже было к машине, но увидел старуху; она поспешала к нему через дорогу, от серых домов поселка, в жакете черного плюша, в суровом сером платке, в сапогах, и кланялась издали, причитала:








