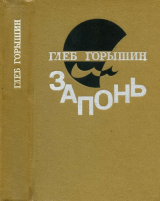
Текст книги "Запонь"
Автор книги: Глеб Горышин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 26 страниц)
– Ой, как здесь хорошо у тебя. Ты что же, совсем здесь один? Вот благодать-то.
Сошел на берег главный лесничий, в лесническом мундире, в фуражке с дубовыми листьями на кокарде, Перевалил за борт свое маленькое, крепенькое тело бригадир Высоцкий. Снял кепку и обнаружил совершенно лысую, круглую маковку. От кепки остался розовый обод, ниже обода росли волосы, а выше нет. Бригадир держал в руках котел, из него торчал хвост лосося. Он сказал:
– Сейчас уху заделаем, нашу, рыбацкую.
– Уха уж готова, – сказал Феликс.
Высоцкий взглянул в чугун, сложил губы в усмешку, причмокнул:
– Это, по-нашему, не уха, это – пол-ухи…
Он быстро разделал свою красную рыбу, поместил ее в чугун с Феликсовой ухой, расшуровал огонь под таганом. Новая, двойная уха, с красной рыбицей, вскорости закипела. Феликс предложил пока выпить, под копченого сига. Все согласились. Главный лесничий принес бутылки, но Феликс сбегал за своей, запотевшей в студеном ключе, и все хвалили его:
– Вот устроился парень. Вот житуха ему...
Принялись разливать, и, как всегда бывает, не хватило посуды, но все устроилось: бригадиру дали консервную банку, в которой хранилась соль, главному лесничему и Феликсу – по кружке, а Люде – стакан. Озеро чуть плескалось, взблескивало на солнце, ровно, просторно дышало всей грудью. Пахло рыбой, водой, хвоей, грибами, спелой, повядшей болотной травой – кухней осенней.
– За грибами надо было сбегать, – сказал Феликс, – белых-то нет, обабков да моховиков полно, можно бы нажарить.
– Обабки не хуже, а может, еще и получше белых, – сказал Высоцкий, опорожнивший свою банку. – Обабок солить можно – это раз, супешник из него получается наваристый, сушить можно, жарить. У моей хозяйки обабок – это первое дело...
– Да ну, зачем еще грибы? – сказала Люда. – И так стол ломится от яств. – Она по-мужски хватила полстакана водки. Главный лесничий ее угостил сигаретой «Опал». Люда сладко курила, глотала дым, часто стряхивала пальчиком пепел. Все на нее смотрели – трое мужчин – и как могли услужали. Феликс принес ей воды из ключа, чтобы водку запить, главный лесничий чиркал спичками, зажигал сигареты. Первой Люде Высоцкий подал миску с ухой. Уха загустела. Красная рыбина разварилась, заполнила весь чугун до краев. Люде только и дали миску, мужчины хлебали из чугуна деревянными ложками. Глаза у них масленели, языки развязывались мало-помалу.
Мужчины рассказывали случаи, эпизоды из жизни. Бригадир рассказал, как поймали большую рыбу – на двадцать один килограмм. Главный лесничий – как ехал на «Москвиче», на собственном «Москвиче», за рулем и доехал до самого Петрозаводска. Феликс Нимберг, всегдашний завзятый рассказчик, звонок, помалкивал в этот раз. Лицо его выделялось среди других лиц в застолье – сиянием, веселой, подвижной игрою света, будто солнечный зайчик на нем, будто кто-то сидит с зеркальцем на сосне и пускает, пускает солнечный зайчик в лицо. Луч преломляется тут и тянется дальше, к Люде, тревожит, щекочет ее лицо.
– Ух, жарко стало от твоей ухи, – сказала Люда, улыбаясь Феликсу.
– Дак уха-то не моя, вон его, – отвечал Феликс скорым своим, приветно журчащим говорком.
– Все равно в ухе основа твоя. И сиг у тебя – просто пальчики оближешь. Игорь меня ругает, что у нас стол однообразный. Он хочет, чтобы, как в лучших домах, ему дупелей подавали под белым соусом. А я не люблю со стряпней возиться...
Они смотрели друг на дружку, Феликс и Люда, щурились от невидимого другим света. Прилетела сорока, раскачивалась на рябиновой ветке, вместе с пунцовеющими гроздьями ягод, трещала, предвидя свой, сорочий пир возле пира людского. Прилетела сойка и тоже заявила о себе, о своей доле в пиру – нахальным, скрипучим криком.
– ...А я иду по Кундорожи, – сказал главный лесничий, поигрывая глазами, – гляжу, на берегу Люда стоит одна, как сирота казанская. Дай-ка, думаю, подверну, не случилось ли что...
– Игорь уехал в город отчет сдавать, а я в окошко вижу, казанка идет, думала, может, он, вышла встретить... – Люда посмотрела на Феликса, так, невзначай. – Он вообще-то дня на три вчера утром уехал...
Феликс запомнил: осталось два дня, полтора теперь уж...
Люда включила магнитофон, он стоял на столе, среди еще несъеденных рыб и рыбьих оглодков. Сличенко запел: «Ми-ла-я, ты услышь ме-ня...»
– Мне, когда тихо, слышно, – сказал Феликс, – как он у тебя поет. Это когда вон они идут невод похожать – нашумят, навоняют на всю губу. А вечером тихо. Я послушаю, послушаю и сам петь начинаю...
– Мне тоже слышно, – сказала Люда и посмотрела на бригадира и на лесничего с каким-то вызовом.
– Для кого поешь, тот и слышит, – сказал бригадир. Лицо его, плечи, руки сделались пьяными, разболтались. Не потому, что запьянел он больше других, а потому, что позволил себе запьянеть. Для того и пил, чтобы стать пьяным. Иначе пить для чего?
– Телепатия... – сказал со значением главный лесничий.
Опять приложились, допили, доели. Пир кончился вдруг. Так много, казалось, всего, так лакомо, вкусно, так долго можно сидеть, тешить себя чревоугодием, сладострастием пира. И нет ничего. Нетерпеливо, сердит кричали сорока и сойка. Наступало их время.
– Ой, до чего же я пьяная, – сказала Люда, прижимая к щекам тыльной стороной ладошки. – Как я по озеру-то поплыву? Хорошо, еще ветра нет, не качает.
– А чего тебе плыть? – сказал бригадир. – Дети у тебя не плачут. Изба вон у Феликса большая. Мужик он смирный. Ты девка смелая, медведей не боишься, не то что нашего брата. Живи, отдыхай.
– Я-то не боюсь, – сказала Люда. – Только мне нельзя. Я женщина замужняя.
– Мы по Кундорожи пойдем, твоему мужу посигналим, что баба в надежном месте находится, – сказал бригадир.
– Можно найти и получше местечко, – опять играл глазами, кокетничал главный лесничий, оглядывал Люду как бы с высоты и в то же время искательно, с некоей тайной надеждой. – На Шондиге, на Кыжне у нас, как в Швейцарии: горы, в речках форель... Будет желание – можно съездить... Машина на ходу...
– Я бы с удовольствием, – отвечала Люда.
Феликс слушал этот послеобеденный разговор, не участвуя в нем. На лице его все светился, подрагивал кем-то пущенный солнечный зайчик. Как сорока, как сойка, он ждал, когда схлынут ненужные ему теперь гости с их двусмысленным разговором, и начнется тогда его, главный пир. Ни хмеля не чувствовал он в голове, ни сытости в теле, нетерпеливое ожидание счастья и вера в его непременность владели Феликсом. Он почти не смотрел на Люду, но стоило обратить к ней глаза, как тотчас она отвечала ему, и что-то вспыхивало тогла, слепило.
– Дай-ка я хоть посуду помою, – сказала Люда. – Ты где ее моешь?
– Да вон в озере сполосну – и ладно, – радостно откликнулся Феликс. – Пойдешь мыть – о́куни, как поросята, сбегаются, чуть за пальцы не хватают...
Люда собрала со стола и пошла, запинаясь, вниз по тропе. Феликс добрал, что осталось, и пошел за ней следом. Бригадир и главный лесничий смотрели на них, пока они скрылись за камнем, за сосняком.
Когда они остались вдвоем на узком галечном забереге, Люда поворотилась к Феликсу, он обнял ее, миски и кружки брякнули оземь, те, что были в руках у Люды. Свои Феликс поставил на гальку без звука, отстранился на мгновенье от Люды – и сразу вернулся, приник, целовал без роздыху, долго. Он не чуял земли под собой, он любил, и любовь подымала его, туманила голову не горьким похмельем, а сладостным хмелем, желанием, силой своей. Люда тоже любила его. Руки, губы, тело ее говорили ему о любви, обещали любовь...
Люда села на камень, закрыла глаза, раскачивалась, приговаривала:
– Ой, я совсем, совсем окосела...
И Феликс опять не знал, что поделать ему со своей любовью. Он ополоснул кружки и миски в холодной озерной воде и сам поостыл, совладал с собою. Его подвижная, привычная к непрестанному действию натура не могла больше мириться с неопределенностью. Он сказал Люде, без искательства и робости, как о решенном, о непременном деле:
– Я к тебе сегодня приду.
Люда не удивилась, словно знала, что так и будет. Она только сказала:
– Как бы Игорь не заявился.
– Он на своей лодке? – спросил Феликс.
– Нет, Сашка его в Гумборицу отвез.
– Разве что засветло, – сказал Фелинкс. – В потемках навряд ли кто из гумборицких на Кундорожь пойдет. Пяльинские – те и вообще не ходят...
Так говорили они, вполголоса, в укромном месте, у самой воды, за поросшим соснами большим камнем.
– ...Не знаю, – сомневалась, мучилась Люда. – Он может и берегом прибежать. – Она говорила о муже своем, как с ночной опасности, о враге.
– Последний пароходик из Вальниги на Гумборицу идет в шесть часов, – прикидывал Феликс. – В Гумборице он в четверть восьмого... К десяти так и так можно добраться... Ты часов в одиннадцать дай мне знать...
– А как я дам знать?
– Выдь на берег и позови меня, – улыбнулся Фелике. – Я услышу.
– Я лучше знаешь что сделаю? Я фонарь возьму «летучую мышь» и на берегу повешу, там столб есть... В одиннадцать, да?
– А хоть когда, – сказал Феликс, – я за тобой круглосуточное наблюдение веду.
Казанка главного лесничего умчалась. Феликс снял, смотал переметы. Прибрался в избе, вымел пол новым березовым веником. Наколол высушенных под плитой дров, сложил их у топки. Насыпал в миску соли, поставил ее на плиту. Тут же поместил спички, остатки круп, чай и сахар. Все это делал он не потому, что надо было ему исполнить рыбацкий, охотницкий, страннический обычай, закон: позаботиться об идущем следом собрате. Он знал, назавтра сюда может явиться гуляка-турист и спалить весь дом. Но все-таки Феликс оставил спичек и наготовил дровец, хотя бы и для туриста. Так нравилось ему, так хотелось.
Свое имущество он уложил в лодку, поковырялся в моторе, но времени все равно еще оставалось много до одиннадцати часов. Что-то сломалось в моторе, движущем время, время еле ползло. Солнце зависло над озером, Феликс глядел на него, мерил глазом, сколько еще осталось ему до воды. Но тут принесло низом лиловато-багровую тучу, задернуло солнце, оно исчезло как мера времени, дня и ночи, света и тьмы.
Приплыли два мужика из Сонгостроя, интересовались не той рыбой, которая ловится на крючок, на дорожку, на перемет, а той, что в рыбацких мережах, в сетях, в ставных неводах.
Феликс сказал мужикам:
– Не советую вам, ребята, соваться туда. В прошлом году двое сунулись, дак рыбачки́ их прихватили. Рыбачки́ сильно не любят, когда у них сети щупают.
– А ты что, сам из ихней артели, за сторожа тут? – осведомились мужики.
– Да нет, – сказал Феликс, – я не из артели, я сам от себя.
Мужики не поверили ему и уплыли куда-то, искать в большом озере своего фарта.
Оставаться дольше на берегу, на Еремином Камне, Феликс не мог. Страстное волнение охватывало его, а ночь все не наступала. Пыжа он привязал в избе. Обиженный пес выл, плакал, стонал. С собою взять его Феликс не решился, не зная, что ждет его за губой, зажжется ли там фонарик в назначенный час. Он столкнул с берега лодку, прыгнул в нее, пустил мотор и поплыл. Сразу ветер задул, посвежело, брызги омыли, охолонули лицо. Феликс направил лодку в устье губы, плыл вверх по реке, по фарватеру. Когда зажглись фонари на бакенах и смазались контуры берегов, он заглушил мотор. Лодка еще пробежала немного, прошелестела, потом ее стало сносить, поворачивать. Река подхватила лодку, Феликс помогал веслом. Не слышимая никем, лодка плыла по заревому плесу. В траве у берега плюхали щуки. Прошлепала самоходка, неся копну света.
Феликс смотрел на часы и погонял лодку веслом, налегал. В губе он свернул с фарватера в заросль тресты, еще приналег. Идти под мотором он не хотел: слышно в Пялье. Греб стоя. Так шибко гнал большую тяжелую лодку, что подымалась волна, шуршала треста, с заполошным кряком слетали утки.
Он правил на чуть брезживший впереди, отраженный водой отсвет кундорожской базы. На базе горел огонь – для кого, что он значил? Ближе к берегу Феликс бросил весло, взял пропешку – еловый шест. Когда совсем стало мелко, подтянул голенища, шагнул за борт, побрел осторожно, без шуму ступая по не слишком вязкому торфяному дну.
Взойдя на берег, сел в Игореву лодку – на этой лодке они первый раз похожали с Людой вон там, нод берегом, сеть. Базы с губы не видать, ее заслонили ивы, березы, ольха. Феликс сидел, как ночная птица, нахохлясь, не шевелился. Слушал. Ближе, громче всего ему слышалось собственное сердце, стучало, ломилось в ребра. И в горле похрипывало, свистело дыхание, Феликс хотел унять сердце, остыть, но не мог. Ему чудились голоса, лай собачий, смех, стук мотора. Он порывался встать и уплыть. Делалось стыдно ему, нехорошо, что он, как вор, собрался похожать в ночи чужой невод. Могут за это его и прибить. Феликс смотрел на часы, дело уже шло к полночи...
Как вдруг кто-то прибежал к нему, хлюпая по болоту, по мокрой траве. Феликс мгновенно обернулся на этот звук, увидел собаку, лохматую, с белой грудью лайку Сайду. Сайда смотрела на него без малейшей опаски, с приветом, как на знакомца, на друга. Вильнула хвостом.
Низко в кустах, на тропе завиднелся, задвигался фонарь. Сайда коротко тявкнула, позвала, сообщила: «Вот я здесь. Все в порядке, сюда!» Люда вышла на берег. Лица ее свет не достигал, блестели мокрые голенища резиновых сапог. Феликс встал ей навстречу. Она вскинула фонарь, защищаясь. Феликс сказал:
– Это я. Я уже тут.
Люда опустила фонарь на траву:
– О, господи. Так и помереть можно со страху. Ты давно ждешь? Я не могла раньше. Никак от мужиков не отвязаться было.
– Какие мужики-то? – спросил Феликс.
– Все те же самые, лесничий да бригадир.
Феликс не понял сразу – какой лесничий, какой бригадир? И спрашивать не хотелось ему. Он долго-долго плыл на лодке к своей любимой, в ночи, по озеру, по реке, по заводи средь камышей. Если надо, еще бы поплыл – и без мотора, без весла, без пропешки достиг бы желанного берега. Он думал, что Люда ждет его одна-одинешенька у края пустынных вод, засветила фонарь... Он забыл, что еще есть на свете лесничие, бригадиры. Про Игоря он тоже забыл...
– Пойдем, – сказала Люда. – Лодка-то где твоя?
– А я так, без лодки, как Христос пришел по воде.
– Ну, молодец, – сказала Люда, – пойдем.
Люда пошла с фонарем впереди, в сапогах с поднятыми голенищами, в кургузом ватнике, походила она на мужика. И походка была у нее мужичья. Феликсу вдруг показалось, что это не тот человек его встретил, к которому он плыл, – чужой. Куда он приплыл, для чего? Люда остановилась, обернулась к нему, подалась навстречу. Феликс поцеловал ее, долго не отрывался, пока удостоверился: приплыл, куда нужно ему. Краем глаза он видел Сайду: в фонарном свете блестел собачий внимательный, понимающий глаз. Сайда сбежала с тропинки, укромно села под куст, наблюдала…
Феликс вышел из дому на берег, когда проснулся туман под рекой, полетел, вспугнутый неведомо каким дуновением. Мокро всюду: в воздухе, на земле. Люда куталась в ватник и отводила глаза.
– Ты можешь ко мне прийти, – сказал Феликс. – Совсем прийти. Я буду тебя всегда ждать... Так просто у нас не выйдет...
– Игорь, если узнает, меня убьет, – сказала Люда. – И над собой что-нибудь сделает...
Туман полетел над водой еще шибче, в испуге, в смятении... Они обнялись на прощанье. Сайда пришла посмотреть. Она провожала Феликса, глядела, как он бредет по воде, достает из тресты свою лодку.
Губу Феликс прошел на весле, на пропешке. На реке тишину уже распороли моторы рыбацких лодок. Выше тумана проплыл трехпалубный белый, рейсом до Ярославля или до Астрахани, пароход. Феликс сплавился немножко по течению и завел мотор. Сразу сделалось ему лучше, уверенней: шесть лошадиных моторных сил повиновались ему – плыви куда хочешь, на все четыре стороны. Он повернул к Еремину Камню, вышел на берег, отвязал Пыжа. Тот не выказал радости, настолько измучился за ночь, перегорел. Взглянул с укоризной на хозяина, сразу забрался в лодку, улегся в носу, уши его, шкуру подергивало нервным тиком.
Феликс развел огонь под таганом, напился чаю. Когда показалась на озере мотоёла рыбацкой артели, он пошел ей навстречу, помахал рукой бригадиру Высоцкому. Тот стоял у штурвала, чуть поднял руку и опустил. Что-то сказал рыбакам. Те посмотрели на Феликса. На лицах, хмурых спросонья, не отразилось каких-либо чувств.
Феликс думал, что о ночной его одиссее неведомо никому. И все же в замкнутых, утренних, сизых рыбацких лицах, в нелюдимой позе бригадира Высоцкого померещилось ему осуждение, что ли. Когда он шел по каналу, Пяльем, полоскавшие на плотах белье бабы разгибали спины – взглянуть на него. И тоже, казалось ему, что-то знали они, не прощали. У входа в Кундорожь, на излуке канала, попался навстречу буксир с длинной гонкой леса. Буксир прижимался тут к левому берегу. Проскочить Феликс не успел. Концевая сплотка в гонке упиралась в другой берег, чертила по нему. Волей-неволей пришлось поворачивать в Кундорожь, переждать. На дом, где был этой ночью, Феликс старался даже и не глядеть. Медленно, нескончаемо долго ползла мимо гонка. Проволоклась-таки. Феликс вышел в канал и сразу увидел лодку, идущую сверху из Гумборицы. В носу ее сидел Игорь Лубнин, охотовед, птицевед, рыбовед, последователь индийских йогов, без пяти минут или, скажем для верности, без десяти минут кандидат наук, молодожен. Был он широк в плечах, лицом бел, в блестящей синей куртке с «молниями». Его непокрытые, густые, вьющиеся, русые волосы развевались на встречном ветру, летели. На руле у мотора, нахохлившись, втянув голову в плечи, как серая крачка, примостился Сашка Бугров, механик Пяльинского лесоучастка. Во рту у него, раздуваемая ветром, искрила папироса. Лодка шла правым берегом. Феликсу не хотелось встречаться глазами с охотоведом, но некуда было податься. Не приготовился Феликс, не ждал этой встречи. Судорожная ухмылка перекосила его лицо. Он внутренне замер, аршин проглотил. Притвориться, роль сыграть Феликс не умел. Да и какую роль нужно было ему играть? Игорь каменно твердо сидел и смотрел тяжело, ничто в нем не шевельнулось. Он не поздоровался с Феликсом, Феликс тоже не смог поздороваться с ним. Сашка махнул рукой, что-то крикнул, за двумя моторами не слыхать.
Если бы мог, Феликс прибавил бы скорость. Но у мотора не было силы. Лодки поравнялись и разминулись. Феликс поплыл дальше, и судорога души, лица все не отпускала, не ослабевала. Стыдно, гадко было ему.
Зло возникло из счастья, после самой лучшей, самой сладкой, самой главной в жизни Феликса ночи, оно родилось из его любви. Феликс думал об Игоре и ужасался той муке, какая ждала теперь Игоря. Ему мерещилось Игорево остановившееся, будто от нестерпимой боли, лицо. О Люде Феликс не думал сейчас. То есть думал, конечно, он думал о ней всегда. Но Люда – для счастья, для радости, для любви. Ее не могут коснуться ни зло, ни беда, ни вина...
Феликс пробовал взять всю вину на себя: «Не надо было мне лезть. Отступиться... Пусть бы жили себе...» Он вспоминал, как, с чего началось, как шел на весле, на пропешке – через губу, как в потемках сидел на берегу, обмирая от отчаяния и надежды, как появился в кустах, прикатился к нему ком света... Как жарко Люда шептала ему, в самые губы: «Никогда, никогда еще не было так хорошо... Никогда...» Феликс строго себя судил, но память, живая, телесная память минувшей ночи, давала ему оправдание. Он спрашивал у себя: «Если б не было ничего, если б опять все сначала, поплыл бы через губу?» – и отвечал: «Да, поплыл...»
Почему, как Игорь прознал о случившихся в его доме ночных делах – об этом Феликс не думал. Ночью он позабыл про Игоря, а когда утром увидел его, то сразу и выдал себя. Был уверен, что выдал. И Люда выдаст. Как скрыть-то? Как обмануть? И зачем обманывать?
Гумборицкие собаки скатывались по лесенкам к воде, лаяли на Пыжа, опять забирались наверх, бежали до следующей лесенки, рушились вниз, заливались. В гумборицкой чайной Феликс взял котлету, но есть ее не смог. С жадностью выпил стакан горячего крепкого чая. В чайной сидели капитаны, помощники капитанов, механики, боцманы буксиров и самоходок – все в белых нейлоновых рубашках, при галстуках, с золотом на рукавах, как моряки больших плаваний. Котлету Феликс отдал Пыжу, тот долго брезгливо ее мусолил, будто это кость, мосталыга.
Накрапывал дождь. Вскоре он разошелся. Феликс с Пыжом промокли, продрогли, пока по Вяльниге плыли. Дома мать поила Феликса чаем с малиновым вареньем. Он забрался под одеяло, не мог согреться, озноб его бил. Отец принес маленькую, потчевал пуншем. Но и это не помогало. Ночью Феликс не спал, все слушал, чудились ему шаги, голоса. Он ждал, что Люда приедет к нему, прибежит. Укорял себя тем, что не остался, не привез Люду с собой. Каково ей там с нелюбимым и страшным в своей ревности человеком?
Ночь кончилась. Люда не прибежала. Утром Феликс ходил на пристань встречать пароходик из Гумборицы. Люды не было на нем. Феликс поднялся к мосту, откуда виднелась Вяльнига – до излуки, до села Кондрашкина, с похилившейся церковкой над ним. Вяльнигу прохватило мозглой стужей, туманом, дождем. Феликс вглядывался в каждую лодку, идущую снизу. Люды не было в них. С дневным пароходом прибыл рыбак из бригады Высоцкого. Феликс спросил у него:
– Ты на Кундорожи вчера был?
– С озера идешь – Кундорожь не минуешь, – сказал рыбак. – Вчера невода похожали...
– Ну, как там, тихо?
– Выпили малость, дак Пашка Ладьин песни пел. А так ничо, тихо, – сказал рыбак.
С вечерним пароходом Люда тоже не приплыла, по берегу не прибежала, в лодке ее никто не привез.
У Феликса оставалась еще неделя отпуска. Назавтра он собрал котомку, повесил за спину ружье, привязал к багажнику мотоцикла корзину. Пыж сам прыгнул в корзину, покрутился и лег. В Островенском Феликс оставил мотоцикл у лесника, переплыл Вяльнигу и углубился в корбу – глухие леса, не слыхавшие пока что визга моторной пилы и рева трелевочного трактора. В лесах этих белые грибы доживали до старости, помирали дряхлыми дедами. С елей свисали бороды лишайников. На квартальных просеках рдели рясные гроздья брусники. Грохоча крыльями, с ягодных кочек слетали глухари.
За неделю Феликс оброс белесой щетиной, пропитался костерным дымом, запахом хвои, грибов. Однажды вечером у костра он написал в своей тетрадке: «Все, что было, то было. Все, что сбудется, будет. Лед меня не согреет, жар меня не остудит». Он успокоился, освежился, как пишут в книгах, нравственно обновился в лесу. Пошел работать – и тоже в лесу. Директор лесхоза послал его на делянку – грузить хлысты на машины. Феликс эту работу не мог терпеть, но теперь согласился. Она утомляла, выматывала – и ладно, и хорошо.
Совесть больше не донимала Феликса, дух его уравновесился, вошел в согласие с телом. Никаких вестей с Кундорожи не поступало, словно жизнь там остановилась тем утром, кончилась, развеялась, как сновидение. Феликсу казалось, что и не было ничего, пригрезилось это: дом на берегу тихих вод и женщина шепчет: «Милый, так не было никогда, никогда...» Днем казалось, а ночами женщина приходила к нему, он протягивал руки и чувствовал ее плоть, желанную, жаркую... Феликс метался на холостяцкой постели и думал, что жить без Люды ему нельзя, а днем, в осенней прохладе и ясности, в тяжких трудах трезвость сознания брала верх над томлением духа и тела: «Если что-нибудь было, то сама ведь тоже она должна хоть какой-нибудь сделать шаг, знак подать... Все, что было, то было. Все, что сбудется, будет. Лед меня не согреет, жар меня не остудит...»
Между тем полетел с севера гусь, потянула морская черная утка. Однажды под воскресенье Феликс погрузил в лодку канистру бензина и отправился вниз по Вяльниге – в озеро. Идучи мимо Кундорожи, поглядел на Людин дом – дом стоял как всегда. Феликс пересек губу, речной фарватер, вошел в Лисью протоку – тут у самой воды мышковала лиса. Феликс вскинул ружье и выстрелил в воду. Лиса с испугу прыгнула, взвилась в воздух всполохом пламени. Феликс всю ее – рыжую, золотую, оранжевую, багряную, с подпалинками – увидел на фоне синего неба и обрадовался такой нечаянной встрече, такой красоте. Никто этого никогда не видел и не увидит...
Радость, удача сопутствовали ему весь день. День солнечный выдался, теплый. На заболоченной старице он подстрелил двух гусей, и утка сама шла под выстрел...
Доверясь своей удаче, своему лучезарному настроению, безмятежной ясности и покою осеннего дня, Феликс направил лодку в Кундорожь, загодя улыбаясь, неся в руке серого гуся, назначенного в подарок.
Игорь, по своему обыкновению, ковырялся в моторе. Он поздоровался с Феликсом со свойственной ему величавой небрежностью, не выразив удивления, радости, дружелюбия, неприязни или других каких-либо чувств. Он поздоровался и опять углубился в мотор. Феликс сказал:
– Я вон двух гусей взял, дуплетом бил, двое и выпали из стаи. Мне-то одного хватит. Дай, думаю, завезу на Кундорожь, тут второго и сварим... – Он положил гуся наземь, невдалеке от Игоревых ног.
Игорь на гуся не посмотрел, а взглянул как-то странно на Феликса и сказал:
– Бойтесь данайцев, дары приносящих... – Потом он еще ковырялся в моторе, молчал. Наконец промямлил, выпятив нижнюю губу: – Сбегай в Пялье за поллитрой. Денег могу дать.
– Зачем, – сказал Феликс, – найдется.
Он спустился к лодке; пока шел до Пялья, запас его добрых чувств иссяк. Люда не вышла из дому, хотя не видеть его, не знать, что он прибыл, она не могла. «Может, куда уехала?» Феликсу не хотелось возвращаться на Кундорожь, не хотелось ему пить с Игорем водку. Но теперь он не волен распорядиться собой. Несвободу почувствовал Феликс, какую-то связанность, затосковал: «Вообще не надо было туда заходить».
...На Кундорожи никто не встретил его, никто не вышел из дому. Феликс постучал сапогами о порог. Игорь сидел за столом, покручивал транзистор. Люда стояла за плитой, в углу на газете высилась грудка гусиных перьев и пуха.
– Давненько что-то тебя не видать, – сказала Люда, глядя мимо Феликса, вскользь.
Игорь поймал какую-то громкую музыку, джаз, – и ушел с транзистором в комнату.
Феликс присел у кухонного стола. Люда не оборачивалась к нему, занималась стряпней. Она сказала:
– Была бы капуста, гуся бы с капустой стушить. Ладно еще лавровый лист да перец нашелся. Мы с Игорем последнее время совсем никуда не ездим. Запасы все истощились...
– Гусь жирный, осенний, – сказал Феликс. – Ничего к нему и не надо. Свой сок даст... – Он посидел еще, не зная, что говорить, и поднялся: – Пойду дровец принесу.
Напиленных чурок всегда довольно валялось у Игоря на дворе. Пилить дрова Игорь любил мотором, а колоть не любил. Феликс натешился вволю, намахался колуном, успокоил себя этой привычной работой. Люда позвала:
– Иди, уварился твой гусь.
Уже смеркалось, и Феликс подумал, что самое лучшее – это сесть бы в лодку, бог с ним и с гусем, и с Игорем... Но что-то мешало ему распорядиться собой, некая неволя, обязанность довлела над ним.
Игорь пошел во двор, завел движок. Люда молчала, и Феликс молчал. Водка не помогла им. Феликс делал попытки заговорить с обычным своим рыбацким, охотницким воодушевлением, но Игорь будто не слышал его, а Люда норовила уйти из-за стола к плите.
– ...А я тот раз иду с Еремина Камня домой, – сыпал скорым своим говорком Феликс, – аккурат против Кундорожи гонка навстречу. Буксир к самому левому берегу прижался, а хвост по правому волочится. Мне куда податься? Я – шмыг в Кундорожь, еле успел...
На дворе надсадно, с хрипом стучал, задыхался движок. Лампочка над столом то разгоралась, то угасала.
– Пса-то зачем одного оставляешь на ночь на Еремином Камне? – Игорь в упор посмотрел на Феликса. Нижняя губа его задрожала. – Человека можно обидеть, а пса-то за что?
Феликс не знал, что сказать, жарко стало ему. Тут движок поперхнулся, лампочка потлела и погасла. Зарделись угли под плитой. Люда ушла с кухни...
– Почему одного? – пробормотал Феликс.
– При хозяине Пыж гавкать не станет, – сказал Игорь. – Даже в Пялье слышали, как он надрывался...
– В Пялье своих брехунов хватит, – сказал Феликс. – Рыбачить ночью идешь, ясно, что пса оставляешь. На Еремином Камне полно туристов шляется, вот он и лает...
Игорь встал и пошел на улицу. Феликс слышал, как он приказал своей Сайде:
– Сайда, поваляйся!
Потом Игорь запел песню про синий троллейбус: «Последний троллейбус по улицам мчит, вершит по бульварам круженье, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи крушенье...»
Феликс не знал, что делать теперь. То есть он знал, что делать ему, но что тогда станется с Людой? Люда затихла, исчезла, словно и нету ее...
Игорь прошел мимо, не поглядев, прикрыл за собой дверь в комнату и щелкнул задвижкой.
Феликс усмехнулся:
– Так. Заперлись. Хорошо. – В нем поднялась вдруг гордость, что ли, или же злость – освобождение от неволи. Из комнаты слышались голоса и вроде бы смех...
Феликс вышел на волю и плюнул. Сел в лодку, поплыл и думал, что с этим кончено навсегда. Плыть было кромешно темно, только чуть угадывались берега, кусты на берегах. Звезды высыпали на небо, были они по-ненастному тусклы, малы.
На выходе из канала в Вяльнигу под лодку попало бревно, погнулся винт. Феликс еле добрался до дому к утру. Он лег, но не заснул, а мучился, разбирал, как проигравший шахматист, ход за ходом вчерашний свой вечер, свидание с Игорем... Кто-то постучался чуть слышно в дверь. Мать открыла и позвала его:
– Феликс, к тебе!
Феликс натянул брюки, вышел в майке, босой. У порога стояла Люда, простоволосая, в ватнике, с большим багровеющим синяком под глазом. Следом за ней вошел Сашка Бугров, стал рядом с Людой, сказал:
– Доброе здоровье, хозяева! Своей у вас вяльнижской грязи мало, дак мы еще нашей пяльинской привезли. Наша гушше.
Мать Феликса прислонилась к печи, скрестила руки на груди, тревожно разглядывала незваных гостей.
Феликс заметался немножко:
– Проходите, садитесь... Да вы раздевайтесь...
– Рассиживать некогда, – сказал Сашка. – Дела серьезные, видишь сам.
– Ты, мама, поди к себе, – сказал Феликс.
Старушка, тяжко вздохнув, ушла.
– Ну, раздевайтесь, чего, – сказал Феликс. – Вы с пароходом или на лодке? – Он подошел к Люде, расстегнул ее ватник, снял, повесил. Люда взглянула на него, и главное, что прочел Феликс в ее глазах, – это покорность, Люда вверяла себя ему. Вдруг почувствовал Феликс, понял, что победил он, выиграл у Игоря-охотоведа...
– Нам зачем пароход? – говорил Сашка. – В своей лодке сам себе капитан...
Феликс не слушал его. Он смотрел на Люду, усаживал ее, прикасался к ней, уже чувствуя ответственность, право, счастье свое, победу...
– Вот доставил тебе невесту, – сказал Сашка, – почти что в полной сохранности. С самым маленьким уроном... Ну, это ничего, заживет до свадьбы...








