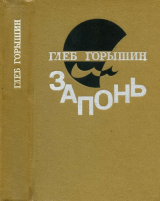
Текст книги "Запонь"
Автор книги: Глеб Горышин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 26 страниц)
Людвиг Брозовски
Посадив в мае огороды, Сарычев с Блынским пристрастились играть вечерами на летней кухне в шахматы. Когда Блынский выигрывал партию, егерь должен был ехать копать червей. Он рылся возле хлева, на правом берегу, там звено Голохвастова содержало лошадь. Выиграв банку червей, Блынский плыл на губу порыбачить с удочкой. Если выигрывал Сарычев, Людвиг накашивал корму для кроликов егеря. Кролики множились каждый месяц, колотили лапами в сетку загонки, жевали и требовали еды. И уже не оставалось времени для шахмат, хозяйство съедало дни, и рассветные зори, и вечера. Чем длиннее была работа, тем короче делались записи в дневнике егеря: «Ставил аншлаги в заказниках. Ездил в Пялье за хлебом. Откачивал воду из дебаркадера. Крысы таскают утят из выводка подсадной».
Егерь думал, что осенью надо справить новый костюм Витальке, жене нужна шуба, иначе совсем пропадет. И егерь махал косой по кустам. И кролики все жевали, жевали... Он ладил капканы, чтобы поставить их поздней осенью возле ондатровых хаток. Он возлагал большие надежды на зверовую лайку Шмеля и кормил его прежде, чем сам садился к столу...
Сарычев звал Блынского Леней, а Блынский звал егеря Женей. Кроликов у них было поровну, и поровну был поделен огород. Только Сарычев нарастил кроме луку, редиски, морковки и репы еще гороху и помидоров, а Блынский все засадил картошкой.
...Как соберется весь штат охотбазы, приедут Кононов с Птахиным, сядут к столу в летней кухне, выпьют под молодую картошку, под птахинского карася и малосольный кононовский огурчик, Сарычев принесет свой транзистор, кухня огласится разноязыкой речью... Сарычев говорил тогда Блынскому:
– Людвиг... Знатное имя. Чего ты его скрываешь? Лёнек у нас и без тебя навалом. А Людвиг – это уже Европа. Голубая кровь...
– Мать так назвала, – отмахивался Блынский. – Тогда модно было имена выдумывать покрасивше. Это сейчас опять всех стали Иванами называть, да Катьками, да Машками, а тогда все Генрихи были, Эдуарды, Ростиславы.
– У нас дак в Пялье и сроду кажный третий Иван, – скажет Ванюшка Птахин, выворачивая губы.
Кононов сладко-сладко сощуривал глаза и ждал только случая, чтобы вступить в беседу...
– ...В сорок восьмом году, – наконец-то дождался, – я аккурат был в Кыжне егерем, баба одна там жила. С Латвии, что ли, приехаччи. Элеонора. Лет сорока шести, интеллигентная женщина. Но одинокая, без мушшины... У Колошманова, соседа моего, плотником он на стройучастке работал, сын был вернувши из армии дак... Сахару брали шешнадцать килограммов. Брагу варили. Гуляли всей Кыжней. Вот как Евгений Васильевич-те сидит, начальник стройучастка Полозов был посажен, а так, ближе к краю, – Элеонора... Баба моя в клюкву была аккурат ущоццы, с ночевой. Клюквы в тот год она сдавала на триста рублей по теперешним деньгам, а по старым три тышши... Все как выпили по пять стаканов, я гляжу, Элеонора осоловевши сидит и блузка на ней расстегнувши... Тело такое, как груздь соленый, сочное, с хрустом...
– Знаем, знаем, – перебивает Филиппыча Сарычев, – баба твоя некстати вернулась из клюквы. Рассказывал ты уже... Ну что, Ванюшка, – обратится он к Птахину, – не послать ли нам гонца за бутылочкой винца?
– А у меня нету денег дак... – радостно отзовется Птахин. – Бензину-то хватит...
– Давай-ка, Людвиг Брозовски, сгоняйте с Ванюшкой. Ты помоложе.
– Почему это Людвиг Брозовски? – обижался старший охотовед. – Меня зовут Леонидом – и все! Мой дед был казак из станицы Блынской.
– Людвиг Брозовски... – непонятно зачем повторит Серычев. И на этом пирушка никнет. Блынского позовет теща. Птахин займется погрузкой дров в свою лодку. Кононов выпьет еще чайку...
Сарычев брался тогда за топор или косу. Отмахивал и твердил про себя: «Людвиг Брозовски, Людвиг Брозовски...»
Людвиг Брозовски был мальчик двенадцати лет, немецкий мальчик в мышиного цвета военном костюме с железными пуговицами; на пряжке ремня: «Gott mit uns!» – «Бог с нами». Женя Сарычев тоже был мальчик, он чистил свинарник, курятник, кроличьи клетки, полол морковку, копал траншеи под силос, пас телят, индюков, подметал мощенные битым кирпичом оранжевые дорожки – он был маленьким русским рабом на усадьбе Брозозски. Его отца расстреляли в деревне Залучье, над светлой плескучей рекой Ловатью. Отец его был партизан. Деревню сожгли, ребятишек и баб погрузили в закрытые пульманы. Долго, долго длилась дорога – тряска, потемки и голодуха. Потом – черепичные крыши и толстокаменные хлевы, чистые, без соринки поля ячменя, гороху и сахарной свеклы; летом солнце в затылок, зимой – жидкий снег, деревянные боты, гороховая похлебка, каморка в хлеву в боковушке. И будто сам – кролик, скотинка с опущенными ушами, только ночью – прижаться в матери, плакать с ней и шептаться.
Людвиг Брозовски, ровесник, такой же белоголовый, такого же роста, как Женя, немецкий мальчик, разглядывал Женю насмешливо, неотступно. Женя смотрел всегда в землю и не встречался с глазами хозяйского сына. Жене хотелось исчезнуть, не быть, не присутствовать в этой жизни, в этой стране. Он слышал немецкую речь, но звук ее был для него все равно как ворчанье хозяйской овчарки. Он не хотел и не мог понимать эту речь, признавать за ней человеческий смысл. Он только работал и заскоруз, как стручок гороха. Он выполнял хозяйские «хальт, шнель, комм, цурюк», как выполняет эти команды лошадь...
Но было одно такое местечко, где Женя смеялся, где становился на коротенький миг двенадцатилетним мальчишкой. В густом орешнике на дне оврага он отыскал себе малую заводь: ручей запрудило камнем. И не видать. Женя купался в студеной воде и после прыгал, как в детстве в Залучье, на теплом песочке, на ласковом бережку, и тихо-тихо смеялся.
Однажды он вынырнул, вылез из своего потайного омута и не смог отыскать одежонку. Зато он услышал немецкую речь и немецкое гоготанье. Людвиг Брозовски глядел на него сквозь орешник, и Женя встретил его глаза. Людвиг показывал пальцем на Женю, смеялся и кинул в Женю орешком. Приятели Людвига, мальчики, немцы, тоже смеялись и прыгали около Жени. Они повалили его и мучили, мазали глиной. Они завязали его одежку и намочили узлы в ручье. Женя тоже когда-то вязал и мочил рубашонки своих однолеток в Ловати. И ему тоже вязали. Но это была игра. Можно было подраться, и посмеяться, и зареветь, и потом позабыть, прыгнуть в речку. В конце концов все узлы распутывались.
Но с немцами Женя не мог подраться. Он не заплакал, только сжимался и втягивал голову, прикрывал руками глаза. Узлов он не смог развязать: одежда его была порвана на жгуты, а после завязана. Он остался лежать на земле, дожидался ночи. Божья коровка ползла у него по ноге, и он загадал, что если она доползет до сердца, то нынче Гитлеру будет конец и он возвратится в Залучье. Божьей коровке было еще далеко ползти, и Женя зажмурился, замер, чтобы не помешать ей. Он задремал и проснулся от дальнего голоса матери. Темнело уже, мать искала его по полям, звала. Он откликнулся тихо, потом погромче. Мать пришла, обняла его и закутала в кофту.
Три года Женя Сарычев пробыл в рабстве в Восточной Пруссии. Он разговаривал там с лошадьми и кроликами, с овчаркой Рениксой – они понимали его. Но с людьми, даже с детьми, он не молвил ни слова. Он долго, долго был в дальней чужой стране, научился немецкой работе на ферме и в поле, но оставался русским, залуцким мальцом. Немцы считали его дикарем, и это было понятно немцам. Ему надлежало быть дикарем. Он не подымал глаза от земли и не улыбался, когда они одаряли его соевой шоколадкой.
...В сорок четвертом году семейство Брозовски надело траур. Погиб на Восточном фронте их старший сын, наследник, надежда, отец Людвига Рихард. Дело было под осень, и Женя работал в саду на уборке плодов. Он забрался в глухой уголок, чтобы схрупать сладкое яблоко. И вдруг увидел там Людвига. Немец его не видал, он тихо шел в своих гольфах и френче, в подкованных толстокожих ботинках и плакал. Женя глядел, глядел из заросли на лютого своего врага. Он покрался за ним и чувствовал в сердце радость, жестокость, великое торжество. Людвиг остановился под яблоней. Женя приблизился к нему и стоял у него за спиной. Людвиг всхлипывал. Женя притопнул ногой. Немец обернулся к нему. Женя смотрел на врага прямо, близко, дерзостно – и смеялся. Немец прыгнул, вцепился... Они повалились, рычали, кусали, душили друг друга. Каждый готов был убить другого, хотел убить. Но оба были мальчишки, ни одному не хватало силы убить. Их разнимали, но даже у взрослых не сразу хватило силы разнять. После Женя лежал на земле, и Людвиг бил его коваными башмаками, железной пряжкой: «Gott mit uns!» – «Бог с нами». Женя мог помереть, но выжил, потому что все громче жужжали на небе русские самолеты и Гитлеру наступал конец. Женя думал, что божья коровка тогда доползла до сердца, как он загадал у ручья, и потом улетела, а он проспал.
Пахать и косить
Домой они пробирались с матерью дальним путем – Германия, Польша. Им надо было добраться в Залучье – куда же еще? Их ждали в Залучье головешки, но все равно вспоминался дом. Казалось, родная деревня встретит и примет. Родная ведь...
– Язей буду удить в Ловати, – говорил матери Женя. – Их никто же в войну не ловил. Они жирные. И на зайцев буду петли ставить. Зайцы, наверное, расплодились. Полно́! Ружье купим, на косачей буду охотиться. Проживем.
...Но в Залучье после пожара остались только два дома. В них бедовали два старика и старуха Анисья да ползал по улице в ящике на деревянных колесах обезножевший на войне Тимофей Корабельников, печальный мужик, погодок Василия Сарычева, Жениного отца.
Жить оказалось негде в Залучье и не с чего, некому строиться вновь. Деревня стала погостом, негодным для жизни местом. И Женя с матерью снова наладились осенью в путь: земля-то ведь не чужая, Россия.
Они отыскали Женину тетку Шуру в предместье большого города. Шура жила в деревянном бараке, без мужа, с тремя детьми, работала в подсобном хозяйстве завода, на скотном дворе. Муж ее не вернулся с войны. Женя с матерью тоже стали работать в подсобном хозяйстве. Все жили в комнате тетушки Шуры. Она заболела, слегла, – блокада ей подорвала здоровье. И Женина мать заболела. Женя работал, кормил трех ребятишек и двух занемогших женщин.
На землях подсобного хозяйства образовался пригородный совхоз. Женя работал на парниках, и на скотном дворе, и в кузнице, и в мастерских. Хотя близко дымил, и пыхтел, и светил по ночам во все небо огромный город, по овражкам и перелескам водились зайцы и лисы. Женя их приносил домой, выделывал шкуры и продавал. Он завел возле дома крольчатник, построил будку для дойной козы. В совхозе Женя стал трактористом-механиком широкого профиля, закончил вечернюю школу. Жить было голодно, да и времени не хватало рассиживать за столом. Женя работал, учился. Все давалось великим трудом. Так положено каждому в жизни. Все шло как должно, и все удавалось; не сразу, не скоро, но удавалось. Совхоз построил три каменных дома с газом и ваннами в каждой квартире. Женя Сарычев получил комнату на втором этаже. Помаленьку оправилась мать и стала работать в совхозе дояркой.
Бараки снесли, тете Шуре дали двухкомнатную квартиру в городе. Город надвинулся на совхоз. За зайцами Женя теперь уезжал в субботу на электричке.
Он поступил в юридический институт на вечернее отделение. Попасть было трудно ему, как бывшему в оккупации. Помогла положительная характеристика, выданная совхозом. Женя выбрал юридический: ему казалось, что время больших судилищ не миновало, не кончилось вместе с Нюрнбергским процессом. Ему предстоял еще свой, личный суд над семейством Брозовски. Надо было себя подготовить к суду, юридически подковаться.
На втором курсе Сарычев женился и переехал в город к жене. Она была тоже студентка его потока. Жила в неухоженной старой квартире с высокими потолками. Когда-то квартира принадлежала ее отцу. Отец был профессор-историк. Его убило осколком снаряда на набережной Невы. Мать умерла от голода и от горя. Прежде книгами полнилась вся профессорская квартира. После войны они поместились в одной комнате. Дочь профессора здесь жила и читала, сидя с ногами на оттоманке, Плутарха, Бунина, Голсуорси; Достоевский казался ей мрачен – зачем же так? Из современных – Панову и Паустовского. Раз в месяц она проводила ревизию книгам, увязывала десяток профессорских фолиантов бечевкой и относила в букинистический магазин. В комнате возвышалась до потолка печь зеленого глазурного изразца. Молодая хозяйка любила глядеть на огонь и протягивать к нему ноги. Днями она работала сметчицей на заводе. Вечерами ходила учиться в юридический институт.
Через год у Сарычевых родился сын Виталий. Жене хотелось, конечно, чтобы муж подольше был дома. Она говорила, что можно в конце концов совсем расстаться с отцовской библиотекой, что можно прожить без тридцати четырех томов энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Сарычев соглашался, что можно прожить. Но совхоз он не бросил. Он приходил домой в сапогах, измазанных глиной, от него пахло соляркой, землей и навозом. Его лицо и шею уже в марте напекало солнцем до медной багровости. По улицам города он проходил как заезжий колхозник, чужак.
Сроки весенних работ в совхозе совпадали с экзаменационными сессиями: теория права и государства, гражданский и уголовный кодексы, толкование законов, история философии, речи Плевако – все шло вперемежку с севом, обработкой междурядий.
Защитив диплом, Сарычев уволился из совхоза. Он получил назначение юрисконсультом на завод и работал пять лет, справлялся. В летний отпуск они уезжали с женой и Виталькой на Ловать, грузили имущество в два рюкзака. Бабка Анисья жила по-над берегом в ветхой избе на залуцком пепелище. Она кормилась коровой и жалилась Сарычеву, что лучший покос отдается безногому Тимофею, он объезжает в тележке угодья с серпом, снимает вершки, а ей остается косить на согре. Сарычев отбивал бабкину косу, размахивал ею всласть и сметывал сено в стога для бабки Анисьи. В Ловати под увалом били хвостами язи. Река была светлой, веселой, плескучей, как в детстве. Жена с Виталькой собирали по берегам землянику, варили варенье. Сарычев говорил, что лучшего он не желает в жизни: вот так бы поставить избу над рекой, и чтобы пели дрозды в рябиннике, и работать, пахать и косить. И сад посадить. Земля отплатит, только надо ее понимать и любить.
Жена здоровела на молоке, а в зиму прихварывала. Виталька рос. Не хватало зарплаты. Сарычеву предложили пойти начальником ЖКО на заводе, и он пошел. На новой должности проявилась в его характере докучная черта. Сарычев оказался упрямым и непокладистым начальником ЖКО. Заводом был выстроен дом, и список распределения квартир, после длинных дебатов и слез, утверди. Но Сарычев выступил против уже утвержденного списка. Он требовал в первую очередь дать квартиру формовщице Корыхаловой, многодетной вдове, а председателю местного комитета пока подождать выдавать. Он говорил где надо и где не надо, что в первую очередь надлежит обеспечить жильем рабочих горячего цеха, а после администранию и ИТР.
...Формовщице Корыхаловой дали ключ от новой квартиры. И предзавкома тоже дали. Но тут заметной стала еще одна черточка личности начальника ЖКО – нервность. Нервочки в нем дребезжали, слишком часто вспыхивал парень и очень уж был речист. Начитался речей Плевако.
Может быть, Сарычев и остался бы на заводе, притерся. Никто его не снимал. Но тут пришло письмо от старого знакомца – его назначили директором совхоза в дальний район, и нужен ему позарез управляющий отделением. Сарычев согласился с легкой душой, прибыл на место, приглядываться не стал, а сразу же впрягся. Земля досталась ему – нерожалый подзол, скот – непородный, ледащий, покосы – болотина да ольшаник, машины стоят, мужики норовят на рыбалку, а бабы в клюкву.
Иного Сарычев и не ждал. Свинтил наново развалившийся трактор, достал канавокопатель, осушил для начала лужок. Разжился лесом в сплавной конторе, приплавил лес по Вяльниге, начал строительство нового хлева. Но что удивило деревню – начав, управляющий дело закончил. Начинали-то многие до него. А этот сам починил трактор и ездил на нем, и косил, и бревна тесал, да еще улыбался, лицом не смурнел. Его на кидало в запой. Молодой управляющий поглянулся бабам в деревне Озерной, а это не могло не сказаться на отношении к нему мужиков. Земля, конечно, не разродилась на диво, коровы не дали рекордных надоев, зарплата на полеводстве не слишком приросла. Но все-таки приросла. Новый управляющий не обманул никого посулом, он старался для общей пользы, не матерился, был мягок, охоч до шутки.
Поселился Сарычев на квартире у старой бобылки Прасковьи. Завел себе борова, сам его выкормил к Новому году. Это тоже был факт в его пользу. Значит, приехал не на день, значит – хозяин. В дереве нельзя без скотины. Но жил он один, без хозяйки – здоровый, не старый мужик, и девки поздними вечерами ходили мимо его окошка и прыскали без нужды. Бабы судили, рядили, хвалили Евгения Васильевича за глаза, но и пророчили: раз без хозяйки приехал, значит, не приживется, вспорхнет.
Сарычев отработал сезон и остался в зиму. Он застрелил своего борова из ружья, свез домой сала и мяса и возвратился в Озерную. К нему приезжала жена, деревенским она показалась худой и бледной, болящей – кожа да кости. Бабы пожалели Евгения Васильевича: к такой и притронуться-то страшно. «Молоко парное пить брезгат, – сообщила бабам Прасковья, – только кипяченое хлебат».
...Зимой бывало Сарычеву тоскливо в Озерной. Но за околицей начинался лес – куничьи следы, косачиные лунки, лосиные лежки, у зайцев набеганы тропы. Все чисто, вольготно, жизнь кажется бесконечной, и старость не в старость, и горе не в горе. Лесу тысяча лет и больше, но он нимало не постарел, не обижен, пригож. Сарычев возвращался из лесу веселым и думал, что долго, долго еще будет жить в Озерной, сведет ольшаник, распашет, засеет целину, осушит пойму, нарастит стадо, настроит домов.
...Весной на лучших клиньях земли ему наказано было сеять кукурузу, а пойму – бесценные клеверища – всю распахать под горох. Сарычев отказался исполнить. Директор шумел на него, наезжали районные власти. И кукурузу посеяли, с поймы содрали извечный ее животворящий травяной убор. Сарычев крепко тогда напился, а пьяный он был нехороший, недобрый и гомонливый. И лишнее говорил. «Над землею нельзя издеваться, – гомонил он на всю деревню. – Земля не простит. Можно мучить людей. Люди вытерпят. А земля отплатит». Озерная слушала и молчала: «Пусть перебесится. Ишь, нализался. Молодой еще, жизни не знает».
Кукуруза проклюнулась, в рост не пошла, ее утопило дождями и уморило июньской ночной студеностью. Приказано было все перепахать, пересеять. А озимую рожь, которая начинала уже колоситься, скосить на зеленку...
Сарычев снова напился и гомонил. Нервы его оказались хлипки для работы в сельском хозяйстве. Он уехал в город в разгар полевых работ, две недели не возвращался – и был уволен.
Может быть, он бы притерпелся, привык, но именно в это время пришло письмо от сына Витальки. «У мамы нашли чахотку, – писал ему сын, – взяли в больницу. Папа, ты приезжай, нам очень, очень плохо одним без тебя...»
О молодом и нервном управляющем скоро забыли в Озерной. Управляющие тут менялись чуть ли не каждый год. Деревня жила, как жила. Мужчины ловили рыбу, а бабы носили клюкву с болота, благо хороша приемочная цена.
Летом на озере
Деревни над озером стоят поодаль одна от другой, непохожи. Пока осилишь путь из Озерной в Пялье или из Палья в Бережно, комары тебя заедят, устанешь и ноги намочишь, и отдохнешь в бору на скамейке-курилке, найдешь подосиновый гриб, сощипнешь земляничину на канаве, наждешься попутной машины, спугнешь тетерку, сваришь чайку на костре, коли есть котелок. Деревни все вышли из одного лесу, а разнятся, у каждой свой производственный профиль, свой нрав, обычай, корень, секрет.
В Пялье сто шестьдесят дворов, а в Бережно – сорок. Но бережновские рыбаки сдают рыбы втрое против пяльинских. Бережновские деды помнят, какая рыба, когда и как ее взять, а в Пялье и дедов-то нет. Бережновские добывают сига в открытом озере на глубинах. А пяльинским сиг не дается. Сиг не заходит в ставные невода. В бережновской боигаде есть сейнера, а в пяльинских – мотоёлы.
В Бережно держат на каждой усадьбе не менее трех котов. Коты презрительно важны, сидят на крылечках, натопорщив усы, и щурятся от сытости.
В Пялье есть лесоучасток, гараж, мастерские, два магазина, лесничество, сельсовет, два канала – старый и новый. Через каналы – мосты на плаву. Когда проходят каналами гонки леса, буксиры и лихтера, надо мосты зачалить к берегу. Значит, есть и такая должность – чалить мосты. Поставлена будка в межканалье. Около будки хорошее место для сходки пяльинских мужиков – посидеть, подымить. Работы в Пялье хватает всякой. Зимой здешние рыбаки становятся лесорубами, тогда как бережновские снаряжают обозы, торят на озере санный путь, спускают под лед мережи.
Чистой, извечной рыбацкой породы в Пялье не отстоялось. Здесь не сеют, не пашут. От деревни до озера нет земли, чтобы ступить и не чвякнуло. Вдоль каналов стоят неширокой кулисой боры. Орлан белохвостый построит гнездо на дебелой сосне, заклохчет, зальется... Летом в Пялье съезжаются дачники: дети, пенсионеры, родня. После армии пяльинская молодежь норовит зацепиться за город. Работают на заводах, но корень не рубят, детишки и тещи у городских здоровеют на пяльинской рыбе. Летом рыба в цене.
Бережновские не уходят в город, рыбачат деды и внуки. Дачники в Бережно не живут. Вся деревня построена кучно, фасадами к бухте, за огородами – лес. Он мелкий и волглый, не годный для заготовки. Над лесом и озером – краснокирпичная башня, бережновский маяк. Он сложен еще в прошлом веке. Смотрителю маяка предназначен каменный дом, и каменный хлев, и погреб. Стены строений толсты, не поддаются времени, сырости и ветрам.
Бережновцы коптят сига в русских печках, на ольховом, пахучем, нещипком дыму. Белая, сдобная рыба томится в своем соку, чуть розовеет. Вкуснее сига, закопченного на ольховом жару, я не пробовал яства.
...Из пяльинских только Володя Ладьин промышляет сига. Ему выделяется мотоёла с компасом. В седьмом часу утра он швартуется к бону охотничьей базы и кличет меня:
– Хотите, пойдемте в озеро сети похожать.
Идем. В губе наросло тростников. Их стебли сочны, метелки не выкинулись еще. Бабы жнут тростники серпами, мужики их валят косой. Повсюду ползают, крутятся лодки. В губе работают Пялье и Бережно, Озерная и Гумборица, и Сонгострой.
Минуем устье губы, выходим на озерный фарватер. Бежит, блестит, рябит на солнце вода. Чем дальше от берега, тем вода темнее, чуешь ее студеность и глубину. Горизонт задернут над озером сине-лиловой дымкой. Безветренно, славно. Рулевое колесико вертит Володин товарищ, балтийский рыбак. Он приехал к Володе на отпуск. Разделся до пояса, загорает. На плече рыбака нарисован синий штурвал, почти такой же величины, как и штурвал мотоёлы. Спина просторна, к талии сходит на конус. Ягодицы обтянуты брюками, полнятся икрами голенища кирзовых сапог. Моряк широко расставил и припечатал к палубе ноги. Нет изъяна в моряцком теле, оно монолитно, затылок прочен, округл. Мне вспоминается Уолт Уитмен: «Я влюблен в растущих на вольном ветру, в людей, что живут среди скота, дышат океаном или лесом, в судостроителей, в кормчих, в тех, что владеют топорами и лопатами и умеют управлять лошадьми. Я мог бы есть и пить с ними из недели в неделю всею жизнь».
Прикорнул в уголку молчаливый моторист Кеша.
Мы сидим с Володей в корме.
Протянув к нам голые пятки, лежит на носовом фальшборте рыбак голохвастовского звена Геннадий. Он читает толстый роман «Год жизни». Он потягивается, пятки его приближаются к нам.
– Тоска-а! – произносит Геннадий, зевает, ложится щекой на роман «Год жизни».
Весною, отбыв военную службу в городе Львове, он возвратился в Пялье, в родительский дом, со значком радиста третьего класса. Во Львове жизнь была бело-розово-синего цвета, там были вишни-черешни, на каждом углу продавалось сухое вино по дешевке, и бело-розовых вишенных девушек было навалом во Львове. В Пялье серые избы, и серые дни, и ржавая зелень болота.
Геннадий перевертывается на спину, раскидывает руки и жалуется небу:
– Тоска-а-а...
Мы уходим все дальше в озеро, берега исчезают из глаз, остается лишь бережновский маяк, он все ниже, ниже. Будто озеро – купол, вершина земного шара, и мы карабкаемся по нему вверх на своей мотоёле. Являются белые пароходы и пропадают в сине-лиловом тумане. Откуда туман? Нет туч, облаков, пароходы совсем не чадят. Туман подымается, высится, будто горные берега. Доносится с озера гул, как будто завод под водой. Там что-то урчит и лязгает, движутся механизмы.
Володя Ладьин глядит на компас и говорит моряку, что надо держать на северо-запад.
– ...Все же выдержка большая у Евгения Васильевича, – говорит мне Володя. – Когда такое дело, собаку убили, тут можно сорваться. Ленька-то Блынский вроде парень был ничего... Я бы не знаю, что сделал, если бы у меня собаку убил... Без собаки в лесу ты идешь, ничего не видишь, не чухаешь... Да. Что значит выдержка. А если сорвался бы, и собаку теперь все равно не вернешь, и сам бы не расквитался... Для многих ведь это вообще непонятно: собака – собака и есть. Ну, убил и убил. Я тоже был одно время егерем на Кундорожи. Радикулит у меня – думал, на берегу полегчает... И базу я строил. Начальником охотинспекции тогда был Рогаль, полковник в отставке. Да он и сейчас... Вот, бывало, под осень приедет, всех охотников соберет на Кундорожи, и начинаем делить ондатровые угодья. Для ондатры нет лучше места, как Ляга. Хаток настроит – деревня целая там у нее... Да вот весной-то мы с вами сети похожали, вы видели, сколь там хаток торчало, в Ляге. И подойти там удобно, и от базы недалеко. Лучшее место. Капканы поставил – и каждый день обежать их можно. Зарплата у егеря никакая, пустяк... А на ондатровых шкурках все-таки можно бы приработать... Соберемся мы это на базе, распределяем: кому на Малинское болото, кому в Чаичьи озерки, кому на Рачиху, а об Ляге речь не идет. Мне кундорожское устье отведено было... Незавидное место, но я молчу. Начальству видней. За собой Рогаль Лягу оставил. Я хотел у него спросить, какую он пенсию получает как полковник в отставке. Неужто мало ему, чтобы и на ондатре еще лучший кусок оторвать? Но промолчал. Ладно, думаю, поживем, посмотрим... Зима уже началась, а Рогаля нет и нет. Я в кундорожском устье отловил отлоу. Куничек парочку взял... Больше-то некогда было, на базе всегда народ, на подледлный лов приезжают. Лосей, правда, шесть штук отстреляли, лицензии были у нас. Мясо сдали. Вечером сбегаю за губу, тетеревиную стаю выпугну из снега, сшибу косача... А в Ляге ондатровые хатки неотловленные стоят. Я никого к ним не подпускаю. Сторожу. И обидно мне: вроде бы я хозяин в лесу, егерь, и как бы сторож при господской усадьбе. И добро пропадает. Я взял и поставил капканы в Лягу, по два на каждую хатку. Попалось хорошо, я шкурки ободрал, выделал... А Рогаль и приезжает. Да... Шуметь он не стал, ничего такого. Сходил, посмотрел. Распили мы с ним еще бутылку на базе... Я ему говорю откровенно: «Вы, – говорю, – человек городской, вам это забава. А для меня – хлеб насущный. У вас пенсия военная плюс зарплата, а волка, как говорится, ноги кормят. Еще немного, – говорю, – и мех бы пропал, а я не мог допустить». Он говорит: «Ладно, я доложу областному совету общества, пусть решают...» Да. Через две недели мне присылают выписку из решения: лишить меня права охоты сроком на три года. Я хотел написать куда-нибудь, добиться правды, а потом – против начальства идти, как против ветру мочиться. Все на тебя же и отнесет. Рассчитался да подался обратно в рыбаки. Рыбаку свободнее, лучше. Егерь, что там ни говорите, все же холопская должность: постель приготовить, плиту стопить, на охоту проводить. После тебе за это стопочку поднесут, ты должен быть благодарен... Не всякий может. Я решил, что лучше радикулит, чем это дело. Да там еще и хуже для радикулита: на болоте ночуешь, спишь на земле...
– Скоро День рыбака, – произносит Геннадий. – Напьемся-а!
Володя берет в свои руки штурвал, совершает маневр, ведет мотоёлу галсами, ищет. Возле борта вдруг возникает буёк, плавучая вешка с привязанным к ней лоскутом. Уже не видать бережновского маяка. Ничего не видать. Только вешка в огромном озере – иголка в стогу. Отыскалась. Кеша глушит мотор. Мотоёла дрейфует. Балтийский моряк хватается за веревку, идущую вглубь от вешки к якорю. Мы тоже хватаем и тянем. Но если бы нам четверым потягаться за эту веревку с балтийцем, то он бы, наверное, всех нас перетянул. Он работает, как лебедка. Зыбается мотоёла. Глубина сорок метров...
– Давай, давай, орлы-куроеды! – покрикивает Геннадий.
Балтийский моряк молчит.
Володя укладывает сеть, камни-грузила, пенопластовые поплавки, кухтыли. Он что-то рассказывает из своей многоопытной жизни, но я не слышу, заданный темп работы не позволяет отвлечься. Сеть движется, как лента конвейера. Сиги попадают редко, у них маленькие обиженные рты, тела их – серебряные веретена.
– Эх! – восклицает Геннадий. – Труд сделал из обезьяны человека. А что он делает из человека? Из человека он делает крокодила. А что крокодилу надо, чтобы стать обратно человеком? Ему надо выпить. Давай-давай, орлы-куроеды! Потянем-потянем да бросим.
Балтийский моряк неулыбчив. Его тело слегка оросилось потом. Оно засветилось, как обкатанный морем камушек-халцедон.
Возникает из дымки сейнер, наплывает на нас. Бережновские рыбаки нас будто бы и не видят. У них борта выше, капитан в своей рубке совсем высоко. Капитан не увенчан фуражкой с золотыми колосьями, он без галстука, без нейлона и без шеврона, в ватной куртке и в кепке с пуговицей на макушке. Он небрит, краснолиц, светлоглаз. Сейнер проходит без звука, без слова, без взгляда, как летучий голландец...
Балтийский моряк глядит ему вслед и молчит. Мне опять вспоминается Уолт Уитмен: «Я сказал, что душа не больше, чем тело, и я сказал, что тело не больше, чем душа, и никто, даже бог, не выше, чем каждый из нас для себя...»
Где кончается тело и начинается жизнь души? Где душа поглощается телом?.. Прекрасное, зрелое тело мужчины купается в солнечном свете. Оно исполняет свою изначальную функцию в мире – работу. Работают руки, плечи, лопатки, торс. Человек выбирает из озера сеть. Его тело живет. На нем выражение счастья...








