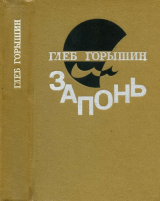
Текст книги "Запонь"
Автор книги: Глеб Горышин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц)
Глава восьмая
1
Подпирала весна, подмывала, облизывала берега. И хотелось бы Степе Даргиничеву остудить ее, удержать. Пускай бы сочились снега шепотливыми ручьями под вяльнижский лед, только лед бы стоял. Только дождь бы не хлынул и солнце не торопилось бы печь. Пускай бы весна припоздала...
Но весна разгорелась, как пал на бору, подступила неурочной грозной напастью. Степа бегал по берегу Вяльниги, времени не осталось у него шагом ходить. По четыре лежня намотано было на каждый мертвяк, в мертвяке четыре ствола сосновых. Каждый мертвяк в траншею опущен, по три траншеи на берегу. Степа еще по два лежня добавил. Засорами лес закрепили, перетяги продели сквозь пыж. Троса вволю прислал Астахов, фабричного, целого троса.
Сам Степа таскал на плече стальные концы, наматывал петли. Секретарь обкома Коноплев ему помогал, предрика Гатов, секретарь райкома Журавлев, Петр Иванович Устриков, заместитель. У всех были руки в крови.
Девчата к полудню скидывали ватники, подставляли солнцу бумажную, бледную свою кожу. Девчата и есть девчата. Их радовала весна, немного они очумели. Солнце высушило беломошные вяльнижские леса. Брусника ушла необобранной в зиму, теперь девчата щипали ее но кочкам, причмокивали от немыслимой сладости, позабывали про запонь и про директорский гнев.
Весна подпирала, Даргиничев слушал ее, как близящееся вражье войско. Ночами он выходил на берег, ждал первого выстрела, залпа. Река держалась, исток ее – озеро Вяльниго – был нерушимо укутан сугробами; так и останется он, как ящерицын хвост; река оторвется, уйдет. Лед весь подернуло волглой недужной сизостью, синевой. Ночами в береговых проталинах струились лунные тропы.
Только в Степином детстве так пели тетерева, как этой весной – на клюквенных болотах под деревней Юрзовкой. В апреле сорок второго года чуть свет строчили над Вяльнигой косачи, чуфыкали и шипели. С косачами возвращались в бараки девчата. Им не подняться было к шести на работу. А то и вовсе не возвращались. Что будешь делать? Спешили они пожить после смертной зимы. Солдаты гуртилиеь вокруг поселка. Никогда после этой весны не слыхивал Степа Даргиничев такого гулкого тетеревиного токовища. Только в детстве, в деревне Юрзовке.
Однажды Нина Нечаева сказала эму:
– Ничего не поделать, Степан Гаврилович, – любовь... Любовь сильнее смерти...
– Что, и ты туда же? – ревниво беспокоился Даргиничев.
– Нет, я не туда, я в другую сторону...
Река стояла, но покряхтывали в траншеях мертвяки, тросы рвали сосновое тело. Лед заерзал уже, шевельнулся. Степа не уходил теперь с берега, лицо ему обожгло, как кирпич, спалило солнышком брови, голос осип, задохнулся.
Иные девчата прогуливали. Директор стыдил их, лишал положенной водки. Они глядели ему в лицо затуманенно и бесстрашно.
Как-то утром к началу работы вовсе мало явилось на берег девчат. Даргиничев кликнул Петра Иваныча:
– Ну-ка, пойдем по баракам, подымем эту капеллу.
Он широко пошел, не глядя под ноги, в высоких кожаных сапогах, в распахнутом ватнике. Посеменил за ним его заместитель.
Тихо, сонно было в поселке, над трубами ни дымка. Даргиничев взбежал на крылечко первого в ряду барака. Дохнуло на него последками вчерашнего тепла, еды, устюженской водкой, хромовыми, с ваксой чищенными сапогами пахло в женской этой комнате. Тут было четыре койки и стол посередине. Восемь голов поднялось к вошедшему, по паре над каждой подушкой. Портупеи брошены были куда попало и пистолеты ТТ...
– Ну, молодцы в постелях-то воевать, – сказал Даргиничев, – дай боже орлы... – Он быстро вдвинулся в глубь комнаты, огреб вокруг себя руками, обобрал портупеи с пистолетами. Четверо лейтенантов стукнули об пол босыми пятками, но не годились они для боя, для обороны. Совсем никуда они были без гимнастерок и галифе, Неодетые люди беспомощны против одетых.
Даргиничев отдал трофеи Петру Иванычу:
– В контору снеси. Пущай придут боевые командиры. Там разбираться будем, как они заслужили оружие носить.
Петр Иванович скоком помчался подале от греха. Лейтенанты спешили надеть сапоги, кое-как намотали портянки. Даргиничев дожидался в дверях, без улыбки стоял, серьезный.
– И не совестно вам форму порочить советского командира?
Тесным строем пошли на директора лейтенанты боевым кулаком.
– Ты кто такой здесь нашелся? Барсук тыловой... Отойди...
Даргиничев топнул ногой. Губы его выворотились, лиловые стали.
– Я представитель Военного совета фронта, выполняю особое задание. А вы срываете... Все пойдете под трибунал, как разлагающие дисциплину.
– Дире-е-ектор, а дире-ектор! – Из угла с крайней койки донесся заржавленный тоненький голосок. – Ты ребятам пу-ушки отдай. Их без пушек посо-одют. Ты лучше нас посади-и... Это мы виноваты. Мы ба-абы…
– Бардак заведете в прифронтовой полосе, – сказал Даргиничев, – найдем и на вас управу. Не будем чикаться. За милую душу отправим, где похолоднее. Чтоб поостыли... По законам военного времени. Ну-ка марш на работу!
Он хлопнул дверью. Лейтенанты вышли за ним. Робки, грустны были они в неподпоясанных гимнастерках.
– В контору, в контору, – сказал Даргиничев. – Там разберемся. В постели-то с бабой вы все генералы. А как до дела дойдет – и в кусты. И в кусты... – Будто что прояснело в директорском лице, надежда какая-то проблеснула.
Лейтенанты мучились, маялись...
– Мы понимаем, товарищ представитель Военного совета... Ну, черт попутал... Сами знаете, выпили... не губите нам жизнь.
– Посмотрим, посмотрим, – сказал Даргиничев. – Вот побудку произведу своему войску, в конторе разберемся, какая-такая ваша жизнь.
Он отворял уже двери другого барака. Лейтенанты долго еще стояли, пока нашли в себе силу взойти на крылечко в барак – к своим кралям, зазнобам.
2
Виктор Александрович Коноплев ростом был невелик, спрятанное под синим френчем тело его ничем не заявляло о себе, вся суть выражалась в лице. Суть состояла в непрестанном усилии, в твердости взгляда и скул. Под усталой обтянувшейся кожей, подобно шатунному механизму, двигались мускулы, желваки. Знаки возраста, слабостей и увлечений не обозначились на лице Коноплева. Он был дальнозорок, за бумагами в кабинете вооружался очками. Носил короткую щетку усов. Держался Виктор Александрович по-военному прямо, хотя военным так и не стал. Военной жилки не обнаружилось в нем, не только таланта, совсем ничего. В июле сорок первого года его назначили членом Военного совета. Но Коноплев стушевался на генеральской должности, не проявил себя. Солдат бы вышел из него несгибаемый, стойкий, работу войны он исполнял бы в окопе, как истый мастеровой. Но генерал из Коноплева не получился.
В двадцатые годы Коноплев прибыл с артелью плотников из Ярославской губернии строить на Волхове ГЭС. Образование его было два класса. Ударником стройки пошел Коноплев на рабфак подучиться. Потом в институт. Познанья он прочно складывал в голове, навсегда, как бревна в срубе. Крестьянская основательность соединилась в нем с рабочим сознанием, с пролетарской готовностью идти до конца. В институте он был комсоргом, парторгом, но речистым так и не стал, ковырял по-мужицки, по-ярославски.
В обкоме Коноплев ведал лесной промышленностью, торфом и транспортом. Строили в области мало, перед войной транспорт нуждался не только в угле, бензине, но также в сене, в овсе. Торфу хватало в болотах, его отправляли в топки электростанций. И леса хватало. Жизнь Коноплева делилась на лес и на торф.
Торфоразработки порушила война. Фронт зарылся в торфяные болота. Коноплев отвечал теперь за лесные дела. Главной его заботой стала запонь на Вяльниге – триста тысяч кубометров срубленного, стрелеванного, сплавленного довоенного леса.
Ему оборудовали кабинет в конторе Сигоженского сплавучастка, поставили аппарат ВЧ и койку. Даже Гошка, директорский сын, живший в конторе, как в отчем доме, не решался заглядывать в кабинет Коноплева. Секретарь обкома ходил в столовую вместе с девчатами, вечерами пил чай. Садились к его столу районные власти, Даргиничев, Петр Иваныч. Вдруг трещал аппарат. Коноплев докладывал Военному совету обстановку, и все глядели ему в лицо, как вызванные к командующему офицеры, когда командующий разговаривает по прямому проводу со Ставкой. В назначенное время звонил Астахов, докладывал Коноплеву обстановку в масштабе треста, Даргиничев улыбался:
– Ну, им-то дивья. Им бы ваши заботы.
– Да уж конечно, – поддакивал Гатов, – кисанькина у них жизнь.
Петр Иванович посасывал осколочек сахару, его хватало ему на все чаепитие. Не думал он, не гадал, что доведется ему посидеть так близко к такому большому начальству... Начальство чаёк любило, а водки ни-ни. Все прониклось на Вяльниге строгостью, дисциплиной. Никакой личной жизни будто и не бывало ни у кого. Апрельское солнце напекло всем лица, но лицо Коноплева загару не поддавалось. Даргиничев не заговаривал с Коноплевым о своем, о семейном. Да и времени не осталось поговорить, где-то в устье взломало, подвинуло лед, загрохотало вверх по Вяльниге, как тяжелый состав буферами залязгал. Лежни поднялись от земли, в шесть струнок запели. И раскалились, дымом обволоклись. Горелым запахло, гибелью, взрывом. Будто не тросы – бикфордевы шнуры зажжены.
– Поехало, – сказал Даргиничев и сдвинул шапку себе на темя, будто лоб собрался перекрестить. Он истово выругался, как солдат, шагнувший за бруствер, вниз побежал по откосу...
На самой высокой, птичьей, чаичьей ноте Коноплев кричал в аппарат:
– Троса горят! Ты что ж, понимаешь, Астахов, ты какие прислал троса? Это знаешь чем пахнет?
Что-то ему отвечал Астахов, но дребезжал аппарат, не сразу пробрался астаховский странно медленный голос, снизу откуда-то, от земли:
– Это ничего, Виктор Александрович, это нормально. В тросах пенька просмоленная заложена для смазки. Это смола дымит. Это нормально... Ну, а как вообще-то положение? Тронулось?
– Ладно, – сказал Коноплев нотой ниже. Через час позвони. Поехало.
3
Перебор под Островенским – вспомогательная запонь – держался шестнадцать часов. Тридцать три километра оставалось от него до генеральной запони в Сигожно и триста – до истока. Первой подвижкой вспучило, подняло перебор, но не сорвало. Легкий лед, взорванный накануне толом, нырнул под него, затем надвинулись главные льды. Прибывала вода, ускорялось течение. Степино войско, кургузые ватные люди, девчата таскали на перебор бревна, валили, чтоб утопить его, но силы им не хватало, весу. Гомон тонких голосов покрывало ревущей рекой. Дымились тросы. Льдины выворачивали из воды свои зеленые днища. Все выше вздымало легкий, в один рядок, перебор. Все больше на нем громоздилось лесу. Запонь стонала, ее выламывало из реки.
– Пущай, пущай его перемелет, – покрикивал Степа Даргиничев. Он мокрый был, окатило его, и все его войско промокло, все кричали бог знает какие слова, шпыняли баграми ледовую гору. После стало известно, что держался островенский перебор шестнадцать часов. Никто не заметил этого времени. Стояла запонь, и время тоже стояло. Вяльнига надвое переломилась, ледяным пыжом запрудило реку, верхний бьеф поднялся, вода хлестала, валилась, как на плотине Волховской ГЭС. Большой костер разложили на берегу, выскакивали к нему посушиться. Когда стемнело, Даргиничев отдал команду уйти всем с реки. Стояли толпой у костра. Перебор держался, хотя никто ему теперь не подсоблял. Ниже перебора река чернела, взблескивала в костерном свете, текла, свободная от льда...
Лопнул островенский перебор, как из пушки выстрелили, рядом, над самым ухом. Река распахнулась, и льдины кинулись вниз. Люди побежали за льдинами; от костра побежали гурьбой, потом растянулись по берегу...
Даргиничев в будке остался у телефона. Петр Иваныч сообщал с генеральной запони, что все тихо пока. Взорванный верховой лед унесло, очистило реку.
– ...Вечером с наметкой ходил дак... – сообщал Петр Иваныч, – двух судачков вытащил и налима.
– Ты погоди, погоди, – останавливал заместителя Даргиничев. – Уровень воды насколько повысился?.. Ай-я-яй... Островенскую сорвало, через час на Нергу принесет... Вода ужас как подымается... Ужас. Не знаю, Петр Иванович. Льды под метр толщиной... Ты всех своих девок на берегу держи, ни одну не отпускай с глаз долой...
– Не уйдут, – заверял Петр Иваныч. – Это и разговору быть не может. Как на привязи все, в запонь вцепивши... Азартные девки.
Коноплев звонил с нергинского перебора, спрашивал обстановку.
– Сорвало, – отвечал Даргиничев. Радость была в его голосе, азарт отшумевшего боя. Будто выигран бой. – Сорвало, Виктор Александрович. Понесло!
– Народ посылай на Нергу, – требовал Кононплев. – Наличными силами нам тут не обойтись, как лед подойдет. Попервее льда народу надо успеть. С полдня на метр поднялась... Того и гляди мертвяки зальет... Давай, Даргиничев, торопи людей.
– А он уже сам бежит, народ-то. Наперегонки со льдинами бегут, шустрый народец... Я один и остался. Как шкипер на потонувшей барже. Как шкипер...
Степа еще постоял на берегу; вся живая, шуршала, скреблась, торопилась, шепталась, плескалась внизу река Вяльнига. Степа держал ее сколько мог, надсаживался, плечом подпирал. Прорвало запруду, и внутри у Степы тоже что-то прорвалось, свободно стало ему, легко. «Теперь была не была, – думал Даргиничев. – Теперь уж как вывезет. Пан или пропал». Он отвязал от сосны Серого, сел в седло и сразу догнал замыкающего ватного солдатика, окликнул его:
– Чего отстаешь, служивый, от главных сил отрываешься? Притомился?
Солдатик поднял лицо.
– Нет, я вас дожидалась, Степан Гаврилович.
– О, да это никак декабристка? Нина Игнатьевна? – Даргиничев спрыгнул с коня. Совсем он еще молодой был, директор.
– Это я, – сказала Нина. – Я на вас смотрела сегодня, как вы плотину держали, и подумала, что потом, когда я ватник сниму, ну, когда опять девушкой стану, мне трудно будет с парнями... В институте у нас было просто: все парни как парни, а теперь я знаю, что еще другие бывают. Могут целую реку остановить и держать под узцы, как коня.
– Нергинский перебор не удержим, пока вода убывать начнет, тогда пиши пропало, – сказал Даргиничев. Сердце бухало в нем, ватник он ни разу не застегнул в этот день. Степа кинул повод и обнял Нину, поднял ее, глядел ей в лицо. Серый отвернулся, фыркнул.
...Ночь теплой была, туманной, бессонной, все двигалось в ней, звучало; помирали снега, торопились ручьи. Никаких слов не сказал Степа Даргиничев Нине, принес ее на самый берег, поставил на снег, поцеловал. И смутился.
– Спешить надо, – сказал, – раньше льдов успеть на Нергу, а то там такого наворочают, не расхлебаешь. – Серьезный сделался Степа. Вскочил на коня, поскакал.
Вскоре догнал свое войско, поехал шагом. Девчата все потянулись к нему, трогали коня за бока и за гриву. Степа громко шутил, угощал папиросами. Голоса далеко разносились.
...Нергинский перебор продержался сутки. Может, он так и остался бы стоять. Вода поднялась на пять метров, шла вровень с берегами, льдины грызли подножья сосен. Но перехлынуть верхнюю кромку не хватало силы воде. Неоткуда ей было больше взяться. Нергинский перебор стоял, гудели лежни. Будто силы сравнялись, и время, поднявшее реку, осадит ее, поможет. Только выдержать время...
Вода не подымалась больше, но и не падала. Близко стояла вода к поселку Нерга. Не стояла она – кидалась, выпихивала льдины на бровку берега...
– Еще продержится час и пойдет на убыль, – обещался Даргиничев. – Выдохлась. Амба. Часок бы еще...
Но час проходил, а Вяльнига царапала льдами о сосны.
– Пущай, – говорил Даргиничев, – чем дольше высокая вода держится, тем дружнее падать начнет. Нам же на пользу. Пущай.
Три часа бежала вода на высшей своей отметке, все глядели на воду и проглядели, когда началось, откуда нагнало тучу. Дождь хлынул, и закипела река, выплеснулась через край, заструилась меж сосен. Костер зашипел и погас. Народ побежал где повыше.
Даргиничев в будке у телефона стоял. Все стенки треснули разом, осыпались сколоченные ржавыми гвоздями горбыли. Мертвяк вывернуло из траншеи, поволокло. Даргиничев шлепал за ним по воде, пытался заклинить его в соснах. Увидел рядом с собой Коноплева, обругал его, замахнулся:
– Уйди! Убьет!
Мертвяк подняло на дыбки, Степа едва увернулся. Пошел по колено в воде к поселку. Нечаянная его подружка Нина оказалась с ним рядом. Вынес ее на сухое место и не взглянул. Сорвало нергинскую запонь, и не упала вода, и дождь хлестал, как пули сыпало с неба.
4
Лед приплавился сверху, нажал, и зашевелились чурки, стали выпрастывать головы, вставать на дыбки. Так и двинулись стоймя на запонь, влезали друг дружке на плечи, сдирали шкуру с боков... Генеральная запонь выгнулась в дугу, натянулась, последняя это была преграда. За нею Вяльнига вольно катила до самого озера.
Генеральная запонь, конечно, была прочнее переборов в Островенском и Нерге. Трехрядные плитки, по восемь бревен в ряду, на железных штырях. Шесть лежней продели сквозь запонь. Двести девушек поставил Даргиничев на генеральную запонь. Но лес приподнял ее. Утопить не хватало весу. Лес поднырнул, прорвался, поплыл в озеро.
Секретарь райкома Журавлев в это время сидел в своем кабинете у телефона, в поселке Вяльнига, неподалеку от устья. Он увидел в окошко плывущий сигоженский лес... Журавлев названивал в Сигожно, но никто не ответил ему. Тогда он вызвал Астахова...
– Прорвало, Иван Николаевич, – сообщил Журавлев слезным, пропащим голосом. – Совсем худо дело. Вот тут у меня под окошком несет. И конца не видать... До Сигожно не дозвониться. Видимо, все на запони.
– Ты погоди паниковать, – прогудел Астахов, – может, часть какая-то поднырнула... Сотня полен...
– Да где часть, вон всю реку забило.
– А, черт... – сорвался астаховский голос. – Как же вы так допустили, ей-богу? Девушка, переключите меня на Сигожно. Хорошенько им позвоните. Алё!
...Даргиничев делал, что нужно было делать ему. Он стаскивал бревна на запонь, топил, загружал и пятками чуял, как трутся о запонь идущие низом чурки. Степа думал с пушке своей, о нагане. Он оставил его в кабинете, в столе. Степа думал, что если он не удержит сигоженский лес, то жить ему невозможно. Некуда ему станет жить, если он так опростоволосится перед народом. Лес уходил, и Степа казнил себя: «Пулю в лоб – и амба. Так и так амба...»
Засоры лопались, как шнурки. Даргиничев строил всю зиму свою оборону. Все крепко построил, не ворвалось бы. Только дождя не учел.
– Степан Гаврилович! – Это Устриков звал, Петр Иваныч. Он бежал по запони и кричал: – Степан Гаврилович! Вас Астахов спрашивает к телефону.
Даргиничев махнул рукой:
– Какие разговоры... Не до разговоров нам сейчас, скажи. Все, кто ни есть живые, на запони топчемся...
– Сказали, чтоб хоть из-под воды достать... Водичка упала, Степан Гаврилович. Уходит почем зря. На полметра уже ушоццы.
– Да ну? – Даргиничев поднял лицо и понял вдруг, что нету дождя, весь вышел.
Он поднялся на берег, на кряк; устойчивость земной тверди отдалась в нем внезапной радостью. Обернулся к реке: запонь провисла кошелем; чурки выныривали из-под нее; на чистой большой воде они казались сенинками, щепками. Выше запони дыбился лес – до самой излуки; запыжил наглухо реку, не шевелился.
– Амба, – сказал Даргиничев. – Теперь его стиснет – сам себя держать будет. Никуда не денется... – Он сдвинул шапку на темя, стер платком лоб. – Пойти Астахова успокоить, – сказал, – а то в штаны наклавши сидит. С него первого спрос, если что... – Поголубел Степин глаз, веселый, дерзостный стал. Разъяснило наконец.
– Ну как? – дознавался Астахов в тревоге, в тоске.
– А так приперло, Иван Николаевич, – весело ответил ему Степа, – что хоть с обрыва вниз головой…
– Ты брось эти штучки, – задыхался во гневе астаховский голос. – Про... запонь? Журавлев звонил, под окошком у него лес плывет. Ты понимаешь, чем это пахнет?..
– У страха глаза-то по тарелке, – весело говорил Даргиничев. – Кубов двести ушло, не больше. Вода высоко вздынулась, Иван Николаевич. Старики не помнят такого паводка. Срочные меры мы приняли. Зубами держим. Больше нечем держать. Велика Россия, а отступать некуда было. Как панфиловцы под Москвой. Некуда отступать. Не пустили. Теперь на убыль пошла...
– Так что же, – сомневался и верил уже Астахов, – выходит, Журавлев зря панику развел?
– Двести всего кубов уплыло. Пыж держится, не шелохнется...
– Двести кубов – это терпимо, это куда ни шло... Ты вот что, Степа, учти: лес целый год в воде проболтался, тонуть начнет почем зря. Баржи к тебе из Сонгостроя по каналу идут. Все наличные силы ставь на погрузку, не то утопим древесину...
– Две недели народ не спавши, – сказал Даргиничев. – По уши мокрые все. Как тритоны в воде буруздимся. Как тритоны. Баню стопим сегодня, пущай отдохнет народ. Пущай. Заслужил.
– Ты вот что, Степа, – сказал Астахов, – списки подготовь особо отличившихся. С Коноплевым согласуешь, и мне пошлите. Указ готовят по нашему наркомату. Награждать будут. А банями не очень увлекайся. Где баня, знаете ли, там еще что-нибудь. Народец у тебя еще тот... Смотри, Степа!
Астахов подышал в трубку, перестраивал свой голос на другой регистр.
– Ну так что, Степа? – Праздничный сделался голос, застольный. – Поздравить можно тебя? Выдюжили?.. Ну, поздравляю. Сейчас мы даже не можем с тобой представить, какое это великое дело. Обнимаю, Степа, тебя... Спасибо...
– Девчатам надо спасибо сказать, Иван Николаевич. Нет им цены...
5
Упала вода, но тросы гудели, дымились в смоляной испарине, дрожали как струнки: чуть тронь – и порвутся. Директор приставил к тросам охрану – самых крепких и бойких девчат отобрал, круглые сутки вахту несли. На правом берегу командовала охраной Тоня Михеева. На левом против поселка ответственность за охрану возложили на Клаву Матюшину, бригадира.
Клаве обидно было до слез сидеть на бугре сторожихой. Столько она натаскала за зиму этих тросов, траншеи долбила на берегу, лед колола в Островенском и Нерге, мешки с зерном возила со станции на пекарню, впрягалась в водовозные сани.
Директор поставил Матюшину бригадиром. Месяца не прошло, как матюшинская бригада норму стала давать. Да еще и песни запела, идучи с работы домой.
Когда весна подвалила директору новой заботы, когда зажурчали тетерева на току и закружили вокруг поселка военные ухажеры, бригада Матюшиной оказалась устойчивой против соблазна. Даргиничев ставил ее в пример, шутил с бригадиром:
– Молодец, Клава, что сержантов с лейтенантами отваживаешь. Мы тебе майора сосватаем. Или подполковника.
– Я, может, на меньшее не согласна, чем генерал, – тоже шутила Клава.
Была она по профессии ткачиха, пришла на фабрику шестнадцати лет. В сорок первом ей исполнилось двадцать четыре...
«Серьезная девушка, – хвалил ее за глаза директор. – Сначала о деле подумает, потом о себе. Сразу видно – фабричная, питерская...»
Трудилась Матюшина со своей бригадой – дням счет вели, а часов не считали, с темна до темна. Что было работы зимою на Вяльниге – всему научились девчата. Но только зимняя эта работа томила девчат неясностью результата. Весны они дожидались: весна все покажет, река все решит.
И вот весна разразилась, река забурлила, подняли головы бревна в заломе, закряхтели в траншеях мертвяки. Запели над Вяльнигой жаворонки, заиграли на дудках кроншнепы. Задвигалось все, зазвучало, вступило в круг всеобщей спорой работы.
Клава глядела на дымящиеся от непосильной нагрузки тросы. Ей хотелось помочь, но чем поможешь? Жданный всю зиму главный весенний труд совершался отдельно от Клавы Матюшиной. Девчонки – ее бригада – где-то держали лед: в Островенском, на Нерге. Клава мучилась своим бездельем в эти решающие дни.
Когда полил дождь и вздыбилась запонь, Клава Матюшина оказалась рядом с директором, вместе таскали бревна. Но он будто и не заметил ее. Потом, когда поутихло, сказал:
– Спасибо, Клавдия Андреевна. Я тебя и оставил тут на генеральной запони, как бы в резерве главного командования. Знал, что в решающую минуту не подведешь... Ты до вечера присмотри за крепежом на левом берегу, вечером я подсмену пришлю.
Клава опять поднялась на бугор со своей охранной командой. Сидели, счастливые, на бревенчатом бруствере траншеи, смотрели на присмиренную реку. И какое-то недоумение владело всеми: слишком долго готовились к этому главному дню сражения, и как-то коротко, буднично все получилось. Чуть-чуть постращала река, взбрыкнула, только-то и всего. Кто-то сказал:
– А разговоров-то было: «Удержим... не удержим...» Ее и держать не надо! Как миленькая стоит...
Клава Матюшина возражала, говорила, что держат лес в запони выноса, которые они натянули зимой. Умом она понимала свою правоту, но чего-то и ей не хватало в этом главном, решающем дне. Вроде бы лес удерживали, но кто держал-то его – не понять...
Клава пошла берегом к излуке, там слышнее ревела река. И еще прибавился новый звук, шлепающий, шуршащий. Клава остановилась, грунт вдруг поехал у нее из-под ног. Она вскрикнула, сиганула подальше от берега. То место, где только что стояла она, исчезло, рухнуло вниз. Перекрытая льдом и лесом река грызла берег на излуке. Берег поддавался реке, опадал.
Работа, кипенье реки будто заворожили Клаву. Так стояла она с минуту и вдруг побежала, скатилась на запонь, вскрикивала на ходу:
– Там... берег... подмыло... там... мертвяки... унесет...
– Ну чего раскричалась? Чего паникуешь? Чего? – остановил Клаву Даргиничев.
– Там... берег... весь... обвалился…
Директор бежал вместе с Клавой на левый берег, к излуке. Он прыгнул к самой воде, и берег, покрытый дерниной, обрушился под его ногой. Директор ухнул вниз, но удержался, вылез на сушу.
Река торила новое русло, лезла, грызла, съедала ломоть за ломтем берег. Клавина команда – девчата глядели в лицо директору. Хриплым, сдавленным голосом он сказал:
– Бегом все на склад зерна. Сколько есть кулей с рожью и овсом – вскрыть. Зерно на пол высыпать. Пустые кули все мигом сюда. Будем песок насыпать, берег крепить. Держи от зерносклада ключи, – обратился он к Клаве. – Которые на запони девушки, прихватите с собой. Пущай по поселку шуруют, у хозяев мешки собирают из-под картошки – и лётом тащат сюда.
И правда, лётом... После не вспомнить было Клаве, откуда в руках у нее нож появился с деревянной ручкой, откуда достало силы ворочать пятипудовые кули, вываливать зерно – хлеб насущный – на грязный щелястый пол склада.
Чего другого, песку хватало на левом берегу Вяльниги. Носили мешки с песком и плюхали в воду. И – только муть на воде. Казалось, напрасное это дело: река все съест, унесет. Двести восемьдесят три мешка – Клава сама считала – опустили в пучину бесследно. Двести восемьдесят четвертый показал над водой свою мокрую боковину. Еще положили двадцать мешков, и над берегом возвысился бруствер. К полночи кончили дело. Река унялась.








