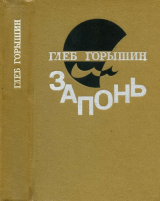
Текст книги "Запонь"
Автор книги: Глеб Горышин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)
Люде не нравилось, что Игорь вот так похаживает, с неприступным видом, не попрекая ни в чем, но будто бы осуждая самым фактом своей недосягаемой высоты. Люда злилась на мужа. Она не собиралась этого говорить, само сказалось:
– Мы с Феликсом сеть похожали. Карасей нажарили. Поболтали. Он парень хороший, естественный, на Ванюшку Птахина чем-то похож...
– Я знаю, – сказал Игорь усталым, медленным, скучным голосом.
– Откуда ты знаешь? – не поверила Люда.
– Акустика на воде превосходная, – сказал Игорь. – И видимость тоже. – Он постелил на пол одеяло, лег на спину. Люда знала, что это он расслабился, по системе йогов принял позу «шавасана» и мысленно видит чистое небо, теряет чувство веса, земного тяготения, взлетает, парит... Люда тоже пробовала лежать в позе «шавасана», но оторваться от земли, взлететь, парить в небе не получалось у нее. Игорь говорил, что у него получается...
Он лежал с закрытыми глазами, отвалив набок голову, распустив все мышцы и сухожилия, думал, что это он плавает на спине, видел мысленным взором небесный свод, но взлететь в этот раз почему-то не мог, переключиться из круга земных забот и тягот в сферу небесной безмятежности, невесомости не удавалось ему. Он испытывал не то чтобы ревность к Феликсу Нимбергу, но некую, что ли, обиду. Чужак нарушил границу его владений, не доложившись ему. Причина визита казалась Игорю неосновательной, странной. Но главное, что уязвило его самолюбие, это Людина скрытность. На обратном пути из лесу Игорь завернул в Пялье на почту, и пяльинские рыбаки сообщили ему, что видели его бабу, когда шли губой. Она сеть похожала вдвоем с мужиком. Они думали, что это Игорь, хозяин, а Игорь – вот он, плывет с другой стороны. Мужик показался им вроде похожим на Фельку Нимберта. Фелька бегал с утра с дорожкой на озере – это тоже они видели. Скрыться негде на здешних тихих и ровных водах, все видно.
Игорь думал, что Люда сразу все скажет ему, а она про Сайду с Пыжом... Какая-то чушь, ахинея...
До ревности Игорь, конечно, не мог опуститься. В их отношениях с Людой было нечто помимо чувства, страстей. Он понимал любовь Люды к нему как непременную обязанность, долг; слишком неравны были затраты: Игорь расстался с научной карьерой в институте, прошел всю муку и унижение развода, оставил квартиру в городе прежней семье, ему достало воли резко переломить всю жизнь и возвести ее заново умением и силой своих рук... Он сделал это, смог – ради Люды. Кем Люда была? Разве это профессия для девушки – егерь? Охотники, конечно, баловали ее, приучили к похвалам, комплиментам. Но что ждало Люду, если б не он...
Игорь, конечно, не мог подумать, что Люда облагодетельствована им. Но что-то было такое в его отношении к Люде, как в старых романах, где благородный джентльмен женился на падшем создании и поднял это создание до своего круга. Не только любви хотел Игорь от Люды – это само собою, тут Игорь себя почитал таким молодцом, каких мало, кого же еще и любить? – но еще хотелось ему благодарности, что ли. Мысль об измене, неверности Люды даже не приходила ему...
Игорь полежал на полу в положении «шавасана», посмотрел сквозь потолок на ясное синее небо, мало-помалу забылся, переключился, переместился в иную сферу, увидел машущих крыльями чаек, мысленно, силой воображения сам оделся в чаичьи перья и полетел... Поднялся с полу просветленным и обновленным, с легкой душой. Позвал жену:
– Людоед, пойдем поплаваем!
Игорь плавал кролем и баттерфляем, Люда – саженками. Они брызгались, бултыхались, играли в воде – белые, голые, сильные, молодые. Люда вылезла первой на берег. Игорь смотрел на нее из воды, как Адам, вкусивший яблока и открывший, внове обретший свою подругу, Еву. Он любовался Людой и чувствовал гордость мастера, который нашел в бесформице натуры перл красоты, совершенства – запечатлел его, обрамил. Никто не видит, не знает, ему одному владеть этим дивом...
Люда попрыгала, вытряхивая воду из ушей, она и не думала что-либо надевать на себя. Игорь видел ее снизу, с реки: нагая женщина исполняла ритуальный танец на берегу, на фоне темной насыщенной зелени, кустов, под заревым, багровеющим небом. Картина была хороша, но близко шлепал мотор, кто-то свернул с канала на Кундорожь, не мешало бы Люде прикрыть свои прелести. Вообще бесстыдство подруги порой озадачивало охотоведа. Люде нравилось жить вовсе голой. Игорь звал ее «обнаженная маха» и попрекал: «Откуда это в тебе? Ты ведь русская баба. Они по природе своей стыдливы». – «А я вообще забываю здесь – баба я или кто, – отвечала Люда. – Я чувствую себя природой». – «Ну-ну, – хмыкал Игорь, —смотри, пяльинские бабы поймают тебя да вымажут дегтем». – «А я не боюсь, – отвечала Люда, – за меня участковый заступится. Мы с ним друзья...»
После купания пили чай с земляникой на летней кухне. Вскоре приплыл на лодке пяльинский механик Сашка. Вначале мужчины занялись моторами, потом вернулись к столу. С непонятным одушевлением, впрочем постоянно свойственным ему, Сашка продолжил речь, начатую когда-то прежде:
– Ты вот мне скажи, для чего в Кондозере всю рыбу отравили и пелядь в него запустили? Какая такая пелядь, хотел бы я знать? И слово-то непотребное. Таким словом добрую рыбу позорить не станут. Что-то здесь не то...
– Пелядь – вкусная рыба, – сказал Игорь, – пальчики оближешь.
– Дак, может, она вкусная для тамошних рыбоедов, откуда ее к нам доставляют. А по мне лучше рыбы и нет, чем кондозерский налим. В марте, бывало, под лед мережу сунешь, налимы в нее набьются – каждый по полену. Ночь они на морозе полежат, настрогаешь их, солью посыплешь – царская еда, деликатес. Не-ет, что-то тут не так. Какой-то закон в природе переступают, а природа насчет закона строга.
– Для меня самая вкусная рыба – это сиг озерный, горячего копчения, на ольховом дыму, – сказала Люда.
– Вот я про что и говорю, – подхватил Сашка, – в нашем озере сиг обитает, а на берегу ольха растет. Все одно к одному. Может, где-нибудь в Африке, на озере Чад, вообще рыбы навалом. А посади там нашу ольху, она не будет расти, зачахнет, потому что не нужна там. Какой-нибудь баобаб срубят на дрова и рыбу коптят на баобабовом дыму. А привези к нам этот баобаб – он если и выживет, дак на кой он нам шут? Наша рыбка хороша, когда ее на нашенском, на ольховом дыму провялишь...
– Ты же чаи гоняешь, Александр Ефремович, – начинал сердиться Игорь, – и не задумываешься над тем, что растение это – чай – произрастает в субтропическом климате. Однако твой кондовый северный организм требует чаю, усваивает его...
– Это другое, – возразил Александр Ефремович, – это во все века люди друг другу гостинец посылали. Это торговля, обмен. Все равно, что Фелька Нимберг куниц добудет на Вондеге, сдаст в заготпушнину, мех на пушном аукционе продадут, какая-нибудь дамочка где-нибудь в Рио-де-Жанейро из него себе шубу сошьет. А мы на вырученные денежки в Рио-де-Жанейро ананасов купим...
– Феликс рысь у себя в огороде в капкан поймал, – сказала Люда.
– Это как понимать огород, – Игорь выпятил нижнюю губу более, чем обычно. – Феликс вообще весь лес понимает как собственный огород. Браконьер заядлый. Сам хищник, почище любой рыси.
– Да брось, – сказала Люда, – какой он хищник? Он лес чувствует, понимает. Он просто поэт.
– Знаем мы этих поэтов, – Игорь поднялся, вышел вон из летней кухни, скомандовал псу: – Сайда, поваляйся!
Сайда, видимо, повалялась.
– ...Ну-ка, плесени мне, Саша, чуток, – попросила Люда. – Игорь не позволяет, он меня все воспитывает. Он вообще всех готов воспитывать.
– Вон чашку-то подай, в ней незаметно будет... Ну, давай, пока хозяина нет.
Люда с Сашей чокнулись и выпили.
Тут пришел Игорь, Саша обратился к нему со своими идеями, которые всегда у него имелись, лишь бы было кому сказать:
– Вот ты говоришь, человек – царь природы и так далее... Царь-то царь, а надо с природой ему жить в мире... Особо царствовать над ней – еще неизвестно, как обернется...
– Я ему то же самое говорю, – вставила Люда, – а он меня ругает.
– Дак ругай не ругай, а никуда от этого не денешься, – продолжал Саша. – От местных людей вреда природе не будет. Мы если чего и возьмем от нее, дак по потребности. Мы – как кулики на болоте: нам без болота нашего нельзя, и болото без нас жизни лишится. Весной на болоте мы уток пролетных караулим. Убьем-то всего ничего, зато музыки этой наслушаемся и сами наговоримся всласть у костров. Бабы наши клюкву подснежную берут. Потом тресту жнем на корм скоту, летом морошка, рыба в озерах, в осень опять же клюква, гусь полетит. Городской человек будет два часа в очереди у ресторана ошиваться, пока его швейцар в дверь пустит, а нашего брата хлебом не корми, только дай ему болото помесить сапогами... Всякому свое... Теперь что же получается? В губу нам доступ закрыли. Ладно, хорошо, мы понимаем: об утках, об лещах заботятся... Теперь Сяргинские болота Сонгострой своим охотхозяйством объявил. Егерей поставил, нашего брата гоняют, как диверсантов каких. Нам-то, болотным людям, куда податься? В город, что ли, лыжи навострять? Это мы можем. Наш пяльинский мужик – как кошка: его кинь хоть с пятого этажа, он на лапки приземлится... А вот кто на нашем болоте жить станет?
– Местные, неместные – это не разговор, – сказал Игорь. – Это – понятия пережиточные, из феодального строя. Современный человек не принадлежит никакому месту.
– Это конечно, – согласился Александр Ефремович. – Но я тебе о другом толкую. Вот возьми у нас в Пялье Володя Ладьин – мужик здоровый, перед войной он на сейнере плавал на Балтике. В войну их судно немцы захватили, команду интернировали. Дак он из плену бежал, линию фронта перешел, воевал, брал Берлин. Потом опять же рыбачил на Балтике, дошел до старшего помощника капитана... И деньги зашибал хорошие, и квартиру имел в Усть-Нарве и все такое прочее... В общем, живи – не хочу... Так нет, он все бросил, вернулся к себе на болото, в Пялье. Рядовым рыбаком в бригаде, мережи трясет... Стало быть, что-то тут есть. Вот же лебедь – покантуется зиму на Каспии и все равно тянет в нашу тундру...
– Володя Ладьин – большой мастер в губе поживиться рыбкой, – сказал Игорь.
– Да это ладно, это дело второе. Я не о том... Вот до тебя тут жил егерь Сарычев. Хороший мужик. Простой, работящий. С ним можно было договориться. И огород он тут развел, понимал крестьянскую работу, хотя и из города. Вообще хозяйственный человек, основательный. И выпить был не дурак. И пьяным его не видели. Умный, толковый мужик. Видать, хотелось ему тут как следует окопаться. Не гастролер. Кроликов развел... И вот же – не вышло. То одна у него неурядица, то другая. Собака была у него, зверовая лайка – ее убили. Жена у него в городе оставалась, звал он ее, она приедет, поживет, да здесь ей не климат. Кролики его поедом съели, только успевал косой махать, траву им таскал... Старался мужик, не ленился. И ничего неё вышло. Уехал в город. Там у него, видать, корень глубоко пущенный...
– Он с охотинспекцией не ладил, – заметил Игорь.
– А ты что думаешь, Саша, – сказала, сощурясь, Люда, – и мы тут тоже не приживемся, что ли, ничего у нас не получится?
– Живите себе на здоровье, ваше дело молодоженское...
Еще поговорили о том и о сем. Вскоре Сашка уплыл. Пока был, звался Сашей и Александром Ефремовичем, как уплыл, то стал Сашкой. Сделалось тихо на Кундорожи. Ничего не осталось от сказанных слов. Только стрижи все выше, выше взмывали, не в силах достичь потолка. Да и не было потолка. Стрижиные голоса доносились из выси на одной дискантовой ноте, будто морзянка...
Иногда пролетали, свистя, шелестя крылами, чирки и кряковые селезни. Над губой играли на флейтах кроншнепы...
– Хорошо-то как, когда нет никого, – вслух подумала Люда.
Они сидели на крылечке дома с Игорем, с мужем.
– Стрижи высоко летают, – сказал Игорь, – это к вёдру.
День кончился, вечер продолжался, медленно тек; пора быть и ночи, Но рдела вода в губе и в реке. Не могли уснуть, успокоиться птицы, плюхали рыбы. Тарахтели вдали моторы: кто-то куда-то плыл. Ночь наступила уже, но не было мрака, потемок – ночь раннего лета на севере названа белой. Впрочем, белыми в этих ночах бывают разве что стены городских зданий. В городе белых ночей. Ночь над тихими водами, над камышовыми плавнями выдалась смутно-дымчатой, сизой, чуть лиловатой. В ней не было сна. Соловей попробовал горло в кусту над рекой. Проблеял где-то никому не видимый козодой...
Игорь приобнял Люду. Рука вначале мягко, грузно легла ей на плечи. Стала крепнуть, твердеть... Игорь поцеловал Люду. И утром, и днем они целовались, но это был главный, самый долгий, решительный поцелуй, без оглядки, – окончание дня, пришествие ночи...
– Пойдем, – сказал Игорь.
– Пойдем, – тихо, готовно откликнулась Люда.
Они легли на пол, на свежее хрусткое сено, которое Игорь косил, Люда сушила – для ложа. Сено Люда укрыла сперва одеялом, потом простыней. Окошко они отворили, соловей пел для них. Когда он умолк, Игорь включил транзистор. Музыка звучала здесь, над тихими водами, без помех. Молоды они были, Игорь и Люда, но не первой, исполненной жажды познания, робости и сомнений молодостью. Чего им нужно, знали они – вот этой любви; и любили не только друг друга, любили свою любовь, ее сладость и плоть. Весь день они жили под солнцем, среди луговых трав и цветов, трудились, купались в реке. Некая сила накапливалась, настаивалась в них; теперь они тратили ее, любя...
Когда же не стало ее, Игорю вдруг показалось, что все разомкнулось, исчезло. И что же? Что же еще?.. Эта изба, сено на полу и женщина, лежащая рядом, – откуда она, для чего? Игорю почудились те мужчины, что были рядом с ней, вот так же, в ночи. Все было уже. Все было... И миновало. И нет ничего... Игорь вдруг вспомнил о недописанной диссертации, ужаснулся: «Позор, позор... На месте захряс... Все она, она... Тоже мне пылкий любовник нашелся... Ученый муж...» Ему захотелось обидеть Люду. Он сквозь зубы сказал:
– Какой-то в тебе есть профессионализм...
Люда перестала дышать, затихла...
– Дурак ты... – Она заплакала.
Игорь взял раскладушку, ушел ночевать под открытое небо.
Утром они помирились. Ночью опять поссорились. И много у них было ночей, но чтоб заодно, нераздельно, чтоб слиться и позабыть о себе – такого больше не получалось. Словно кто-то стоял над их ложем, смотрел равнодушным, насмешливым взглядом: «Все это было уже, все было...»
Обычно свой отпуск в августе – сентябре Феликс Нимберг проводил на боровой охоте, уезжал на мотоцикле в Кыжню, Вондегу, жил нелелями в бараках бывших, брошенных лесоучастков, стрелял молодых петушков-косачей, свистел в манок, приманивал рябчиков по берегам лесных ручьев. Приглядывал, наблюдал, где бобры подпилили лесину, где мишка ходил, где рысь, где глухариные выводки. И сам он, как тетерев, кормился брусникой на вырубках, как мишка, лакомился малиной, жарил себе на ужин грибы – белых грибов полно в глухой корбе за Вяльнигой. В речках он ловил на удочку хариуса, форель. По вечерам сидел со свечой за столом в бараке, писал в тетрадку стихи: «Ничего мне на свете не надо. Я всю жизнь пройду налегке. Только двадцать четыре заряда. И краюха хлеба в мешке...»
Этим летом в отпуск Феликс отправился в необычное для себя место – на берег озера, по ту сторону губы, на мыс Еремин Камень. Там имелась построенная рыбаками избушка, часто в ней гостевала приезжая публика, ободрали избу, крылечко сожгли. На Кыжне и Вондеге Фелике с легкой душой оставлял свое имущество в лесных домах, уходил, куда нужно ему, – никто ничего не трогал, не брал. Здесь, у Еремина Камня, он не мог понадеяться на сохранность имущества; идучи в лес, нужно было все тащить с собой на горбу. Да и лес тут худой, только прибрежная грива, за нею сразу болото: дупелишки да бекасишки. Незавидное место, но если подняться на этот самый Еремин Камень, на поросший белым мохом и брусничником увал, если очень сощуриться, долго-долго смотреть, то можно увидеть в лиловой дымке, в солнечном мареве над зеленью тростников белый прямоугольник – шиферную крышу кундорожской базы. Музыка чудилась ему, как телефонный провод, доносила песню вода: «Ми-ла-я, ты услышь ме-ня...» Можно сесть в лодку и дуть прямиком через губу, за час будешь там...
Стола в избе не было, лавки тоже пошли на растопку. Окна Феликс затянул от комаров полиэтиленовой пленкой, пол вымыл, лежал по вечерам на еловых лапах, застеленных брезентом, свеча горела в изголовье. Стихи сочинял: «Между нами вода. Ты сидишь у окошка... Ничего, не беда, только грустно немножко. Свет погаснет в окне. Ночь большая настанет. Без тебя плохо мне; поболит – перестанет».
Летом Феликс сошелся поближе с Игорем-охотоведом. Такой вышел случай: с Игоря потребовали отчет о поголовье зверя и птицы на берегах губы. По своей педантической честности Игорь решился исполнить задание без туфты, без гадательных, округленных цифр. С фотоаппаратом и магнитофоном, с егерем Людой он отправился в экспедицию, дневал, ночевал на болоте, на радость мошкам и комарам. Игорь себя не щадил и помощника не шадил, но лоси все запропали куда-то, утиные выводки затаились в тресте, к ондатровым хаткам не подобраться по трясине.
Феликс в ту пору клеймил лес под делянку в береговой гриве. Повстречал звериных, птичьих бухгалтеров – Игоря и Люду, изъеденных комарами, несчастных. Он им помог. Он знал на губе все гнездовья, все лежки лосей на болоте. Эту книгу он начал читать мальчишкой, выучил назубок. Игорь вначале все проверял «визуально», но вскоре понял, что здешних болот ему не облазить, всех комаров своей кровушкой не напоить... Он доверился Феликсу, помощника своего, егеря Люду, отпустил с богом домой.
Люда украдкой взглянула тогда на Феликса, даже кивнула ему чуть-чуть, подмигнула – дескать, спасибо, милый, за избавление.
Феликс помог Игорю написать отчет. Он прижился, приобвык в доме Игоря, так же как пяльинский механик Сашка. Понял, что Игорь, при всем его гоноре и образованности, мужик бестолковый в лесных, озерных, хозяйственных делах, а прежде всего в делах житейских, человеческих. Отношения с пяльинскими рыбаками Игорь изрядно подпортил, и вовсе трудно бы ему пришлось жить особицей, с Людой на пару, если б не Сашка. Сашка ему помогал. Сашка взял на себя, что ли, обязанности посредника между охотоведом и пяльинским миром. И Феликс тоже стал помогать, убеждать рыбаков, что Игорь в общем-то парень простой, только малость переучился...
Рыбаки говорили Феликсу, чтобы он передал «птицееду» – так они величали Игоря: «птицеед», – что если будет акты в милицию подавать за ловлю рыбы на губе, то пусть на себя пеняет. Воды много, есть куда спрятать концы. До Игоря был Сарычев егерь, тот хоть сети в губе снимал, но кляузами не занимался. С тем можно было договориться. А так не пойдет.
Феликс передавал Игорю пожелания рыбаков, конечно, в смягченной форме.
Он понял также, что между Игорем и Людой царят не только любовь да союз, но есть и что-то другое. С внезапным ожесточением они кидались друг на друга по пустякам. Однажды Люда собиралась в Гумборицу по каким-то делам, покрасила губы и подчернила глаза.
Игорь сказал, не глядя ни на кого, в пространство:
– Птицы выряжаются в яркие перья только в брачный период. А у баб круглый год брачный период...
– Ты, Лубнин, приляг на спинку, – сказала Люда с такой ненавистью, что даже губы ее задергались. – Ты ведь у нас йог, полежи, отключись...
Феликс не любил раздоров, злобы между людьми. Он старался помирить Игоря с Людой; что-то ненастоящее и непрочное, вымученное было в их жизни, такой завидной, прекрасной снаружи, с фасада. «Хорошие люди, жалко. Пусть бы жили себе», – думал Феликс. Страстное волнение, которое он испытал, впервые увидев Люду, на бону, со щукой в руках, вроде бы и прошло, улеглось.
Феликс частенько бывал теперь с Людой вдвоем, то сеть похожали, то плавали по грибы – Феликс знал за губой одно такое местечко, – то жарили рыбу на летней кухне. Игорь смотрел на эту их дружбу с достойным индийского йога философическим спокойствием, ничуть не ревнуя. Даже не пел про синий троллейбус. Он целые дни пропадал на губе, караулил свой большой огород...
Однажды Люда сказала Феликсу, как она говорила мужу:
– Фелька, пойдем поплаваем.
Но плавать, купаться в холодной здешней воде Феликс не любил и не умел.
– У меня нет купального костюма, – улыбнулся Феликс, – дома забыл, на рояле...
– А зачем? – сказала Люда, как бы не понимая Фелькиной шутки, играя изжелта-зелеными своими кошачьими глазами. – Я вообще здесь не признаю никаких костюмов. Отойдем подальше друг от дружки. Ведь мы же люди свои...
– Да нет уж, иди одна плавай, – сказал Фелька, чувствуя, как подымается, бултыхается сердце.
– Только ты не подглядывай.
– Да не буду, – сказал Феликс, охрипнув, теряя голос.
Люда сбежала к реке, разделась. Феликс видел в окошко. Люда знала, что видит...
Она пришла, натянув платье на мокрое тело. От нее пахло речной водой, свежестью, тиной.
– Ну, ты не смотрел? – спросила она.
– Смотрел, – сказал Феликс.
– Фу, как не стыдно. Такой скромный мальчик, а за чужими женщинами подглядываешь.
И правда, мальчик. Ничего не мог понять Феликс в этой бабе. Играла она с ним. Но зачем? И что нужно делать ему? Феликс неловко обнял Люду, и вся она, вся потянулась к нему, будто ждала, приникла, сказала близко, в самые губы:
– Ну что ты? Ну что, дурачок?..
Она хотела, чтоб он ей ответил – что. А что? Дурачок дурачком. Феликс прижался к Людиным губам, губы раскрылись, смялись, жадные губы – чтобы любить, целовать. Кого целовать?
– Сумасшедший, – сказала Люда и откачнулась. – Задушишь меня. Жениться тебе пора. Такой жених пропадает.
– Уже пропал, – сказал Феликс. – Весь вышел.
– Бедняжка... Пропащий жених.
Так они разговаривали, будто не было ничего. Это Люде хотелось, чтоб не было. Но было же, было. Феликс думал, что надо решиться и все разрубить: или так, или так.
– Я, знаешь, однолюб, – сказал Феликс, – как лебедь...
– Весной лебеди пролетали, – сказала Люда, – какая-то сволочь стреляла по ним с Еремина Камня. Один лебедь упал. Мы с Игорем видели. Игорь помчался туда на лодке, но уж никого не застал. И вот, знаешь, все улетели, вся стая, а один отстал – кружился и плакал. Мы сами с Игорем наплакались, пока слушали его...
– Я покружу вокруг тебя, – сказал Феликс, – и тоже заплачу.
– Фелечка, миленький, не плачь, – сказала Люда, – а то и я плакать буду. Тут воды хватит без наших слез... Я к тебе привыкла. Ты мне как брат. Игорь меня убьет, если что-нибудь заподозрит. Он бешеный. В нем разные звери сидят: и медведь-сладкоежка, и заяц-трусишка. И тигр бенгальский... Мне трудно с ним... Да и со мной тоже не мед... Я сама не знаю, что завтра выкину... Я на Амуре родилась, в тайге выросла. Дальневосточница я, таежница. Потом меня забросило в Корсунь-Шевченковский, знаешь, Корсунь-Шевченковская битва?.. Потом в Ольховском егерем... Теперь вот здесь...
– А завтра где будешь, таежница?
– Здесь буду. А где же еще?
– Ну, ладно. Тогда можно жить.
Феликс уплыл и больше не заворачивал в Кундорожь, хотя, случалось, писал круги по воде, тарахтел мотором – по озеру, по губе, по каналу. Раз встретился с Игорем в лесхозе. Игорь спросил, чего он давно не показывается. Феликс ответил, что много работы: «Лесосеки отводим, клеймовка, визиры рубим. Некогда».
В августе он пошел в отпуск, сложил пожитки в лодку да и махнул на Еремин Камень. Охоты путной не было там, жить в лесу просто так, гулять, прохлаждаться Феликс не умел. Поэтическая его натура была также натурой практической, хозяйственной, домовитой. Феликс охотился впрок, промышлял. Охота служила ему подспорьем для жизни, приработком. На Еремином Камне он занялся рыбалкой, ставил в озере переметы. Но попадала только плотва, лещ брался плохо. И Феликс уплыл бы с Камня в более добычливые места, но все глядел в ту сторону, где Людин дом за губой, ждал чего-то, пел: «Ми-лая, ты услышь ме-ня...» Отпуск его пропадал без охоты и без рыбалки.
Однажды к Еремину Камню завернула с озера рыбацкая, пяльинская мотоёла. Феликс встретил ее, принял конец, привязал к березе. На берег спрыгнул бригадир Высоцкий, крепенький мужичок, в маленьких, хорошо промазанных дегтем кожаных сапогах, в серой, с расстегнутым воротом рубашке, в пиджаке, с малиновой от солнца шеей, в кепке с большим козырьком.
– Мы ставник похожаем, видим, – сказал Высоцкий, – кто-то живет на Камне. Надо узнать, кто таков. Сей год ставника не тронули, поучили дак... В прошлом году два героя насмелились попользоваться... Два «вихря» поставили на казанку, если что, дак, думали, уйдут... С перепугу, видно, ни один не завелся у них... Ребята их в мотоёлу втащили, отволохали да в озеро кинули прохладиться... Под ноябрьские уж праздники дело было... Сей год тихо, никто не сунулся... А мы глядим, дым над избой, печку топют... Кто таков?
Бригадир разговаривал, а бригада его на борту мотоёлы слушала.
Будки у всех здоровые, красные от солнца, ветра и от других причин. Плечам, рукам, шеям тесно в одежке. Феликс подумал о тех двоих злосчастных ворюгах, польстившихся на даровую рыбу в ставном неводе. Ничтожна была их пожива в сравнении с расплатой.
– Дак, а ты-то здесь чо? – спросил бригадир. – По делу или так, порыбачить?
– Переметы поставил, да не берет ни шиша, – скавал Феликс.
Рыбаки улыбнулись, сыто, лениво, сознавая несравненное свое превосходство над бедным рыбарем, который цепляет червяков на крючки, сутками ждет, когда клюнет плотица или ерш.
– С нами пойдем, – сказал шкипер мотоёлы Володя Ладьин, – мой брательник Паша сегодня тресту жнет в губе... Работа найдется – веревку ташшить...
Феликс припрятал в кусту свое имущество да и прыгнул в мотоёлу. За ним следом прыгнул пес его, Пыж. Феликс облачился в оранжевый, тяжелый, грохочущий, водонепроницаемый рыбачий костюм, тянул веревку. Похожали сети, кинутые посередине озера, в самых глубоких местах, где держатся в эту пору сиги. Опрятные, как веретена, серебристые, с маленькими ртами, сиги попадали негусто, но попадали. К вечеру их набралось на дне мотоёлы с центнер. Пяток сижков бригадир Высоцкий выдал Феликсу за труды и леща килограмма на два. Окуньков и плотиц – густеру, которую не считали за рыбу, Феликс всю обобрал, сгреб в мешок.
Возле избы он наладил коптильню: прикатил с берега ржавую железную бочку, вырубил в ней оба днища, проделал дыру для топки; врыл полую бочку в землю, внутри натянул проволочную сетку. Развел в коптильне огонь, когда накопилось довольно жару, подкинул в топку ольховых веток с листьями. Вычищенных, посоленных, смазанных постным маслом сижков и леща перевязал бечевкой, уложил на сетку. Сверху укрыл жаровню крышкой, пусть рыба томится в ольховом чаду. Окуней и плотиц он тоже вычистил, посолил, распер палочками, продел им в жабры бечеву и натянул ее меж двух осинок – пусть вялятся.
Дотемна Феликс сидел у коптильни, прорыл поддувало, поддерживал ровный, в меру, жар, а главное – нещипкий, духмяный ольховый дым. Рыба нарумянилась, у сижков полопалась кожа, они сомлели в собственном соку. Одного сига горячего копчения Феликс съел, сиговая белая плоть без костей растаяла во рту; Феликс облизал пальцы. Подумал, что надо поехать на Кундорожь, угостить Люду с Игорем. Так он подумал: «Люду с Игорем». Отдельно о Люде он сегодня не вспоминал, не пел у воды цыганскую песню: «Ты услышь меня...»
Феликс быстро, легко заснул, довольный прожитым днем, с надеждой, что завтра опять пойдет в озеро с рыбаками и день трудов вознаградится прибытком. Завтра рыбаки похожают незод, в нем, должно быть, полно судаков и, конечно, попала лососка, форель. Густеры вообще завались... Засыпая, Феликс думал, что рыбакам выгодно брать его с собой: работает он не хуже любого, пая ему не нужно платить, а пять рыбин – это ничто для бригады. К тому же рыбаки – молчаливый народ, языки у них толстые, неповоротливые. Феликс, как жаворонок, заливался день-деньской. Рыбакам это любо, развесили уши...
Назавтра Феликс ждал мотоёлу, она еше шла каналом, а он уже слышал ее дизель. Но мотоёла не повернула к Еремину Камею, только пущенная ею волна пошлепала в берег. Феликс сказал себе: «Хватит. Завтра подамся на Вондегу». Он спрятал в кусту имущество, копченых сигов и леща, окушков и плотин оставил висеть – бог с ними. Свистнул Пыжа. Пошел на болото. Вернулся за полдень с двумя молоденькими чернышами, со связкой дупелей и бекасов, с кряквой и чирком.
Спустился к озеру, разделся, зашел по щиколотку в воду, мылся, брызгался, фыркал. Вдруг возникла на озере белая лодка, промчалась в ту сторону, куда шла утром мотоёла, – к ставным неводам. Лодку Феликс узнал, это главного лесничего лодка. Главный лесничий сидел за рулем, и кто-то еще был в лодке, в белой фуражке...
Феликс опять натянул сапоги, поплыл посмотреть переметы. Больше суток он их не смотрел. Едва взялся за шнур, как почувствовал тягу, биение сильной рыбы. Сердце закултыхало в нем, предчувствуя охоту, добычу. Когда тащил с рыбаками веревку из озера, сеть, – этого не было ничего, только работа... Феликс поводил сначала одного большого окуня, поигрался с ним, потом второго. Поддел сачком. Полюбовался, порадовался. И еще кто-то дергал за шнур, упирался. Проблеснул в воде медный бок леща. Лещ плюхнул в лодку, часто задышал жабрами, натужился, прянул вверх, затих. Феликс тоже часто дышал, готов был прыгнуть от радости. Подумал: «Пускай они там свои центнеры берут. Не наше дело артелью веревку тащить...»
В избе валялся с незапамятных пор большой ржавый чугун. Феликс надраил его. Разделал рыбу. Начистил картошки, луку. Развел огонь на улице под таганом. Поставил вариться уху. Сидеть просто так не терпелось ему, не моглось. Он взял топор, нарубил березовых жердей, обтесал их, забил в землю ивовые рогатули, соорудил без гвоздя стол, две скамьи. Ждал гостей Феликс Нимберг, знал, что гости прибудут, чуял. И самый средь них долгожданный, самый нужный ему человек – в белой фуражке...
Уха сварилась, Феликс поставил вариться картошку, принес на стол копченых сигов. Что еще сделать? Достал из мешка поллитровку, отнес ее на болото, сунул в булькающий родничок.
Скоро возникла в сиреневой, синей озерной дымка белая лодка, мигом примчалась, высоко неся нос, прошуршала днищем по песчаному берегу. Феликс принял швартовы, привязал лодку к березе. Подал руку пассажиру в белой фуражке, Люда спрыгнула к нему, на Еремин Камень. С чемоданчиком-магнитофоном в руке.
Была она вся новая, с нарисованными черно-зелеными глазами, с обведенными карандашом губами, в джинсах, перепоясанных широким ремнем с медной пряжкой, в тоненьком свитере. Люда сказала:








