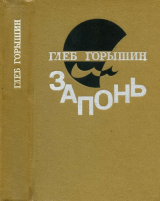
Текст книги "Запонь"
Автор книги: Глеб Горышин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)
– Надо выкроить пару метров полезной площади, – говорил он. – Народонаселение ведь прибывает в городе. Надо бороться за жизненное пространство. Хозяева дома сто лет назад вон какие себе размахали двери – как царские ворота. И до потолка рукой не достанешь, хоть ты будь Петром Первым. По нашим современным стандартам вполне бы можно еще один этаж поместить. Вот надо будет материалом разжиться да антресоли отгрохать...
Евгений Сарычев обходился без толстых профессорских книг. Он размышлял не в тиши, за покойным дубовым столом, а имея в руках топор, мастерок, молоток или гаечный ключ. Он был рабочим в мире и что-то знал, не зависящее от книжной премудрости. Что-то твердое было в нем, не дающееся переделке...
– Знаешь, Женя, – говорила Ирина Федоровна мужу, – вот я читаю современных писателей – это сплошной детский дом. Приютская литература. Все герои растут вне семьи. И названия соответственные: «Безотцовщина», «Ничей брат», «Кража». Раньше писатели поэтизировали семью. Помнишь – «Детство Никиты», «Детские годы Багрова-внука»?.. Нынче если изображают в литературе семью, то обязательно в отрицательном смысле. А мне бы так хотелось прочесть о доброй, крепкой, дружной семье. Я, может быть, старомодна в своих понятиях, но мне кажется, что человек, выросший вне полноценной семьи, пусть он даже в какой-то момент оказался героем, – несчастливый человек, обделенный... А значит – бескрылый. Вот я прочла недавно Булгакова «Белую гвардию» – как он там проникновенно пишет о матери: «светлая королева»... Дом, семья для него – средоточие всего самого высокого и святого...
И опять Сарычев смотрел на свою жену с улыбкой взрослого человека, которому надо ответить на ребячий вопрос.
– Горький написал о босяках, – говорил он‚– вот теперь все и шпарят за ним вслед, чтобы не опростоволоситься. Он же основоположник.
– Ты обязательно, Женя, прочти Булгакова, – говорила Ирина Федоровна.
– Да надо, надо, ужо вот поедем в отпуск в Залучье, там длинные вечера... – обещался Сарычев.
Краснолицые, в полушубках, валенках, ватниках, сапогах, заявились в дом к Сарычевым селяне, приятели Жени, механики, шоферы. Пили водку и говорили о зайцах, язях, глухарях. Заезжие люди стеснялись Ирины Федоровны. Она приносила на стол угощенье, присаживалась ненадолго и удалялась. Но оставался Виталька и жадно слушал, ему наливали, и он выпивал... И тоже рассказывал что-то: «...Я вижу, белеет в елках, я – бах!» Наутро Ирина Федоровна пеняла мужу:
– Почему ты не отправил Виталия спать? И чего вы так все матюкаетесь? Неужели вам не хватает нормального языка?
– Такая, наверно, потребность у русского человека – завернуть словцо поядреней, – улыбался Евгений. – Пускай привыкает Виталька. Он этого все равно не минует. Вон вымахал здоровенный бугай...
Ирина Федоровна вздыхала, печалилась, но не спорила с мужем. Она знала всю меру твердости его понятий о жизни. С годами муж отдалялся от нее, уходил, и Виталий тянулся вслед за отцом. Эта охота и эта рыбалка, и механизмы, и мотоцикл – Виталий с отцом становились как будто погодки-дружки, что-то было у них свое, отдельное от матери и непонятное ей. Она хотела, старалась влиять на мужчин, на мужа и сына, привить им интеллигентность. Но это было не нужно им.
– Ну что ж, – говорила себе Ирина Федоровна, – пусть так. Пусть я не смогла. Пусть взяло верх сарычевское мужицкое начало. Пусть им не хватает душевной тонкости. Зато они – честные, чистые и морально стойкие люди. Это важнее всего.
Опять, как в сорок четвертом и сорок пятом году, она сидела по вечерам с ногами на кушетке, смотрела на огонь, читала уже не отцовские, новые книжки. Виталька где-то слонялся с гитарой. Евгений жил непонятной, далекой ей жизнью, в болоте, на речке Кундорожи. Ирина Федоровна ставила градусник, он показывал тридцать семь и четыре. Промозглая, скверная, как петербургский климат, чахоточная температура... Ирина Федоровна пила горький хлористый кальций. И горько было во рту от слез.
Она лежала в туберкулезной больнице на Поклонной горе. Неподалеку урчал, исступленно ревел мототрек. Ей снились ночами бомбежки. Рычали «юнкерсы» в небе. Железный, жестокий, безудержный вой... Она просила врачей поскорей ее отпустить. Ей хотелось укрыться в ее тишину... Врачи пожимали плечами: «Конечно, бывает шумно. Но что поделаешь – город. Проведем курс лечения, и поезжайте к мужу в деревню, живите себе на здоровье в тиши...»
Муж привозил ей в больницу сдобную кравную рыбу. Она угощала соседок в палате, все жмурились, чмокали: «Тает во рту... Вкуснота!»
...Когда Евгений Сарычев возвратился с Кундорожи в город, была зима. Лицо его заострилось и потвердело, нос торчал петушиным клювом, залысины поднялись надо лбом, на маковке топырились белые мягкие пряди. Он говорил о своей обиде, о собаке Шмеле. Он постарел на болоте.
– Женя, милый, – возражала ему Ирина Федоровна, – я понимаю, тебе тяжело. Убить собаку – это варварство... Да потом еще и травить человека... Но я рада, что это случилось с тобой. Ты прости уж мне мой эгоизм. Я устала одна без тебя. Я невозможно устала. Я так не могу. И ты нужен Витальке... И потом, дорогой мой Евгений Васильевич, ведь ты сам себе выбрал такую участь – чего же ты хочешь?.. Пусть это утка, какой-нибудь там, я не знаю, енот или лось, – но ведь тоже живые твари. Им хочется жить ничуть не меньше, чем этой твоей собаке. А ты подрядился их уничтожать. Всякий егерь – убийца. Да к тому же и пособник убийства. Почему ты наделяешь свою собаку особым правом на жизнь? Чем она лучше какого-нибудь енота?.. Одно убийство влечет за собой другое, и этому нет конца... Конечно, Блынский – подлец, но ты же его сотрудник, товарищ по профессии...
– Ну, мама, ты уже загибаешь, – баском говорил Виталька. – Охота на дичь – это спорт, а собака – другое дело.
Сарычев улыбался, как взрослый на детские речи. Но что-то появилось в нем жалкое, недоуменное. Он напруживал скулы, приглаживал волосы, щурился и моргал.
– Это уже толстовство... – говорил он жене. – Ты позволяешь себе кушать куриный бульон, а курице тоже ведь жить охота. Шмель мне приятель был, может, еще надежней человека.
– Как бы там ни было, – говорила Ирина Федоровна, – ты опять вместе с нами – и в этом есть высшая справедливость. Правда, Виталька?
– А он все равно убежит, – говорил Виталька. – Там лучше в тысячу раз, чем тут. Я сам бы туда убежал...
Работал Сарычев в зиму стропалем на железной дороге. Он затемно уходил из дому и затемно возвращался, промерзший, в замызганном ватнике, в шапке с подвязанными ушами и с каплей под носом. С ним вместе приходили грузчики и кондуктора. Пили водку и говорили о паровозах, контейнерах, кранах и автокарах. Ирина Федоровна подавала закуску и уходила к себе на кушетку.
Когда компания разбредалась, муж говорил ей, что если не выпить с кондукторами, то не разыщешь нужный контейнер... Контейнеров – тыщи...
– У Чехова сказано в одном месте, – говорила Ирина Федоровна, – что водка чернит репутацию и красит нос. Ты погляди, у тебя нос совсем стал пунцовым...
Сарычев разводил руками, просительно улыбался, как виноватый мальчик на материнский урок. Наутро, затемно, он отправлялся через весь непомерно обширный город – к себе на товарную станцию.
Когда весною пришла бумага из Главохоты, Сарычев сказал жене:
– Я поеду, Ирина. Здесь мне невозможно – ты видишь сама. Полдня я гружу контейнеры, да еще полдня уходит на тряску в трамваях. Вот и все. Вроде мы вместе живем, а посчитай, сколько мы пробыли вместе... Как будто еще дальше разъехались. Так у нас не получится ничего. Давай-ка решайся – и едем вместе на Кундорожь...
– Да, да, поезжай, – сказала Ирина Федоровна. – Я тебя понимаю. Тебе лучше – там. Вот мы отправим наших заводских ребятишек в пионерские лагеря, и я приеду к тебе. Я ведь, ты знаешь, всю жизнь председатель лагерной комиссии. Так что дай бог к середине июня я соберусь...
– А раньше у нас и нечего делать, – сказал Сарычев. – У нас бывает – и в мае снег упадет.
Победитель
Снова суд, снова: «Сарычев Евгений Васильевич – истец. Ответчик – Алехин. Суд решил: Сарычева в должности егеря восстановить и выплатить ему компенсацию за вынужденный прогул из бюджета охотхозяйства».
...В Гумборице Сарычев получил компенсацию, взял в магазине хлеба, масла, сахару, чаю, бутылку водки и колбасы. Он дожидался на пирсе попутной лодки. Котомка его была легка. И на душе он чувствовал легкость. Ни теплая печка, ни пес, ни голодный кролик не ждали его на Кундорожи. Уезжая, Сарычев подарил своих кроликов начальнику Гумборицкой милиции Сподобаеву. Тот как раз в ту пору женился и начал строительство дома окнами на канал.
Пяльинских лодок не видно было у причала, но Сарычев не спешил. Он стоял, опершись о перила, поглядывал по сторонам. Все было то же в Гумборице, что год назад: сипели буксиры в затоне, стучали весла на переправе, и мужики заворачивали на пирс, пожимали егерю руку. Сарычев не был тут зиму, но будто он постарел, помудрел, будто отбыл долгие годы изгнанья; неторопкая деревянная здешняя жизнь являлась ему, как детство.
«Ну что же, Евгений Васильевич, – говорил себе Сарычев, – пригодилось тебе твое высшее юридическое образование. Представилась наконец возможность повыступать в судах. И обвинителем был и сам себе адвокатом. Год жизни... Можно целый роман написать...»
Он думал, что нынче не будет возиться с большим огородом – зачем? Что станется завтра? Посадит мешок картошки – и ладно...
Он постоял за себя, победил, но начальник охотинспекции Рогаль после суда у себя в кабинете сказал ему:
– Смотри, Сарычев! Мы тебя трогать не будем, но предупреждаем, не подымай газетной шумихи вокруг своей личности. Не мешай нам работать.
Сарычев улыбнулся тогда на эти слова начальника. Он устал от судов. Он улыбнулся начальнику мягко и виновато, словно пообещал, что больше не будет. Он одержал победу над Рогалем, теперь предстояла жизнь, такая, как до победы...
Сарычев прохаживался по пирсу, раскланивался и шутил с мужиками. Он думал, что скоро приедет к нему жена. Иначе бы он не вернулся. Она приедет в июне, с первым теплом.
«Она задохнется в городе, – говорил себе Сарычев, – а здесь будем брать у Птахина молоко, здесь она оживет, отдышится... В одиночку мне больше нельзя...»
К пирсу подчалил Володя Ладьин, издалека уже рассиялся, тиснул Сарычеву руку своей заскорузлой пястью. Побежал в магазин и быстро управился там. Сели в лодку, побежали навстречу низкие берега, серые избы без палисадников, низкие белые северные облака. Пахнуло пресной, стоялой, большой водой, мазутом, рыбой и древесиной. Избы скоро отстали.
Сарычев достал из котомки бутылку, поставил ее на лодочную банку.
– Давай, Володя, выпьем за возвращение. Не так-то просто мне было сюда возвратиться. Большого я дал кругаля...
– За возвращение стоит, – сказал Володя. – Помыкался ты. А все же свое доказал. Что значит образование... У нас доведись с кем такое, любой бы отступился, хотя бы и сознавал, что прав.
– Ну, давай.
Они сели рядом и выпили. Стучал мотор Л-3, вез их каналом. В обгрызенных глинистых берегах чернели лазы ласточкиных поселений. Уже стрекотали над ними сороки, готовясь к разбою. Роились скворцы.
Пока допили бутылку, открылась и Кундорожь. Повернули в нее. Причалили лодку к бону и попрощались. Володя уплыл, а Сарычев поднялся по лестнице к базе. Первое, что увидел: упала ограда. Ее повалило ветром. Упали шесты со скворечнями, их крепили к ограде. Поздно было теперь подымать. Скворцы нанизались гирляндой на проводах.
Вдруг селезень налетел, низко, низко кружил. Егерь покликал: «Сенька, Сенька!» И селезень сел на крышу сарая, как голубь, и крякал. Сарычев достал из котомки хлеба и накрошил. Селезень опустился на землю, все подобрал...
Сарычев вставил ключ в заржавевший замок, повернул и вошел. В доме холодно было и затхло. Он отворил окошки, нашел под плитой две чурки, нащепал лучины, завел огонь. Сел к столу и вынул транзистор, но не включил. Дневник егеря так и лежал, как был им оставлен в день отъезда. Лежала и книга: Генри Торо «Уолден, или жизнь в лесу».
Сарычев полистал дневник, прочитал последнюю запись: «23 октября. Утром ходил в губу. Намерзли забереги. Летит махровая чернеть и сауки. К полудню разогрело солнцем, ледок подтаял. Прощался с губой. Вчера получил выписку из приказа о моем увольнении. Желаю удачи тому, кто заступит на это место после меня. Здесь можно охотиться и рыбачить. Можно жить. Только не надо верить здешней тишине. Капканы на ондатру мною оставлены на чердаке. Картошка есть еще в погребе. Воду из дебаркадера нужно выкачивать ежедневно, по часу, до ледостава. Иначе он может затонуть.
Бывший егерь Е. Сарычев».
«..Ну что же, Евгений Васильевич, – сказал он себе, – надо исполнять наказ бывшего егеря».
Вышел, спустился на дебаркадер. Стал к помпе. Качнул. Заскрипело, зачавкало, застонало. Большая крыса сбежала по сходне на берег и скрылась в кустах. Егерь качал, налегал. Вода выхлестывалась из чрева плавучего дома и падала в Кундорожь. Работа согревала его, успокаивала, исчезло несносное чувство легкости. «Будем жить, – говорил себе егерь. – Приедет жена – будем жить. Будем жить».
Вырубка
По реке Вяльниге можно плыть на белом маленьком пароходе. Впрочем, какой пароход? Ни пару в нем, ни котла, ни трубы, ни дыму. По Вяльниге ходит речной трамвай. Но трамвай здесь не к месту. Место здешнее, если плыть вниз по реке, низко, болотисто, берега вровень с водой, избы в селах высоко подняты над землей, чтоб не достала вода; ни леса тут, ни прохожего на дороге, да и дорогу не сыщешь: хляби. Пусто, ровно, чайки летят, чибисы жалуются, играют на флейтах кроншнепы. Для чего здесь трамвай, хотя бы даже речной? Трамвай – для толпы, для сутолоки, для Москвы-реки, для Невы, для Средней и Малой Невки.
Плыву по Вяльниге. Чего тут много, так это неба. Когда идешь, то его и не видишь: надо глядеть под ноги, куда ступить. Когда плывешь на палубе парохода, погружаешься в небо. То есть не погружаешься, а возносишься. Никакого груза в тебе, одна легкость, невесомость. Небо начинается у самой земли. Только церковь торчит над деревней Кондрашкино. Головка ее похилилась набок, словно в бабьей горести.
Пароходик потрется бортом о деревянную стенку в Кондрашкине, потом в Рыбине. В Гумборице его надолго привяжут к причалу канатом.
Из Гумборицы в Пялье иду пешком – берегом канала, кромкой берега. Канал прорыли округ озера более ста лет назад. Скорость судов-пароходов утроилась за столетие или учетверилась. Волна от гребного винта бьет в берега, берега обламываются, падают в воду. Натопчут тропу, через год приезжаешь – и нету ее. Предвижу то время, когда размоет земляные валы вдоль канала, уровень воды сравняется с уровнем болотистого луга, канала не станет. Может быть, впрочем, канал углубят. Возле Гумборицы уже хлюпает землечерпалка...
Берегом можно дойти до речки Кундорожи. Тут надо свистнуть, крикнуть – на лодке приедет егерь Сарычев, перевезет к себе, на охотничью базу.
Владения Сарычева – губа: утиное государство, камышовая чаща, плавни. Весною он охраняет губу от выстрела, осенью принимает стрелков, выводит их на линию огня.
– За губой есть глухариный ток, – говорит егерь. – В прошлом году я был вечером, слушал прилет. Три глухаря – сам слышал, как сели. Если зимой сплавная контора ток не вырубила, значит, порядок. Выстрелов не было там, я бы слышал. Сам я вообще не охочусь, моя должность диспетчерская. Я тебя свезу, а там посмотрим, какой ты охотник. Глухариная охота – царская, экстракласс...
– Неужто подняли руку на ток? Какая в этом нужда-то? Лесники знают тока, отводили лесосеку, могли бы сказать... Тока существуют веками. Зачем их рубить? Из-за двух десятков деревьев рушить целое глухариное государство...
– Да ну, чего захотел... Им-то жалко, что ли...
Мы еще поговорили немножко с егерем, перекусили, сошли к губе, сели в лодку – я на весла, егерь в корму. Упираюсь веслами в воду и ощущаю инертность, упрямую волю воды к покою. Поднимаю лицо к небу и нахожу в нем тренькающего, лепечущего жаворонка.
– Ну-ка, правым давай, – командует егерь. – Вот же сукины дети, сеть поставили...
Сети ставить в губе нельзя. Тут нерестилище, рыбий заказник, вольные воды. Егерь вынимает браконьерскую сеть, в ней запутались щучки, язи, налимы, плотицы, судак расщеперил колючий плавник... Егерь кидает сеть комьями в лодку. Его загорелое, светлоглавое, безмятежное лицо меняется, лицо искажает азарт, движения становятся порывисты, мелки, поспешны. Хоть и законное дело – конфисковать браконьерскую сеть, а все же... Добро-то чужое...
Я смеюсь:
– Что, Евгений Васильевич, награбленное грабь – так, что ли?
Смеюсь-то я смеюсь, а не до смеха: сеть дорогая. Может статься, ее хозяин сейчас затаился в прошлогодней тресте, взял нас на мушку.
– Да я знаю их всех тут как облупленных, – успокаивает меня Евгений Васильевич. – Сами как миленькие явятся за сетью.
– Ну и что же, отдашь?
– Отдам. Помурыжу немножко... Пускай почувствуют. Им нельзя показать слабину. Пяльинские мужички ушлые. Знают, где сетку бросить. Они вообще губу считают своим огородом. Мне угрожали не раз. С ними нужно характер показывать... А то они сядут верхом на тебя. Ты же и виноватый окажешься.
Переплыли губу, подтянули голенища сапог, побрели, как лоси, по брюхо в воде. Сеть с рыбой егерь спрятал в кусты. Он наказал браконьеров, но в том, как прятал рыбу, взятую без труда, тоже виделась мне браконьерская хватка. Да и вообще охота, рыбная ловля – разбой, вторжение в пределы суверенных, мирных, птичьих, рыбьих владений...
Из болота мы выбрались на свежую вырубку. Лес весь свели, только кое-где торчали неразвившиеся деревья, болотные сосенки-подростки.
– Срубили ток, сукины дети, – сказал Сарычев. – Вообще-то я бы запретил охоту на глухарей: все же глухарь – царь птиц, самый древний житель лесов, реликтовое явление. И тебя бы на ток не повел...
На песчаном пригорке мы обустроили ночлег, нарубили еловых лап для пышных постелей, наготовили дров. Пошли на подслух, то есть в такое место, где можно послушать вечерний прилет глухарей. Впрочем, без надежды услышать. Чего прилетать-то на голое место? Но что-то такое послышалось мне. Егерь сказал, воротясь:
– Один вроде сел, хлопал крыльями...
На самом краешке ночи, в канун рассвета, на вырубке будто послышалась глухариная песня. Пропала. Всю зорю мы шлялись по вырубке зря. Сойдясь у нашего бивуака, разживили костер, спекли картошки. Егерь Сарычев стал собираться... Я сказал, что останусь еще на сутки. Что-то тут все-таки есть...
– Ну смотри, – сказал егерь. – У меня база брошена, собаки не кормлены. И приехать за тобой едва ли выберусь. Придется тебе пёхом идти. Пойдешь – держись берегом озера. Иначе в болоте утонешь. До Бережно дойдешь – там есть дорога на Пялье. Но учти, это километров, наверное, сорок...
– Дойду. Не впервой.
– Дойдешь, конечно. Ноги длинные. Я-то бы ни за что не пошел, даже за большие деньги. Ты в городе засиделся. Тебе полезно.
Сарычев высыпал из котомки десяток картошин. Хлеба у нас не осталось, соль вышла вся, чай мы выдули ночью. И курева не осталось.
Когда егерь ушел и стихло чавканье его сапог по болоту, я сел на валежину, принялся смотреть вокруг, слушать...
Когда-то, лет двадцать пять назад, насыпали вал вдоль берега озера, тут выросли елки, березы – над болотом возникла грива. Сквозь гриву виднеется озеро, над ним другого цвета небо, другие птицы, ветер, распахнутый горизонт, русая солома тресты, лилово-синий дым, тухтенье моторов. Утки резвятся в тресте, любятся, крячут, гоняются друг за дружкой. Они не боятся меня.
Сивые камыши, и озеро гудит, как завод. Проплывают над камышами белые рубки лихтеров...
Налетел, сел на сосну орлан белохвостый, огласил лес и озеро клокотаньем. Горло зычное у него – орланье.
Я сижу, но как будто плыву, дремлю, как серая крачка на крыше ондатровой хаты, растворяюсь в лилово-синем дыму, в устойчивом жаре солнца. Время утратило протяженность, мир – материальность; не стало леса, берез и елей, только волны колышат меня…
Вечером глухари прилетают на токовище точно в назначенный кем-то час – в двадцать один ноль-ноль. К этому часу я прибыл на вырубку, на бывшее токовище, прислонился спиной к корявой болотной сосенке – ей никак не вырасти из своей отроческой тонкомерности. Весь лес на болоте – подростки. Я ждал, поглядывал на часы. Чем ближе подвигалась стрелка к урочному часу, тем больше я верил в непременность прилета. Я прожил сутки в лесу, что-то понял, услышал какие-то вести. Глухарь уже вылетел, подавал мне сигналы. Он сядет вон там, на суку...
Он прилетел низом, шумно хлопая крыльями, в девять часов три минуты, сел, квыкнул, щелкнул клювом, поперхнулся, в тревоге присел на суку, готовый взлететь...
Вечер был ясный, а в ночь разыгрался буран. Снег густо ложился и таял, к утру превратился в ливень. Пока я дошел берегом озера до охотничьей базы, чувство вины в убийстве реликтовой царственной птицы вымерзло, вымокло, стекло с меня струями снежной воды.
Вот так же и лесорубы: пришли на делянку по стуже, утаптывали снег округ каждого дерева; зубья моторных пил остервенело грызли мерзлую древесину; обрубщики сучьев махали топорами до седьмого пота. Рычал трелевочный трактор, торил колеи по зимнику лесовоз. И высоко вздымалось пламя большого кострища, сложенного из хвойных лап. И если нашелся среди лесорубов радетель леса, с печалью глядевший на гибель сосновой куртины – исконного токовища, то печаль его растворилась в жаркой работе, вымерзла в дальнем пути с делянки домой.
Егерь Сарычев повесил моего глухаря на гвоздь в сенях, сказал:
– Вот же насколько сильный у птицы инстинкт. Ток вырубили, а все равно тянет... И ничего не попишешь.








