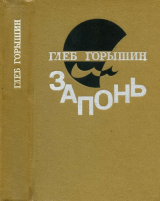
Текст книги "Запонь"
Автор книги: Глеб Горышин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)
Лепяга
Я не знаю, что такое лепяга. Беру словарь Даля, читаю: «ЛЕПИТЬ. Ласточка лепит гнездо, пчелка соты. ЛЕПЫЙ. Вражье-то лепко, а божье-то крепко».
«Лепяги» нет в словаре. Я думаю, что это болотце, жидкое озерцо, запрудная лужа. Я услышал «лепягу» в юные годы, а вот не могу позабыть. Тогда, по юности, держался бывалым, несуетным человеком, не переспрашивал ни о чем.
Помню, отыскал в деревне Выселки тамошнего председателя сельсовета, охотника, спросил его без надежды, с нахальством отчаяния:
– Так где у вас тут глухари-то токуют?
Председатель, хмуроватый мужик, сел на бревна, послюнил цигарку слева направо, будто по губной гармошке прошелся. И справа налево. Затянулся, посмотрел внимательно на завертку и еще затянулся.
– Вот пойдешь, – сказал, – этой дорогой, край елани дойдешь, а там на правую руку бери. Увидишь – у машин езжено. Ну, что там? Верст пятнадцать есть. Сначала лежневкой пойдешь. Лес возили. А потом колеей дуй. Машины-то до Царских мхов ходили, а теперь, значит, нужно соображать. Да. Как будешь идти, сторожи на левой руке лепягу. Сравнялся с лепягой – тут тебе и свертка. Да. Ну что там? Шагов, может, двести, а то и тех нет до токовища. Там уж решай по ходу дела. Ты песню-то знаешь?
– Не знал бы, чего на ток ходить?
– Да... Там должны мошники петь. Туда мы нонче не ходили. Разве что к Рябушихе зять приехал, заостровский мужик. Ну, мы бы знали. Не должно.
Председатель сельсовета ушел с бревен, а я остался сидеть. Не спросил, что такое лепяга. Он охотник, я охотник – равные люди. Поровну должны знать.
Мне уже было время идти. Но я все не шел. Уходился. Двое суток месил глину да галечник, мох да сыпкие к полдню, гремучие ночью снежники по низинам.
Не повезло мне в ту весну. Забрался в дальнюю даль, а друга-охотника не застал. Он подался на праздники в лес. Дожидаться? Так ведь и у меня только праздник – свободное время.
Праздник. На дороге тихо. Жена моего друга, добрая женщина, посмотрела на меня так жалостно и горестно, когда я пошел один.
– Ну, куда вы пойдете? – сказала. – Коля думал, вы второго к нам. А вы тридцатого, так он бы, конечно, дождался. Он про вас вспоминал. Подождите его. Он, может, к завтрему вернется.
Мой друг Коля знал все токовища в округе. Я знал только один – за Выселками. Спидометр на Колином мотоцикле когда-то отсчитал до Выселок сорок два километра. Это от станции столько. Да еще от города до станции двести шестьдесят. От Выселок до тока – четыре.
А что было делать? Я пошел большаком. Гуси перелетывали дорогу. Они тянулись низко, словно знали, что праздник и люди спят после вчерашнего вечера. Гуси перестраивались на лету, и воздух шелестел в крыльях. Будто велосипедисты в большой гонке неслись по небесной шоссейке. Солнце было ниже гусиного лёта, освещенные подкрылья казались белыми. Я не стрелял по гусям, не поспевал, да и не хотелось мне стрелять.
Умытые прозябшие веточки на ближних березах казались черными. Капли на них светлели. В дальнем лесу росли те же деревья, что и подле дороги, но виделся этот лес другим – желтым. Чуть желтеньким. Такого цвета клейкая испарина у новорожденного тополевого листа. Да какой тут тополь? Береза, елка, ольха, осинка кругом. Вот они – зимние еще, только умылись. А вдалеке – уже видно – живут, соком набухли, листья готовы прянуть. Весна.
Первое мая.
Кто не ездил на праздники в лес?
Знаете, что на заре каждое озеро как большой алый флаг? Каждая лужица на дороге – флажок.
Слышали, как фиалка расталкивает старые листья: хватит меня пригревать!
Праздник!
Знаете, что такое лепяга?
Я тоже не знаю.
У меня есть жена. Она меня будет ждать все праздники напролет. Месяц, как я женился, но уже начал думать, что это слишком легко и, значит, несправедливо: целовать жену утром, в полдень, в потемках, садиться за стол и хлебать сваренный женой суп. Я ничего не говорил ей об этом, целовал, но про себя-то думал: «Нужно идти к ней трудными путями, по пояс в снегу. Нужно ее заслужить».
Снег уже почти весь сошел.
С большака свернул на проселок. В мешке сто патронов, все запыжены, закручены, калибровкой оглажены. В каждом тридцать граммов дроби, бездымного пороху «Сокол» – один и семь десятых. Капсюля – жевело. Топорик новенький куплен, двести граммов ветчинной колбасы, три пачки горохового концентрата, ну и еще кое-что по мелочи.
На тридцатом или на тридцать втором километре я первый раз подумал, что тридцать граммов дроби, помноженные на сто, – это все же вес.
К вечеру пришел в Выселки. Председатель сельсовета сразу же попался мне на улице, но я его тогда не спросил ни о чем, потому что знал, куда идти. До тока добраться. Тихо зажечь костер и ждать. «Только б дойти, только б дойти», – говорил я себе.
Наверное, странно было видеть председателю: идет парень по деревне, по ровной улице, а будто в гору, сапоги резиновые волочит, большие сапожные проушины колышатся на ходу, шею выпростал из ватника, ремешок ружейный стиснул в кулаке, лицом страдальчески хмур.
«Только б дойти».
Сорок два километра до Выселок. До тока еще четыре. Ток мне известный. В прошлом году меня Коля сводил.
Дошел.
Костер получился жидкий: во тьме как сыщешь дров? И шуметь нельзя.
В ночь ударил мороз. В три часа я уже крался вдоль гривы.
Был скрючен холодом, несчастен, шатался, руки норовил поглубже погрузить в рукава.
Ночной ледок треснул под сапогом. И сразу шумнул крыльями по ветвям глухарь. Слетел. Все кончилось этим. Только сны на меня наплывали и толк в спину... И холод. И глухарки лопотали. Хоркал вальдшнеп. Тетерева гомонили кругом. Журавли... Я бродил по гриве и уже позабыл, для чего.
Потом ударило солнце, и я немного поспал. Суп гороховый не распечатал: не время. С полдня опять пустился слушать токовище. До сумерек ждал прилета. Ни один глухарь не повестил о себе шумом посадки. Бросовый ток. Распугали. Еще одну зорю терять? Но ведь завтра третье мая. Четвертого мне на работу. Я побранился немного вслух и быстро зашагал в Выселки – председателя искать. Он-то знает тока: охотник. Мне Коля сказал про него. Только откроет ли? «Другого выхода нет, – говорил я себе, – другого выхода нет».
Председатель открыл мне, сказал про лепягу.
...Я прошел километров пятнадцать лежневкой. Потом колеей. Тут ходили машины. На скатах цепи. В предельном усилии зудели моторы. Но у меня-то ведь нету цепей. Да что там машины. Я думал о моей любимой девушке. Нет. О жене. Очень рано я женился. Ну и что же? Я думал, что я не могу вернуться из этого леса, прийти к моей девушке, к моей жене... Это все равно. Я только месяц как женился. Мне нужно в снегу, по пояс. Я не могу вернуться без глухаря.
Колеи были пропаханы в метр глубиной. Снега нет. Хлябь по колено. Что такое лепяга? Ничего. Ничего. Ничего. Все равно я его убью. Кого?
Так шел и скрипел зубами. Ночной человек. Подвижник. Не снег, так хлябь. Это еще труднее.
Скрипел, скрипел зубами и в грязь упал – раз упал, два упал. Хватит, невмоготу такая охота. Свернул на левую руку возле первой воды. Может, это лепяга? Вода была густо-черной, чернее, чем ночь. Маслянисто мерцала. Как раз и просека открылась. Просвет.
Свернул.
Болотом почавкал, и сразу вжикнул под ногой снег. Чешуйчатая, крупного зерна снежная горбушка. Будто и не было никаких фиалок. И солнца вчерашнего, первомайского, тут знать не знали.
Сел на валежину, подумал о ветчинной колбасе, но вяло. Не стал мешок развязывать. «...Двести-то шагов есть от повертки? А... Хватит». Пошла, пошла снежная горбушка вправо, а просечный просвет навстречу ей, а сосны, а сосны – кругами пошли... Сон тюкнул в темя. И все.
Вдруг– холод. Ноги еще не успели остыть. Руки не нужно спасать в рукавах – а холод. Морозом стукнуло, кожу на затылке свело. И позвоночник смерзся, закостенел. Не понять, что случилось. Сна ни в одном глазу. Страшно.
Слух сработал потом, не сразу: кррах – пррум – хррыщ. Кто-то идет и хозяйски ломает лес, лед, тишь, тьму. Кто-то большой. Кто? Где я? Почему тут зима? Ведь весна. Первое мая.
Медведь? А если человек? Да, да, человек. А может быть, лось? Волки так не ходят. А вдруг человек? Да нет...
Я не знал, кого мне бояться – медведя или ночного человека.
Тяжелый шаг по лесу вдруг прекратился. И стало еще страшнее. Значит, меня заметил. Зверь? Человек? Что он там замышляет?
Вдруг: тюп-тюп-тюп по насту. Бежит! Сюда! Зверь! Волк! А может быть, заяц? Теперь все равно. Бах! Бах! Оба ствола разрядил. Прямо во тьму, в лес, в неведомо что, в ночного врага. Третьим номером, дробью. Затопал. Нашуметь бы побольше. Огня! Сучья ломал. Бересту... Вычиркивал по три спички зараз.
Костер разгорелся, потрещал, отогрел меня. И тут же его загасило дождем. Дождь возник прямо посреди недвижной и тихой ночи. Он плотно, мягко опустился, снег и пламя зашипели одинаково, костер погас, а снег еще долго звучал, и стало непонятно, где шаги зверя, а где этот текучий шелест таяния. Я стрелял вправо, влево, вперед и назад. Я вопил: «Эге-е-ей! Эге-е-ей! А ну-ка, ну дава-а-ай!»
К трем часам я перестал вопить и стрелять. Сказал себе слабым голосом: «Ну вот. Пора идти. Я не могу приехать без глухаря». Я попытался подумать о жене. Поскрипел зубами. Но стронуться с места и вступить в большой лес не смог. Стоял еще долго. Наконец пошел. Изо всех сил топал по насту. Упреждал о себе.
Наконец остановился и затих. Лес еще спал. Далеко, далеко пел глухарь: тэк-тэк, тэк-тэк, тр-р-р-фш-ш-ш, тэк-тэк... Будто детскую трещотку кто покручивает, Далеко-далеко. Сердце кверху, кверху пошло. Уф-ф. Задохнулся. Жарко. Глухарь поет. Глухарик.
Леса не стало. Снег сошел. Тьму в клочья порвало. Страх... Какой еще страх? Глухарь поет.
Он прищелкнет костяным клювом, слушает, я стою. Он шипит, трясется в истоме, не чует меня – я скачу. По снегу. В трясину. По клюквенному болоту. От сосны к сосне. Петляю. Ружьишко в руках...
Он пел в реденьком болотном сосняке. Их много там пело. Глухарки квохтали. Может, уже загодя о птенцах помышляли. Внизу, на кочках, шла драка. Любовь.
Вместе со мной из леса вышел волк. Он пересек открытое болото, понуро, рысцой, мордой в мох. Трусил, и было видно, лапы вязнут.
Я поглядел на волка. Но он был мне сейчас не нужен, не интересен. Я сразу же и забыл про него. Я видел, слушал, вбирал в себя напряженье и счастье весеннего игрища птиц. Волк нашумел на болоте. Глухари замолчали и разлетелись.
Весь день я ни разу не подумал, какое сегодня число. Концентрат не варил. Колбасу не тронул. Не до того было. Думал только короткими фразами: «Все равно. Ладно. День пропущу. Мне положен отгул. Пусть. Убью. Не уеду, пока не убью. Должен. Надо».
Нагибался за брусникой, но не чувствовал ее вкуса. Нужно было скорее прожить этот день и продолжить охоту, с того места начать, где она прервалась.
Я ходил по мшарам, а когда возвращался, видел вдоль больших, темных, уже затекших водой лунок от моих сапог еще другие, маленькие, мелкие лунки: волк провожал меня по лесу. Днем это было неважно.
«Логово тут, наверно, – думал я. – Волчица ходит за мной, стережет. Надо в Выселках председателю сказать. У меня ни картечи, ни пули...»
Очень длинный вышел день. «Н-нет, – говорил я себе. – Ну, н-нет». И скрипел зубами. И рубил новым некрепким топориком палую, голую, закостеневшую осину. Знаете, как полыхает сухая осина? Знаете, что такое костер?
За полночь, в три часа, я уже стоял посреди токовища. С вечера слышал, где какой глухарь сделал посадку. Скоро все они начали щелкать. Я быстренько подошел к ближайшему. Прицелился в дрожащую кляксу посреди сосновых веток. Выстрелил. Клякса пуще забилась. Не упал глухарь. Полетел. Значит, промазал. И все. Не стало тока. И не будет. И ночевать больше нельзя. Зря сорок два километра до Выселок... Целый день шел... Двести шестьдесят до станции – тоже зря. И пятнадцать по лежневке... Еще по колее сколько... Волка не испугался! Все зря. Не могу.
«Не могу», – сказал я себе. И почувствовал ужас. Мне было двадцать два года. Но я не мог убить глухаря. Другие могли. Я стрелял. Но я не могу. «М-м-м-м. Ну что же, – говорил я, – ну зачем? Ну как? Надо все бросить. Все к черту! Не могу. М-м-м».
«Брошу, – сказал я. – Бросовый человек. Не дано. – Я не знал еще, что я брошу. Но в этих словах уже чудилось облегчение. – Брошу! Брошу, – твердил я, – все к черту брошу. Надо все начинать сначала. Жене скажу: «Прости. Не могу». И все. Уеду. К чертовой матери. На целину. Все сначала. Да».
Глухарь вдруг всполошил бледнеющее небо и сел близко. Сразу, не тратя время на осторожность, запел.
Я его убил. Вздрогнула планета от падения птицы. Я поцеловал петуха в маленькую костяную головку. «Где же тебе, – сказал, – против меня».
Пошел не торопясь по болоту. На опушке еще один пел. Небо уже стало синее. Солнце. Я убил и этого тоже.
В каждом было килограммов по шесть. Патронов у меня осталось восемь десятков. Пару потратил на дело, другие по пустякам. Колбасу я достал из мешка, размахнулся и кинул: пусть волк хоть немножко поймет, с кем дело имел. Гороховый суп размял и оставил на кочке. Глухарки склюют. Самому-то мне одного хотелось – петь.
– Ну что ты, – сказал я всему лесу, – ну что ты тут стоишь?
Шел домой и песни пел, в основном, моей жене, Задыхался от пения, от своего могущества.
– Эх! – кричал я. – Эге-ге-ей! Эй вы-ы-ы! Как-нибудь проживе-е-ем! Э-э-э-э!
Председателю я сказал:
– Сходи там, от лепяги шагов сто пятьдесят, логово волчье.
– Ну? – сказал председатель. – Сто пятьдесят, говоришь?
– Может, сто семьдесят.
Веревки крест-накрест, за спиной два глухаря висели, клювами вместе, хвостища врозь.
– Нужно сходить, – сказал председатель. – А ты что, волчицу видел? А то, может, шатун?
– Волчицу.
На большаке меня догнал мотоцикл с коляской. Охотники ехали: Мизеров и Бородавкин. У них был один глухарь на двоих.
– Из Выселок, что ли? – спросили они меня как бы без интереса.
– Да нет. За лепягу сходил.
– За Вондегу, может быть? – переспросил Бородавкин.
– За лепягу.
– А-а-а.
Мизеров промолчал.
Друга Колю я опять не застал: теперь он в Заостровье поехал. Он шофер, всегда куда-нибудь едет.
Жена его сказала:
– Так ведь тяжело вам. Давайте я выпотрошу, ощиплю, уложим в мешок...
– Спасибо. Нет, нет, ничего.
В городе я газеты читал. О демонстрации и о параде. Я читал, а мимо моих глухарей шли горожане. Они говорили: «Ах! Кто это такие?» Так говорили женщины. Мужчины молчали. Они завидовали. Некоторые хвалили меня: «Молодец!» Я читал о параде на Красной площади, на Дворцовой площади. О демонстрации в городе Киеве. В городе Ашхабаде.
Дома я кинул птиц на пол и тяжко опустился на стул. Моя жена стояла передо мной. Ей еще не исполнилось двадцать два. А мне исполнилось. Она говорила:
– Тебя покормить? А может, сначала поспишь? Или в баню? У нас еще от праздников выпить осталось. «Кара-Чанах». Хочешь я тебе дам? Ой какие! – говорила она, глядя на птиц. – Ой! Лучше бы сам поскорее приезжал. Их нужно с брусникой приготовить. Да. Я читала.
Я все отворачивался от жены. Очень у нее была короткая ночная рубашка. Я все тянул время, еще хотел пожить в своих сапогах, со своими глухарями. Но уже чувствовал: недолго мне с ними осталось жить.
– Да вот, – сказал я, – пришлось сходить за лепягу.
– Ой, – сказала жена, – хоть приехал-то, снимай сапоги скорее.
Лебединая жизнь
Они пролетели над Азией и Европой, над такими людными городами, как Ереван, Мелитополь и Ярославль, но их почти никто не увидел. Они летели без кряка, без свиста крыльев, без гоготанья или курлыканья, вдвоем высоко над землей, в апрельское, зяблое время. Встающее солнце окрашивало им белые подкрылья.
Двое лебедей летели с теплой, сытной и безопасной зимовки в тростниковых плавнях под Ленкоранью на дальний, едва оттаявитий после зимы, весь зыбкий и водянистый Север.
Лебеди летели отдельно от быстрых, кружливых, нахлестанных охотницкой дробью утиных звеньев. Попутные караваны гусей догоняли их на небесной дороге – одной для всех перелетных птиц, – но лебеди подымались выше и растаивали в небе, как дымки от реактивных самолетов.
Они летели вдвоем на Север. Так было в прошлом году и позапрошлом. Они уставали зимой от напичканной пухом и перьями стадной жизни на южной воде. В небе было им хорошо, как на пустынном студеном озере. Они переговаривались на лету ласково, тихо. Никто не слышал их разговоров.
Иногда в них стреляли снизу. Лебеди продолжали плыть по воздуху друг подле друга, не убыстряли движения крыльев, их лапы были вытянуты, как рули, они правили точно на Север. Дробь обсыпала больших, безучастных к опасности птиц. Она не могла пробить вощеные крылья, а только ерошила пух на подкрылках и падала наземь.
...Над Ленинградом лебеди пролетели спокойно. Над Ладогой их ударило ветром. Уставшие, лебеди собрались ночевать. Но ладожский берег, и камышовые чаши, и свирское устье дохнули на них жженым порохом и обдали стрекотаньем моторных лодок и катеров. Лебеди снова медленно всплыли кверху, и можно стало расслышать их озабоченный разговор.
Охотники опускали ружья и любовались идущей над ними лебединой жизнью. Иные мечтали также о лебедином мясе, сладком на вкус, и о лебяжьем пухе – он мог пойти на подушки.
Лебеди еще пролетели над Свирью и камышами сколько могли, и опустились без шума на проблеснувшее водяное оконце, и замерли, насторожив шеи. Они чуть подгребали лапами и были словно плавучие кочки. Их маленькие головки чернели, как посаженные на длинные стебли бархотки камышей.
Полная гомона и суеты, вода затихла к ночи. Только просвистывали крыльями запоздалые стайки чирков, да блеял в темноте торопыга бекас, да слышно было, как трутся щуки в тресте боками – мечут икру, как баламутят воду хвостами, как рыщут возле тяжелых маток щурята-самцы.
Еще доносилось с песчаного кряжа фырчанье костра. Хрястал топор. Люди кидали в огонь сосновые лапы, и костер подымался, искрил и отблескивал в круглых, тревожных глазах лебедей.
Лебедушка тогда приплывала близко к лебедю и спрашивала его чуть слышно: «Крлю, крлю, ко?» Лебедь отвечал ей: «Гурлюк!»
Еще только-только рождался и глухо клокотал в лебяжьих шеях звук, как они уже понимали его значенье...
Но вдруг налетели гуси, скрипя тележными голосами, и опустились около лебедей, и заныряли, и залущили в клювах добытые корешки.
Лебедь спросил у лебедки: «Гурл?» Она ответила: «Ульк».
Они уплыли прочь от гусей, в камыши.
Там они выгибали шеи, и опрокидывались в воду, и запускали клювы в еще не растаявший донный ил. Наверху оставались лебяжьи хвосты и белели пуховые панталоны.
Поужинав корешками, они приласкались друг к дружке, уплыли в береговой кочкарник и чутко заснули.
...Им слышен был разговор людей у костра. Голоса доносились жестко, как будто ломали сучья. И лебедушка подымала шею и раскрывала свой грозный глазок. Лебедь чуть колыхался, чтобы ближе прижаться к подруге и сообщить ей свое бесстрашие. Он гурлыкал ей на ухо.
Лебеди проснулись, когда потянул первый ветер и поломался намерзший под утро ледок. Их разбудил тоненький звон ледышек, бившихся о камыши. Осколки прозрачного льда звенели, как самые верхние ноты в рояле, и тенькали выше известных в музыке нот.
Лебеди взлетели над туманом и протянули шеи на Север.
Север посыпал их снегом, и лебедь сказал: «Лурглу». И лебедушка тотчас ответила: «Клурк». Они подставляли снегу спины и крылья, ерошили перышки и опускали лапы, чтобы тише лететь и помыться в снегу. Они стосковались на южной зимовке по белой, холодной снежности. Их перья начали вянуть от теплых дождей. Им нужен был Север.
Чем дальше на Север летели лебеди, тем реже виднелся им внизу бегущий поезд или фабричный дым. Никто на земле не стрелял из ружей. Не попадались навстречу и самолеты. Зато озера раскрылись повсюду сколько хватало глаз.
Озера были синего цвета под чистым небом. Под низким солнцем озера плавились, как благородный металл. Озера белели под белыми облаками. Они были тусклы, свинцовы, когда на них наносило тучу.
Все небо и солнце словно разбились на тысячу разноцветных осколков. Осколки пали в озера. Озера зазывно рдели, как фонари на большом посадочном поле аэропорта. Лебеди снизились над озерами и загурлыкали без причины и без вопроса. Они долетели до лучшей на свете страны бессонного солнца.
Но они не садились на белые, синие, красные и золотые озера, а все летели, приветствуя Север коротким, гортанным кличем. Им нужно было озеро Алла-Ярви. Так называлось озеро у людей. Лебеди жили на нем три лета и подняли в воздух три выводка лебедят...
Как все другие озера, Алла-Ярви краснело под солнцем и потухало в ненастный день. В нем были песчаные мели, и черные водяные ямы, и камышовые чащи, и сосны вцепились корнями в его берега. Оно было не шире, не глубже и не богаче – такое, как все озера на Севере. Но лебеди прямо летели на Алла-Ярви.
Из миллиона озер их ждало Алла-Ярви. Одни шилохвостые чайки селились на этом озере и лопотали все лето, гонялись по воздуху, как стрекозы. Чужие лебеди все пролетали мимо: у каждой лебяжьей пары был найден и облюбован для жизни свой собственный дом-оконце на стылой равнине.
Лебеди сели рядом на озеро Алла-Ярви и долго плыли с разгона, от них разошлись по воде два длинных уса. Усы дотянулись до берега и там запутались в траве.
Лебеди остановились на середине озера. Им некуда было теперь улетать, уплывать. Начиналось их время пожить... «Клуф-клю», – сказала лебедушка. «Глир-гу», – ответил лебедь.
Они поныряли немного, потом оперлись хвостами о воду, привстали и помахали крыльями, чтобы просохнуть и отряхнуть застрявшую в перьях дорожную пыль. Над ними носились, и верещали, и навостряли в тонкое шильце хвосты развеселые чайки. И спелое солнце приблизилось к озеру, но не коснулось воды —насмотрелось на себя и прянуло кверху. На Севере летом не бывает ночей.
...Лебеди тихо плавали рядышком малыми кругами по озеру. Иногда они вольно трубили. Вода разносила их голоса, как радиола.
Но вдруг от берега оторвался еще один неизвестный лебедь и выплыл на чистое место. Его белоперую спину прилетевшие лебеди увидели сразу, как сели на озеро, но приняли за ошметок прибрежного льда. Одинокий лебедь далеко назад выгнул шею, плыл медленно и не прямо, был грустен и слаб – это заметили лебеди.
Лебедушка прижалась к своему лебедю плечом, и оба они по-змеячьи напружили шеи. Казалось, сейчас зашипят на лебедя-одиночку. Они прилетели за тысячи километров на Север, чтобы остаться вдвоем на единственном в мире, не знавшем чужого пера, их собственном озере Алла-Ярви. Они не умели еще приспособить свою любовь и семейную жизнь к постороннему оку...
Одинокий лебедь сказал им: «Лырг-ли»... Но они забили крыльями по воде и побежали, сердито крича.
Лебедь был ненавистен им, потому что нарушил закон великой северной пустынности.
Озеро Алла-Ярви не годилось для их полюбовной семейной жизни.
Был пасмурный день, и озера виднелись сверху, как шкуры серых убитых оленей. Безжизненными, слепыми могли показаться озера, но в каждом уже плескалась лебяжья пара, как будто раскрылся белый цветок. Озерные лебеди все махали крыльями и счастливо трубили пролетным своим собратьям.
Лебединая пара опустилась на пустынную, сплошь серую воду.
...Озеро это было известно людям под именем Кур-Яур. Его так прозвали в давние времена пришельцы-оленеводы. Кур-Яур на их языке означало: озеро ур – мужчина. Они назвали другое озеро: Алла-Ярви. И все понимали, что озеро Алла – женщина.
Озеро-женщина Алла-Ярви было округло, озерный мужчина Кур-Яур был длинен, имел горловину, в которой шумел говорун-водопад.
Лебеди медленно, долго летали над длинным озером и слушали с недоверием, как говорит в нем вода. Им были видны большие следы человечьих сапог на забереге. Они сомневались, кружили. Сверху им было видно не только озеро, но и море. Оно покрывало весь горизонт. Дорога над Северным морем неизвестна была лебедям. Они полетали еще и сели на озеро Кур-Яур, подальше от водопада, в заводь, укрытую сосновым леском на мысу.
Из леска стеганул по воде выстрел; и шея у лебедя сломилась, он опал. Лебедушка улетела.
Из леса выбежал юноша в макинтоше, в очках, с бородой, с ружьем и походным молотком. Он еще стрелял по бившемуся на воде лебедю. Быстро скинул с себя одежду, остался в очках и поплыл. Лебедь греб лапами, уходил от убившего его юноши. Парень птицу настиг, и взял за крыло зубами, и волок за собой по воде. Потом он прыгал на берегу, и целовал убитого лебедя, и прижимал его к своей не загоревшей на Севере белой груди, и говорил ему:
– Ты уж меня прости. Я очень люблю тебя. Но мне всегда не везет на охоте. Я очень хочу возвратиться в лагерь с добычей и накормить всех ребят диким мясом. Мне просто необходимо было тебя убить...
Юноша обратился также и к озеру Кур-Яур. «Ты настоящий мужчина, Яур, – сказал он ему. – Ты не какая-нибудь там Ярвочка. Ты мне помог. Спасибо тебе, старина!»
В лесу у ручья поставлены были две палатки. Кастрюля повешена над костром. Девушка в непромокаемой куртке и светлой косынке смотрела, как подымается над кастрюлей пар.
Юноша с бородой пришел и кинул убитого лебедя близко к обутым в ботинки ногам этой девушки-поварихи.
– Ой, зачем ты его убил? – сказала девушка. – Я думала, они не бывают дикие, только плавают в Летнем саду. Не надо было его убивать.
– Ничего, – сказал лысоватый мужчина лет сорока. – Так-то он белый, а сваришь – и красенький станет. Вареная вся скотина на один цвет. А этот еще и послаще...
– Только не будем говорить, что это лебедь, – попросил юноша в очках. – Сварим и скажем, что гусь, а перья утопим.
Они ощипали лебедя возле ручья, пух весь собрал и припрятал лысый – жене на подушку, а перья уплыли вниз по течению.
Вышел из леса еще один человек, самый старший. Он первым делом помылся в ручье и поднял одно неуплывшее перышко. Он принес его в лагерь и всем показал.
– Лебедь сронил перо, – сказал самый старший.
– К старости, что ли, у них перья-то вылезают, – заметил лысый, – или от сырости? Вот и я, как сезон по болотам пошляюсь, так плешь хоть на два квадратных сантиметра да увеличится.
Девушка разложила на мху деревянные ложки и алюминиевые тарелки.
– У нас сегодня на ужин гусь, – сказал молодой охотник, немного подрагивая от гордости и боязни.
Девушка достала из кастрюли, подвешенной на тагане, большую, упревшую, лакомую дичину и отломила облитое розовым мясом крыло.
– Ты мне не клади, не надо... – сказал самый старший. – Я подходил к лагерю, слышу, над Кур-Яуром лебедь трубит. Печальнее музыки я не знаю на свете, чем крики лебедя, когда он осиротеет.
Девушка огорчилась чуть не до слез, поднялась над кастрюлей, да так и осталась стоять, держа поварешку в руке...
– И я тогда тоже не буду есть это мясо, – сказала она.
– Нам больше останется. – Лысый подмигнул юноше в очках. Юноша улыбнулся.
– Ну что! – воскликнул он. – Ну, конечно, это не гусь. Ну, я убил лебедя. Они же здесь все равно расплодятся за лето. Ведь, кроме нас, ни души и не будет здесь. Никогда ни один человек тут не поселится. Только лоси и лебеди. И щуки. Ну, подумаешь, одним лебедем меньше...
Пожилой человек будто не услышал молодого охотника. Он поел лапши и попил чаю. Припомнил случай из собственной жизни и рассказал...
– В сорок третьем году я воевал под Синявином... – так начал рассказ пожилой человек. – После тяжелых боев наш полк вывели в Тихвин на переформировку. Я написал моей жене Надежде Терентьевне, чтобы она приехала ко мне. Она работала врачом в эвакогоспитале в Костроме. Мы с ней поженились в сорок первом году. В мае. В сорок третьем ей было двадцать пять лет. Она с огромным трудом достала пропуск в прифронтовую зону и села в поезд. На станции Неболчи их состав попал под бомбежку. Ее убило осколком в грудь. Я узнал об этом через двенадцать часов, помчался и успел только похоронить. Она поехала ко мне в черном шелковом платье. И большая черная коса у нее была уложена вокруг головы...
Никто не останавливал пожилого человека, он говорил, умолкал, и все дожидались, что скажет он дальше. И присмирели от жуткой серьезности его рассказа...
– Вскоре после войны я работал в партии, на Таймыре, – продолжал пожилой человек. – Перебивались мы тогда на подножном корму. Лебедей старались, конечно, не трогать. Но в крайнем случае питались и лебедятиной. А крайний этот случай выпадал нам чуть ли не каждый день... Ну вот, и я тоже стукнул лебедку, а лебедь, ее супруг, остался на озере и плакал по ней всю неделю, пока мы стояли поблизости лагерем... Ребята хотели его подстрелить, но я попросил не трогать. Не попросил даже, а приказал, – я был начальником партии.
Мы прошли по Таймыру с запада на восток, а потом возвратились параллельным маршрутом. И вышло так, что лагерь поставили около того озера, где лебедь один остался. А уже зима нас поджимала. Ветры страшные на Таймыре... Вот ночью я лежу в палатке и слышу: вроде как лебедь гурлычет. Нет, думаю, ветер... А сна уже нет. И опять будто лебедь...
Утром пошел на озеро. В нем только промоина осталась около горла, перекат там был, быстрина. А так все во льду и под снегом... Сначала лебедя я не заметил. Близко к нему подошел. Он только тогда сполохнулся. Крыльями похлопал, но не полетел. Подымать я его не стал...
В общем, лебедей я с тех пор стрелять зарекся. И никому не могу простить выстрела по лебедю. Жениться мне так больше и не пришлось...
Пока самый старший рассказывал это, лысоватый мужчина съел без малого половину лебединой туши.
Юный охотник в начале рассказа мяса не брал, а только нервно проглатывал скользкий лапшовник. Но потом он отломил небольшую дольку от лебединого бока... И уже удержаться не мог.
Девушка как-то само собой, незаметно, тоже взяла мясца.
– Есть один такой детский стишок, – сказал бородатый юноша, – не помню, кто его сочинил, какой-то известный поэт... Там про рыб говорится – как жалко рыб, что они не плавают в речке, а мертвые в магазине лежат... «Конечно, это грустно. Но до чего же вкусно!» – такая строчка есть в стишке. Очень хороший стишок! – Борода у юноши вся была в лебедином жиру. Улыбался он молодо и блаженно.
Солнце за лето устало висеть и светить и начало опускаться на ночь в озерную воду.
Озера сделались тусклы без солнца и без лебяжьего белого цвета. Скоро Север покрыло снегом, и вся птичья жизнь потерялась в сплошной белесой зиме.








