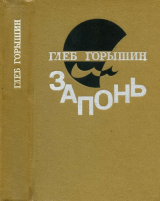
Текст книги "Запонь"
Автор книги: Глеб Горышин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 26 страниц)
– Я около вас, где вы живете, бываю, – говорил Венька. – Там директор «Гастронома» знакомый мне. В грибной рейс с ним ходил, дак познакомились. Если че надо, беру у него.
– А чего тебе надо, Веня?
– Кофе растворимый или че другое... Хотел к вам зайти, дак вы все в командировках. Отдыхайте пока, – сказал Веня. – Как Ивановские пороги проходить будем, я вас позову. Там скорость течения девятнадцать километров в час, а ширина фарватера восемьдесят метров. Интересно, посмотрите, правда же? Двенадцать лет хожу, дак знаю. На баржах ходил, на буксирах, гонки леса таскали, по три тысячи кубов. Постепенно все понимать начинаешь, что к чему, правда же?
– Правда.
Венька ушел.
Спустя какое-то время сверху донесся его голос:
– Идемте в рубку. Ивановские пороги проходим.
Я поднялся в рубку. Капитан стоял у штурвала. Высоко над Невой в черном небе горел, как планета войны Марс, красный свет.
– Когда сверху судно идет, – сказал Венька, – не пускают снизу, красный свет зажигают, а когда свободно – зеленый. Фарватер узкий, дак... – Он включил рацию и сообщил диспетчеру о прибытии своего корабля, плывущего вверх по Неве. Диспетчер велел подождать. Венька раскрутил маленький штурвал и ловко, одним касанием пришвартовался к стоящей у берега барже.
Вскоре, словно утренняя звезда Аврора, загорелся в вышине путеводный зеленый свет. Капитан повел свой корабль под звезду. Я спустился в каюту. Уснул под близкое шурханье невской воды.
Проснулся от утренних хриплых голосов, от топанья ног по обшивке речного трамвая. Вышел наружу, увидел спящую воду Ладожского канала – без движения, звука и цвета; всюду нависла туманная морось. Ветер не дул ниоткуда, но клочья тумана неслись над каналом, как тени в Дантовой преисподней. Лес темнел на берегу, в лесу продолжалась ночь. Солнца недоставало, в бессолнечном мире все представлялось чуждым, хмурым, сырым. Речной трамвай вполз носом на песчаную отмель. По узкому склизкому трапу сходили наземь, на робких после долгого плавания ногах, грибники. Сбежала на берег девочка Лена, запричитала:
– Хочу увидеть змею! Хотя бы увидеть.
Явился Венька Авдюшкин. Он устал за ночную вахту. Под форменным пиджаком совсем не угадывалось Венькино тело, лицо еще больше смялось, подернулось пылью, морщины вычернились, будто парень кочегарил всю ночь. Но Венькин оптимизм не увял в ночном плаванье, не отсырел в мозглых предутренних сумерках. Венька напутствовал меня, благословлял на грибную охоту:
– Найде-ете! Всем хватит грибов. По полной корзинке несут. Вот так пойдете по берегу с полкилометра – и в лес. Тут заблудиться нельзя. С одной стороны канал, и с другой тоже канал – старый. Тут про-осто! Если что, я сирену дам...
– А сам-то не пойдешь?
– Не-е, мне не надо. Че я с грибами делать буду?
Я прошел немного по берегу, свернул в лес. Лес оказался плохой, травянистый. Плох он был еще тем, что всюду валялись банки, коробки, газеты, всякая дрянь – следы грибных рейсов. И всюду натоптаны тропы. И поздно, октябрь – ну какие грибы в октябре? Солнце все не могло народиться, без солнца скучно в лесу. И вякал, не унимался транзистор.
Между тем я шел да шел меж сонных чахлых сосен, березок, по траве, по топкому густо-зеленому мху, шел как придется, не взыскуя грибов. Казалось, что я плыву по озерному плесу. Парной, настоянный на березе и на багульнике воздух был сладок. Если долго идти по лесу, как бы ни был сумрачен, глух этот лес, он приведет в краснолесье, в веселую боровину и обязательно подарит гроздь брусники, белый гриб, а не белый, так красный. Я шел, почва делалась суше и тверже, на ней обозначились сухожилия, мускулы – корни больших деревьев. Солнце пронзило мокрую хвою, засеребрилась осенняя паутина, осыпало жемчугами траву. Стволы берез забелели, сосны янтарно затеплились, елки зазеленели. И всюду рдели, краснели, пунцовели колонии мухоморов. Красноголовые воцарились в лесу в октябре...
Но тут мне попался здоровый темноголовый гриб-боровик – захолонуло сердце, перехватило горло. Глаза мои, нюх обострились, я пошел челноком, как сноровистый пес. Рассеянность, расслабленность исчезла – как не бывало. Я стал приметливый, быстрый, азартный. Нашел благородных грибов, сколько мне захотелось. Не то чтобы много, но хватит на суп и жареху.
Чрезвычайно довольный собой, вышел на берег канала, зажег костер, вскипятил мутноватой, нечистой воды, сыпанул в котелок горсть чаю, достал сахару, хлеба. Чай получился немыслимо вкусный, а после чая еще вкусней – сигарета.
Солнце грело меня. В рябинах строчили дрозды. Над каналом в сплошной синеве летела белая чайка. Горел костер. И тишина подступала со всех сторон, великая тишь. Казалось, она поглотила речной трамвай с капитаном Венькой Авдюшкиным.
Вдруг завыла сирена. Я подхватился, собрал пожитки, оставил сорокам хлеба, сахару, колбасы. Речной трамвай оказался рядом, за рябиновой гривой. Большой белый корабль стоял, сунувшись носом в берег. Капитан встречал своих пассажиров у трапа. Тотчас все собрались. Корзины полнехоньки были грибов: горянки, серянки, лазнухи, свинухи, волнушки, солёники, мочёники – белых никто не нашел.
Моторист Сережа поднял трап на палубу. Речной трамвай сполз с берега, развернулся, пошел по каналу.
Венька сказал, что быстро идти нельзя: воды становится маловато в канале, винт уводит за собой, выпивает воду. И правда, вода побежала следом за нашим судном. Открылись основания берегов, забереги, голое желтенькое дно. Берега канала сложили сто пятьдесят лет назад из фашинника, ивовых прутьев, укрепили каменьями, насыпали грунту. Ребрышки обнажились тепеэь, торчали прутья, будылья...
Речной трамвай шел меж не очень крутых, вровень с ходовой рубкой берегов. Дул встречный ветер, желтые листья берез трепетали, багровые гроздья рябины покачивались. Березы здесь низки и кривы, их кроны округлы, оглажены ладожским ветром. Стволы берез ярки, будто покрашены белилами, как яблони в ухоженном саду. Алыми сполохами являли себя осины. Справа невдалеке простиралась синяя, напруженная ветром Ладога.
Корабль плыл в расцвеченном, праздничном мире. Он плыл медленно, быстро плыть ему запрещалось. У руля стоял Венька Авдюшкин. Миг беспричинного счастья длился, скорость времени сравнялась со скоростью нашего судна. Венька вел корабль посередке русла канала – по фарватеру...
– Хотите? Нате, – сказал капитан, приглашая меня к штурвалу. – Когда пустой канал, просто. Середины держаться – и все.
Я взялся за рожки руля и почувствовал силу, биенье мотора. Припомнилась мне большая река, и парус рвется из рук. Я держу его, правлю на стрежень. Лечу. В лицо брызги. В носу ладьи лоцман, Венька Авдюшкин. «И вечный бой! Покой нам только снится... сквозь кровь и пыль... летит, летит степная кобылица и мнет ковыль...»
Когда это было? Какая кровь? Какая пыль? Какая кобылица? Годы мои утекли, как вода, а это осталось. Сперва я поплавал на лодке под водительством Веньки. Теперь держусь за руль речного трамвая. Что будем потом? Какой корабль? Какая река? Или море?
Я вышел на воздух. Корабль по-прежнему плыл меж рябин и берез по тихой воде канала. Сладко спали его пассажиры. Исправно отстукивал дизель.
Пришла на палубу девочка Лена, и я спросил у нее:
– Леночка, зачем тебе нужно увидеть змею?
– Интересно, – сказала Лена. – Всего-то я один раз змею видела. В зоопарке. Гюрза называется, что ли... Всего одну змею.
– А почему ты не в школе? – спросил я у Лены.
– А, сегодня у нас день такой. Несерьезные все предметы. Пение.
– Разве тебе не хочется научиться петь?
– Там глупостям всяким учат. Какие-то два такта, три такта, четыре такта. Считать заставляют: раз-и, два-и... Я песню если услышу – и сразу запомню, без всякого счету. Вот я услышала песню «Смело, товарищи, в ногу» – и запомнила. – Лена спела мне песню «Смело, товарищи, в ногу». – Там что? – спросила она меня, заглядывая в капитанскую рубку.
– Там капитан.
– А можно туда?
– Можно.
Лена пошла в рубку. Капитан посадил ее на высокий стул.
– Справа Орешек будет, – показывал Венька. – Смотрите! Сейчас хорошо видать. Тут аккурат канал начинается, а вон там Нева. Сейчас проходить холм Славы будем. В бинокль увидите, че написано. Там памятник есть – красиво! Нате поглядите...
Венька Авдюшкин провел речной трамвай по Неве, под мостами, пришвартовался у пристани.
Мы попрощались с Венькой, пожали друг другу руки. Венька сказал:
– Завтра опять пойдем в грибной рейс. Грибы есть, че не сходить, правда же? Захотите, пойдемте. В этот раз народу мало было, а так много бывает. Весело!
Шанхай
Я нарушил сроки охоты. В сентябре убил глухаря. Он и песню свою не спел ни разу, скрипун-первогодок. Едва поднялся на крыло, большой, черноперый...
Сложил и вытянул длинный хвостище, плавно прошел в вершинах и сел.
У меня недостало спокойствия уложить глухаря в мешок. Я припас – на случай трофея – авоську, так и до дому доехал, с глухарем на виду, на ремне. Мне было двадцать лет. Я не мог спрятать большую птицу, убитую мной.
В Ленинграде, на Московском вокзале, груболицый и твердый мужчина потребовал мой охотничий билет. Потом меня вызвали в общество, штрафа не взяли, только сказали презрительно: «Не охотник ты, кила».
А все началось со Степиных собак. Есть такой человек на Носке – Степа Кряквин.
Помянул о Носке, не могу, оторвусь от рассказа. Есть такое место, твердь земная – кряж, мыс отделяет Оять от Свири, торчком вдался в ровную низкую воду. Свирский обрыв – изжелта-белый песчаник. К Ояти – покатый берег, его обжили, избы стоят, березы посажены вдоль порядка, большие, лет по семьдесят каждой.
Степе Кряквину как раз в ту пору было полста. Детей он поднял – уехали в Ленинград учиться. Степа жену поменял.
Охоту совсем запустил. Псы отбились от лесу. Корму-то им всегда хватало в Степином доме.
Тогда еще лосось ловился в Свири и в Ояти. Форель. Судака Степа не ел, разве для навару клал в котел, чтобы картошка варилась не в голой воде – в бульоне. Потом сливал бульон на землю, вареного судака кидал псам. Картошка становилась медовой на цвет от судачьего навару. Степа круто ее солил и прикусывал лук.
Он был начальник рыболовецкой артели – Степан Игнатьевич Кряквин. Всю жизнь занимался рыбачеством: когда лосось приедался, налимья печенка шла в уху; корюшку коптил в собственной дымокурне. Был Степа налит до краев здоровьем и силой.
Нюрка вначале стала мне как подружка, – ровесница ведь. Степы она дичилась, а со мной любила чаи распивать с пирогами. Весной мы с ней подружились, я еще тогда гуся сшиб на пролете. А в сентябре приехал, шел пешком со станции Оять... Дошел наконец. Сел на Степино крылечко, думаю, пусть Нюрка выйдет ко мне. Подружка... Она сунулась к окошку, еще не знала кто, а как узнала, дверью прихлопнула и, слышу, ворчит: «Шляются тут оборванцы». Брючата я надел на охоту самые что ни есть никуда не годные.
Я было присмирел, оскорбился, но сказал себе: «Подожди, парень, ничего, подожди!..» И пересидел Нюркино хозяйское пренебреженье. Поел пирогов с лососинкой. В свое время.
Степа вернулся из губы с рыбалки поздно, пошел в баньку. Нюрка пошла его проводить с фонарем. Так сказала: «Провожу». Однако не возвратилась. Я их не дожидался, заснул.
Утром свистнул гончара Рекса, тот поглядел на меня медленно, сыто – здоровый черно-рыжий кобель. Счел нужным пойти со мной на охоту. Все-таки у человека ружье.
Дворняга Шанхай, тоже Степин пес, прыгал, повизгивал, очень хотелось ему вместе с нами. Все пытался уши поставить стоймя – правое еще подымалось, с левым было совсем дело плохо. Пришлось привязать пса веревкой к забору: не брать же дворнягу в лес.
Рекс потрусил рядом со мной, в лесу ткнулся носом в брусничник, порыскал, чихнул, потряс башкой и взглянул: вижу ли я его усердие. «Вперед, Рекс! – приказал я. – Искать!»
Рекс полакал воды из-под кочки, задрал лапу на первую сосну леса и на вторую. Убежал подальше от меня, вроде как увлекся в доборе. Я уже было поверил, но вдруг чвякнуло что-то тут же, рядом совсем. Гляжу, посреди ольхового подроста крадется пес, а сам на меня смотрит. Переглянулись – он потупился, боком, боком, заспешил прочь с глаз.
Скоро опять появился и уже не отбивался от моих ног. Было видно: не хочется псу шастать по лесу в одиночку. «Ищи! – рявкнул я. – Вперед!» Еще кое-что добавил.
На вересковой прогалине я выстрелил по тетерке. Не очень я рассчитывал попасть: слетела она далеко. Подумал: «Выстрел подействует на пса. На гончих это действует». Пальнул. Пес вздрогнул. Опять пошел от меня боком. Все припадал к земле, косился и хвост припрятал. Было видно: хочется припустить вовсю – и страшно. До самой опушки так маялся. Чуть скрылся от меня в ельнике, было слышно: галопом пес поскакал.
Степа сказал вечером:
– Так-то он ничего, ну, видишь сам, какая мне теперь охота? С ними ведь заниматься нужно... А так... Это все напрасно. Ты с Жучкой попробуй. Она птицу хорошо лаяла.
Я не понял, что мешает самому Степе ходить на охоту, но спрашивать не стал: ему пятьдесят, а мне двадцать. Значит, есть причина.
Жучка не пошла со мной в лес. На меня она не смотрела вовсе, холеная, чистобрюхая лаечка. Потянулась, крылечко шерсткой помела. Глаза зеленые, и ушки сторожко стоят. Себе на уме собачка.
Я ей совал в нос кусок пирога с форелью, сам пятился спиной к лесу. Жучка не шла и за пирогом. Я свистел, хлопал себя руками по худым штанинам, чмокал. Жучка все поворачивалась ко мне хвостом. Хорош был хвостик, тугая огнистая дужка.
«Ладно, – подумал я, – сейчас выстрелю – инстинкт проснется. Все же это не Рекс. Лайки все прирожденные охотники». Отошел на задворки, стрельнул в поле. Нюрка мелькнула в окошке:
– Ты что, по курям? Большой, а ума – что у корюшки.
Жучка не оглянулась на выстрел: кота наблюдала, как он идет по двору, хвост стоймя, самый кончик вихляется при каждом шаге. По-охотничьи за котом следила, весь инстинкт, видно, на это потратила.
Тогда я решил действовать иначе. Первым делом привязал Шанхая к забору. Глаза у него были преданные, как это говорится – собачьи. Он кидался ко мне, веревка держала пса, передние лапы отрывались от земли. Пес сучил лапами, вытягивал шею и тявкал. Он хотел со мной в лес. Но мне было плевать на этого пса. Мне нужно было охотничать с лайкой. Пора мне было поохотничать всерьез. Я подхватил Жучку на руки и пошел с ней в лес.
Она была тяжелая собака. Я думал: «Ничего. Ничего. Сейчас мы дойдем. Я ее отпущу. Она почует птицу и начнет работать. Чутье не могло потеряться. Азарт и все такое. Сейчас она все поймет».
Сначала я шел по тропинке. Свернул на длинное болото. Тут я вспотел: в собаке было верных полпуда, а идти вязко.
За болотом началась ольховая заросль, березняк, ивовый прут все оплел, черемушник – ух! густо! Как я там лез со своей собакой? Прижал ее к ватнику, скомкал всю, будто она не живая собака, а скажем, лису я добыл и тащу напролом, ног не чую. Иначе было нельзя.
Собака визжала, рвалась, хвост ее лаечный распрямился. Но я удержал. До настоящего лесу не доберешься иначе, как через эту чащобу.
Я пустил Жучку, едва завидел первые сосны бора. Она не посмотрела на меня, завила хвостик в колечко и побежала домой.
Вечером Нюрка сказала мне:
– Пойдем завтра в бруснику. А то с охотой твоей больше сапогов стопчешь.
Нюрке не с кем было ходить в бруснику. Бабы ее сторонились. Лукинична, старая Степина жена, осталась в деревне, бруснику она брать горазда... О Нюрке плохо говорит. А бабы, конечно, ее сторону принимают.
– Завтра пойду за утками, – сказал я Нюрке. – Псы у вас зажрались. Их бы в хорошие руки.
– А! – сказала Нюрка. – Топить их некому, этих псов. Толку-то с них...
Деньки тогда стояли сыренькие, со студеным туманцем, и вдруг прорезался синий день. Бывают такие только в сентябре. По вереску паутина, капли остались с ночи, в каждой – синее, рыжее солнце. Лучики колко выстреливают из капель, дрожат. Брусничины заиндевели в росе. Березки кое-где сомлели, слиняли. Ранняя, светлая ржа прошлась по зеленому лесу. И все-то видно вокруг.
Я решил по старицам пройти. В каждой, поди, по выводку держится. Шанхай увязался со мной. Я не стал его сажать на веревку. Может, какого подранка в тресте отыщет.
Пес начал нюхать землю сразу за огородом. На меня не глядел, только рыскал и нюхал. Откуда в дворняге охотничье рвение? Может, заезжий крапчатый лаверрак встрял ему в родословную? Теперь вот расплачивайся за грех. Звериные запахи леса томят, а охоты все нету и нету. «Шанхай! – кричал я. – Назад! Ко мне!» Не было никакой нужды кричать эти слова. Утро вырастало такое ясное, и так мне дышалось, что идти молча я не мог.
Шанхай будто понимал это. Он не слушал меня, уносился далеко, вынюхивал кочки, багульник, хвою и мох. Он перепрыгивал через коряги. Он вывалил нежный шершавый язык. Шкура будто вся обтянулась на ребрах. Он был неистов, Шанхай. Выбегал ко мне, взглядывал быстро и виновато, будто хотел заверить меня: сейчас, сейчас разыщу, поверь мне, сейчас... И опять уносился.
Я позабыл про утиные выводки. Я был молодой охотник. Ни разу еще не было у меня своей собаки. Конечно, слыхал, как вязко может ходить за зайцем гончар, как спаниель выловит подбитого саука в ноябрьской воде и в руки подает. Никто мне не рассказал ни разу, как стала ему собака добрым приятелем, ухом и глазом в лесу. Может быть, не случалось такого с моими знакомцами, а может, об этом не рассказать.
В лесу, на охоте, я всегда видел только самые ближние елки. Весь бывал настороженный, все казалось – вот сейчас, именно в этих елках объявится заяц, или глухарь, или хотя завалящий рябец. Кроме ближних елок, для меня ничего и не было в лесу. Лес раскрывался скупо – по дереву, по полянке, по просечке.
А теперь все вдруг стало иначе в лесу. Просторно. Я не осторожничал с елками. Их все обшарил Шанхай. В них не было зайцев и рябчиков. Я видел высокое сентябрьское небо и сосны. Сел на валежину, и Шанхай, прибежав, ткнулся мне в колени. Я сказал ему: «Ну что, брат?» Он дернул головой: дескать, сейчас. Он стоял возле меня, а сам все вздрагивал и косился глазом на лес: не весь еще обшарен.
...Глухарь слетел и шарахнул крыльями по сосновой хвое. Это я услышал вначале. И сразу залаял Шанхай. Я побежал на звук и скоро увидел птицу. Глухарь пролетел немного, уселся на сук и уже не казался таким огромным, как влет. Он крутил головой, прищелкивал клювом и глядел на Шанхая.
Первогодку был так интересен лающий зверь, что меня, человека, он не заметил.
Шанхай тянулся к птице, он встал на задние лапы, а передними царапал сосну. Он целил в птицу носом и тявкал. Но не так он был прост, этот пес. Он знал, что ему не достать глухаря, не свалить его лаем. Он тявкал, а сам взглядывал на меня, приглашая: «Ну же!» Где он этому научился? Может быть, еще и зверовая лайка попалась ему в родословную?
Я нарушил сроки охоты. Не мог я их не нарушить. Глухарь упал после выстрела. Шанхай его нюхал, лизал, будто ласкал, прикусывал самую малость. Он весь дрожал от трепетного восторга.
Потом я повесил птицу себе на ремень. Шанхай побежал и все тянулся к птице. Вдруг отставал, стоял недвижимый, словно что-то нужно ему сообразить. Задумчивым стал пес. Казалось, не может еще понять, что с ним случилось, какое счастье обрушилось на него и как теперь жить дальше. Иногда он прыгал, тихо повизгивал. Опять затихал. Пускался в поиск, но скоро возвращался обратно к птице.
Так мы ходили до ночи. По полянам родился туман. Совы кружили низко и шелестели. Опушки, болота, низинки, тропинки и бочаги стали все одинаковы. Я заблудился, конечно. В ночь уходил мой поезд. До станции Оять еще четырнадцать километров от Степы. Волгло стало и неприютно.
Пес убежал. Дворняга и есть дворняга. Так я подумал тогда о Шанхае.
Сам тоже все наддавал и не заметил, что бегу. Жутко мне стало в лесу. Весь он будто против меня, лес, живой, зыбится, дышит. Тьма жидкая вверху, а внизу густая, клочьями, клубами, кучами. Расселась повсюду. Плохо. И пес убежал.
Мне-то куда бежать? Все равно стало. Но шагом нельзя. Это лучше – бежать.
Вдруг – большая вода! Ага! Ух! Теперь-то не пропаду. Свирь. Нужно идти вниз по течению. Утром я шел вверх. А где верх? Где низ? Только видно, что небо светлее воды и вода возле неба чуть блестит. А может, это не Свирь? Как так не Свирь? Свирь.
Я давно уже позабыл о псе Шанхае. Снял шляпу. Она мне мала – побольше не нашлось в магазине, а нужно было шляпу надеть. Какой охотник без шляпы?
Забрел глубоко в воду и пустил шляпу. Надо же знать течение. Конечно, низ должен быть слева, а справа верх. Шляпа проплыла немного поперек Свири, потом повернула и пошла себе вправо, вверх по течению. Я достал ее, зачерпнул водицы, испил и слушал, как громко валятся капли с подбородка в реку. Теперь я уж вовсе не знал, что делать. Не хотелось мне идти вправо.
...Шанхай появился деловитый, будто по крайней надобности отлучился. Он ткнулся мне в ноги, отбежал и посмотрел, иду ли. Я сказал ему: «Шанхаюшка! Родненький мой песик...» Он еще отбежал, подождал. Я пошел за ним смело и запел песенку.
Степин дом оказался рядом. Все же влево мне нужно было идти. Чего моей шляпе вздумалось плыть вправо? Может, водоворот?
Дом был заперт, а в баньке светилось окошко. Я не стал в него стучаться. Сапоги стянул, пальцами пошевелил, перемотал портянки и быстро пошел на станцию Оять. Четырнадцать километров. Еще можно поспеть до поезда. Если очень торопиться.
Я шел по песчаной дороге на станцию и думал о том, как приеду опять на Носок. О Степе и Нюрке я не вспоминал. Далась же им эта банька! Ну пусть. Я думал только о Шанхае. Он должен ведь и зайца гонять. «Я приеду, и мы с ним пойдем... За Шоткусу слазаем... На Кандошское озерко...» Ах, как хорошо было думать о псе Шанхае. «Шанхаюшка, – думал я, – собачка...»
И вдруг понял, что он не остался у Степы, бежит со мной вместе. Тайком бежит. Все понимает.
– Пошел! – крикнул я. – Я т-тебе д-дам!
Пошел быстрее и шептал:
– Собака! Ах ты моя собака! Ну подожди, подожди. Я же приеду. – На всякий случай рычал в темноту: – А ну вер-р-нись! У-у-у!
Полдороги Шанхай таился, а потом догнал меня и побежал открыто рядом. Наверно, решил, что теперь прогонять его поздно, что Носок далеко позади и хватит терять охотничье время. Нужно лазить по лесу, искать глухаря и вешать его себе на ремень. Что может быть в мире важнее и прекраснее этого? Наверное, он подумал, бедняга, что я и есть единственный человек – Настоящий Охотник. Он бежал со мной по ночной дороге на станцию Оять и готов был бежать еще много ночей...
– А-а-а! Ты еще здесь, гад? А ну-ка давай отсюда! – Что я мог еще сказать Шанхаю?
Он не послушал меня. Он прибежал со мной к самому поезду. Мурманский поезд стоял здесь одну минуту. Я вскочил на подножку. И Шанхай тоже вскочил. Я взял его на руки. Он был тощий, гораздо легче, чем Кучка. Я стиснул пса и поцеловал его в холодный кирзовый нос. И бросил вниз, на платформу.
Поезд пошел. Шанхай сначала бежал вровень с моим тамбуром. Я глядел на него, и он подымал голову.
Потом он отстал, но было видно: все бежит собака. Потом к поезду подступил лес.
Кажется, я тогда заплакал, а может, нет. Не помню.
Приехал к Степе только весной. Шел по дороге к Носку и все улыбался: «Узнает Шанхай?»
– Как Шанхай? – Это первое, что я спросил у Нюрки.
– На свадьбе вон у Полины Радыничевой гуляли и застрелили. Жалко, конечно, все же как свой был. Хорошо, хоть его, а не Рекса, не Жучку. Они хотя породистые, а этот – что? Так только, один вид, что собака.








