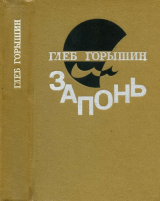
Текст книги "Запонь"
Автор книги: Глеб Горышин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц)
– А я в контору наладивши дак... К вам, Степан Гаврилович. Больше не знаю, к кому идтить, у кого защиты искать... Совсем не стало мне жизни от невестки моей, от Нюрки... Такая враг, такая враг, и Ленька, мой сын-те родной, под ее дудку ходит... Гуляевы мы. Ленька-те сплавщиком у тебя в конторе. Совсем сживают со свету. Не кормят старуху, да еще попрекают куском... Озверевши сей год. Вчера на меня кочергой замахнувши Нюрка-те, такая враг... Я из дому ушоццы, у чужих людей ночь ночевала, у Дуси Мачигиной, за механиком она... Я им говорю, управа на вас найдется, к Степану Гавриловичу обращуся... – Старуха заплакала. – Одинехонька вот и осталась на старости лет. Негде голову приклонить.
– Как звать-то тебя? – спросил Даргиничев.
– Анастасией... Бабка Настя я...
– Ты вот что, бабка Настя, – автобус пойдет, поезжай в контору, к Шаронову, моему заместителю, обратись. Пущай он тебя сведет в общежитие, там комната есть пустая. Живи покамест. Я Гуляева вызову, переговорю с ним... Переговорю... Комендантом в общежитии такая, как ты, пожилая женщина, Чайку попьете. В обиду тебя не дадим, бабка Настя. Шаронову скажешь, пусть сведет, я распорядился...
Даргиничев возвышался над бабкой, каблуки его болотных, в дегте, сапог вдавились в процеженную дождями супесь.
– Ступай, – сказал Даргиничев. – Шаронов тебя сведет.
Бабка глядела на директора потерянно, со слезою, с испугом в глазу.
– Я не собравши дак... Вещи-те у меня на квартире оставлены. – Даргиничев больше не слушал ее. Он поворотился к прибывшей на берег женщине, тоже в черном жакете и сапогах, тоже в сером суровом платке, с выражением просительного несчастья в глазах.
– В контору я к вам собралась, Степан Гаврилович, – сказала женщина, – да вот, вижу, вы здесь... По личному вопросу...
– А в конторе меня искать бесполезно, – сказал Даргиничев, налегая на «о», морща лицо в улыбке. И повторил: – Искать меня бесполезно в конторе... Волка ноги кормят. Мы как волки работаем. Затемно встанешь – гимн играют по радио. Вечером возвращаешься домой, сядешь к столу покушать – опять слышишь гимн. Только один гимн слушать и есть время. Всегда одна музыка. Ну что ты будешь делать? Беда! – Даргиничев засмеялся. Большеносое, лобастое, с грубо тесанным подбородком, с бледными, слегка вывороченными губами, с высокими залысинами, лицо его засветилось простодушной веселостью.
Женщина слабо, натужливо улыбнулась:
– Да, конечно, столько на вас ответственности... Я к вам хотела насчет Аркадия, сына... Совсем отбился от рук.
– Аркадий старший у вас? Высокий такой парнишка... Помню, помню. – Даргиничев улыбался. – В самодеятельности он участвовал в школе. На такой штуковине играл, будто гвозди молотком заколачивал... Я у них был приглашенный на вечер... Как же, помню.
– На ксилофоне он увлекался, – сказала женщина. – забросил теперь. Десять классов закончил, подавал в индустриальный техникум документы, по конкурсу не прошел... Дак ведь как было пройти, если на уме одна гулянка. Пьяным домой приходит. В клубе в драке участвовал. Не он, правда, дрался, но тоже забрали его в милицию, ночь продержали. Муж говорит, пущай ему там ума дадут, а я сама не своя... Штукатуром устроился на стройучасток, месяц отходил и бросил. «На какие ж ты деньги пьешь-то, бессовестный?» – я его спрашиваю. А он только смеется, совсем обнахалился, словно как и не наше дитя...
– Вы его пошлите ко мне, Вера Михайловна, – сказал Даргиничев. – Я с ихним братом умею договориться. Они меня будут слушать. Я с ним переговорю. Курсы кранистов у нас на фабрике с первого ноября начинают работать. Направлю его туда. В жизни пригодится. Народ на фабрике хороший. Трудолюбивый народ. Пригодится в жизни... Можно бы в лес, но там бесконтрольности больше. На фабрике спаянный коллектив.
– Когда ему к вам прийти-то, Степан Гаврилович?
– А чем скорее, тем лучше. Найти меня трудно бывает. Пущай поищет. Если надо, найдет. Найдет, если надо.
– Спасибо, Степан Гаврилович. – Женщина поклонилась Даргиничеву.
– Придумаем что-нибудь, – сказал он. – Не позволим парню свихнуться. Пущай заходит ко мне. – Сел в машину и укатил.
4
Дорога шла чистым бором. Ее ровняли грейдером, но лесовозы опять пробили глубокие колеи, гравий шуршал по днищу машины. Дорога была пуста, проселок. Дорога была мягка, по веснам ее развозило, дорога текла, исчезала в ручьях. В апреле на ней урчали трелевочные трактора – Даргиничев посылал их с лесоучастков на Вяльнигу, Кыжню, Шондигу, Сяргу – на срывку леса. Трактористы в дороге съезжались к скамейкам-курилкам, сносили в общую кучу хлеб, сало, консервы. Они глушили моторы и слышали шуршание льда на реке, разноголосицу живо бегущих ручьев. В свежезеленом лесу пытали свои голоса дрозды и кукушки. Потом трактористы рушили силой машин высокие кладки леса. Лес падал со стоном в воду и плыл вперемежку со льдом, с отраженными облаками. На излучинах лес погоняли баграми рабочие Вяльнижской сплавконторы. Ребятишки и жены рабочих таскали – по чурке – дрова из штабелей, кидали их в реку. Крутились на берегу собаки, лопотали младенцы, летели брызги. Лица у всех становились смуглы от пекучего солнца.
Приплывал водометный катер, все знали, что это прибыл директор или директорский сын Георгий, наследник, начальник производственного отдела, настырный парень, поменьше ростом, чем батька, пониже, непьющий, в кожаных сапогах и черной кепке с большим козырьком.
Когда спадала вода, Даргиничев посылал на размытую, выбеленную дорогу самосвалы с гравием. Ворчал про себя: «Упрощение... Технику гробим, а на асфальте сэкономить хотим».
Он ехал по магистральной лесной дороге поздней, измученной дождями осенью, но дорога держала, впечаталась в моренные пески, утвердилась. Вдоль дороги стояли столбы с многорядными проводами, и Даргиничев думал, что все это он, председатель межколхозного совета по электрификации, все он, все идет от него. «Сколько наработали – ужас», – думал Степан Гаврилович.
Машина забуксовала немного в размешанных колеях на подъеме, но вылезла, побежала деревней. Отдельно от деревенского порядка белел новый сруб, подведенный под стропила... «Ишь ты, лесничий спроворил себе хоромы, – подумал Даргиничев. – Так бы в лесу работал, как у себя на усадьбе... Недодумано что-то с этим лесным хозяйством...»
Лесничих Даргиничев не любил. Он говорил с трибуны, и просто так, приходилось к слову, что зря отделили лесхоз от сплавной конторы, что у лесхоза ни техники, ни людей. «Лесничий на мотоцикле в лес укатит, поллитру разопьет на лужайке, вот и вся у него забота. Отдачи от них никакой. Только палки вставляют в колеса. Волынят с отводом лесосек. За техникой все равно ко мне же бегут. Без техники не подступишься к лесу и лесопосадок не произведешь... Одно упрощение получается. Я бы лесничества все разогнал, лесничих передал в штаты лесозаготовительных предприятий. Пущай бы узнали, как план в лесу выполняют. Порастряслись бы немножко...»
Деревня была хороша. Не поселок-времянка на лесоучастке – деревня, старое село Островенское. Избы обшиты вагонкой, все повернулись лицом к реке. Высоко на фасадах – по пять окошек. В палисадниках рябина, сирень, смородина. На шестах повешены мережи. Источенная дождями до седины часовня со шпилем. Полыхающие охрой кладки ольховых дров. Собаки выкатывались из-под изб, совались под самое колесо, голосили и, справив долг, отставали.
Даргиничев повернул в проулок за скотным двором: унавоженной, растоптанной копытами грязью проехал на береговую дернину, остановился против высокой, как вся деревня, грудастой избы под железом, отворил калитку, громыхнул сапогами по крашеной лестнице, чуть пригнулся в дверях.
– Доброго здоровья, Макар Тимофеевич!
– Здравствуйте, Степан Гаврилович, я гляжу, никак ваша машина, да Георгий Степанович говорил, вы в Афонину Гору собирались... Сейчас самовар поставлю, с дорожки чайку... Волгло сей год, на зиму все не поворачивает... – Сивый дед поднялся из-за стола – газету читал, – вздел очки на лоб.
Даргиничев скинул ватник и кепку, прошел мимо русской печки за переборку. С кровати ему навстречу встал парень, сунул ногу в валяный опорок. Другая его нога была замотана чем-то, на культю надет шерстяной чулок. Он попытался шагнуть, но присел, покривился от боли.
– Серьезное что-нибудь? Перелом? – спросил у парня Степан Гаврилович.
– Да не-ет, ничево-о, потяну-ул, связка порвалась, – скучным, заунывным голосом ответил парень.
– Врачу показывал?
– Да не-ет. Заче-ем? Ерунда-а.
Даргиничев покачал головой. Гнев накалил ему шею. Губы брезгливо развалились.
– Кому это надо? Кто распорядился, чтобы ехать тебе? А если бы шею сломал? Начальник участка пущай бы мне подал заявку, я диски к пилам ему бы отправил. Утром машина в Верхнюю Сяргу пошла. А ты ночью на мотоцикле погнался. Черт те что... Герой нашелся. Почему у меня не спросил? Самовольничать вздумал. Так не пойдет, Георгий. Так не пойдет. Упрощение какое-то. – Даргиничев возвышался над парнем, давил на него своим голосом, гневом. Парнишка был молод, но лицо у него мужичье, шершавое, как доска, две складки прорезались на щеках. Жилистый, тощий, белесые волосенки свалялись. Глаз он не поднимал, стоял с поджатой больной ногой, без движения, без жизни в лице, в старой, серой от пота рубахе.
– Пока машина пришла бы, – сказал Георгий, – три «дружбы» простаивали бы, и трактору нечего делать. Полдня бы было потеряно. – Он тоже окал, как старший Даргиничев. Но мало, мало ему досталось от батьки – ни росту, ни стати, ни этой открытости взгляда и разговора. Весь парень был словно запруженный, присмиренный... Только упрямство сквозило в его запавших щеках, в синюшных губах и подрубленном подбородке.
– Жизни не знаешь, кидаешься, как щенок, – сказал Даргиничев. – Мать ночь не спала, и я на телефоне просидел. И тебе в постели теперь валяться. Спросить было надо, а так не пойдет, Георгий. Так не пойдет. Сапоги-то натянешь? А то снесем тебя с Макаром Тимофеевичем в машину.
– Я не поеду, – сказал Георгий. Он поднял глаза. Глядели они будто из глубины, из подвальных потемок, хотя были светлы, голубы.
Даргиничев сел на кровать, расставив кряжи коленок.
– Ты будешь делать, как я говорю, – сказал он сыну. – Пока что я распоряжаюсь. На предприятии и в семье. А ты гляди да учись. Учись, пока есть у кого. Собирайся, домой поедешь. Снимок сделать еще надо. Может, кость повредил. Мальчишество все.
– Без меня пилы опять запорют, – уныло сказал Георгий, громко втянул ноздрей воздух. – На третьем участке у них только один опытный вальщик, а так все халтурщики. И шофер у них, Коля Савельев, людей он возит, с язвой желудка свалился. Подменить его некому. Пешие на делянку они не пойдут. Еще те артисты...
– Много берешь на себя, – сказал Даргиничев. – Лишку берешь. Пуп надорвешь, кому это надо? С людьми надо учиться работать, людьми руководить, а не тыкаться носом в каждую дырку. Всех дырок не заткнешь. Начальник лесоучастка пущай беспокоится о доставке людей на делянки. А не доставит – мы спросим с него. Если надо, голову снимем…
– Начальник ладно если на верхнем складе управится погрузку организовать. Там у них кран вчера день стоял. Завтра график может сорваться. Никак мне нельзя уезжать.
– Не первый кран запортачили за двадцать-то пять лет. Не первого шофера хвороба хватила. Существует порядок, организованность нужна. Когда начальник производственного отдела ночью скачет на мотоцикле в Верхнюю Сяргу – это уже дезорганизованность. Упрощение. Так не пойдет. Собирайся, Георгий. Жена там с ног сбилась, искавши...
– Да пусть он у нас, – явился хозяин дома. – Компрессом ногу прогреем ему, может, и лучше будет. Сейчас в машине-то растрясет, дорогу разбили.
Даргиничев вышел на кухонную половину. На парня не поглядел. Он сел к самовару, и снова лоснилось в улыбке его лицо. Макар Тимофеевич, крепкий, опрятный, седой, наливал ему чай, подвинул крынку цельного молока. Даргиничев спрашивал о хозяйке. Макар Тимофеевич говорил, что хозяйка уехала в город. Камни в печени у нее. По врачам походить. Избу без призора не бросишь. Вот остался домовничать бобылем.
– Стареем мы с тобой, Макар, – сказал Даргиничев. – И здоровьишко никуда. Сердце как схватит, так, кажется, лбом бы оземь трахнулся, искры из глаз.
– Инфаркт недолго схватить по нонешней жизни, – говорил Макар Тимофеевич. – Вон послушаешь, что Америка во Вьетнаме вытворяет... У нас-то тут, правда, тихо, покой...
– Да, с ума посходили, черт те что, – говорил Даргиничев. – И китайцы тоже... Вроде свои были в доску... В райкоме я был на пленуме, слушал доклад – просто ужас...
– Волка сколько ни корми, он все в лес глядит, – говорил Макар Тимофеевич.
– Беда-а, – улыбался Даргиничев, дул на чай. – Я ехал сегодня, вспомнил, сколько мы повозили песочка на эту дорогу, сколько щебенки... Бывало, в октябре до Афониной Горы ни на тракторе не проедешь, ни на танке. Разве что на амфибии. В войну я на Сером только и ездил верхом, вброд ездил. Бывало, выедешь до рассвета, до Кондозера в сумерках доберешься, зуб на зуб не попадает. Весь мокрый. Заглянешь в бараки.
Там ленинградские девушки жили у меня... Боже мой, боже мой... Которые тебя кроют на чем свет стоит, которые не одеты совсем, которые плачут, которые веселы – боже мой...
– Помню, Степан Гаврилович, как не помнить. Конину для них добывали, на спирт выменивали в воинских частях выбракованных лошадей.
– Я и Серого тоже на спирт выменял, в артиллерийском полку, – сказал Даргиничев. – Хром он был на переднюю левую ногу. Потом выходился, как собака за мною бегал. Как собака. Да... Сравнить, что теперь им работать приходится, молодым, и что мы ломили – две разные эпохи. Две разные эпохи.
– И у них свои трудности есть, – сказал Макар Тимофеевич. – Хозяйство большое. Хвост вытянешь – нос увязишь. И народ ноне разбаловался.
– А воли много даем, – сказал Даргиничев. – Воли много даем, вот и набаловались. – Он поднялся уходить, приобнял хозяина. О сыне больше не вспоминал.
Макар Тимофеевич вышел за гостем во двор. Стемнело. Даргиничев сел в машину, пустил мотор.
– Ладно, Макар, пущай у тебя Гоша будет, раз приспичило ему. Знаю, что он у тебя, и ладно. Хоть мать с женой успокою, а то жужжат, спасу нет...
– Дак все он хочет, как лучше, Георгий-то Степанович. Вертится волчком. Тощой... Я ему молоко подливаю, ты, говорю, пей, пей, а он папиросу за папиросой... – Макар Тимофеевич говорил покладистым, мягким, добрым голосом.
Даргиничев не спешил уезжать, не захлопывал дверцу, словно что-то хотелось ему сказать дружку, деревенскому деду.
– От Нины Нечаевой я получил телеграмму. Помнишь, в сорок первом году, в декабре, их доставили к нам из Ленинграда, шестьсот душ?
– Помню, Степан Гаврилович, как не помнить. Хороша была девушка. Они ведь все, почитай, у меня перебывали: председатель райисполкома я был, Советская власть...
– Ни разу о себе не напомнила, двадцать пять лет с гаком... Сейчас ей под пятьдесят... Не забыла.
– Ну как такое забудешь, – сказал Макар Тимофеевич. – Ведь это смолоду жизнь обольщает – кажется, лучшее все впереди. А на старости лет как начнешь итожить: хорошего-то негусто выдалось. Кот наплакал. Хорошее не забудется, нет...
– Иди, зазябнешь, без хозяйки-то кто согреет?
– Счастливо доехать, Степан Гаврилович.
Глава вторая
1
Гошка приехал на Вальнигу пятилетком, мальчонком. Отец его привез на газогенераторной полуторке. Отец сидел за рулем, и еще в кабине сидел управляющий трестом Астахов. Гошка и помещался между коленями у Астахова. Он запомнил эту дорогу из Кундоксы на Вяльнигу, не всю дорогу, только длинную, длинную гору. Дядьки в шинелях и полушубках требовали чего-то от отца. Отцу надо было ехать на гору, но дядьки не пускали его. Из темноты возникали сердитые липа, искривленные рты. Всю гору заполнили люди, машины, лошади, пушки. Отец нажимал на гудок, но дороги ему не давали. Отец был в романовском полушубке, а дядя Ваня Астахов в пальто с меховым воротником и в пыжиковой шапке. Гошка слышал, люди в шинелях кричали отцу с дядей Ваней:
– Куда вас несет...
Дорога эта вела в Кобону, а затем через озеро – в Ленинград. Одна дорога была в Ленинград, они ехали этой дорогой. Тесно было на ней в сорок первом году, в декабре. Дядя Ваня Астахов вылез из кабины, и Гошка вылез, отец его высадил. Гошка замерз, жался к колонке, в которой горела чурка. Колонка была как печка.
– Пробочка еще та, – сказал Гошкин отец. И повторил: – Еще та пробочка. Пятиться надо да ночевать, – сказал он Астахову. – На Нергинском шлюзе тут изобка есть. Пятиться надо. Не пробьешься вперед.
Кто-то двигался сверху, краем дороги, в белом полушубке. Гонка понял, что это идет командир. С ним вместе шли люди и говорили что-то ему, но слышалась только его, командирская речь.
– А этот самовар еще откуда? – гремел командир. – Убрать! Очистить дорогу!
Гошка прижался к горячей колонке отцовской полуторки. Полуторка была для него как дом. Гошка боялся белого полущубка. Он прикажет своим военным, они поднимут полуторку и скинут ее с дороги.
Полушубок был близко совсем, Гошка видел большой револьвер у него на боку. Дядя Ваня Астахов шагнул к полушубку и взял его за ремень. Он притянул к себе командира дороги и обнял его. И командир тоже обнял Астахова.
– Сашка! – сказал дядя Ваня. – Я слышу, вроде голос знакомый, да больно ты страшно рычишь.
– Ах ты малютка, – сказал командир, – ну как там у вас, на верхних-то этажах, морозно чи нет? Гляжу, малютка стоит, верста коломенская, дорогу нам перекрыл. Ну, думаю, сейчас я из него шпал понаделаю – дорогу гатить. А это Ваня Астахов, молодой управляющий...
Они поговорили еще и поехали. Полушубок прокладывал им дорогу на гору. Медленно раздвигалась толпа. Надрывался мотор... В какой-то избушке, где было много замотанных тряпками женщин в островерхих ватных капорах-шлемах, отец, дядя Ваня и командир в полушубке стучали кружкою в кружку.
– За встречу! – говорил дядя Ваня. – Не встреть мы тебя – совсем бы пропали...
Командир говорил:
– И я не внакладе. Хоть горло прополоснул, а то пересохло. У нас тут горлом приходится брать.
Женщина в ватнике, толстая, серая, как копна, вдруг закричала:
– У, толстомордые! Мы там с голоду подыхаем, а они тут водку жрут, брюхо отращивают... Наши дети там гибнут... – Женщина повалилась на пол и залилась. Гошкин отец принес из машины что было: четыре буханки хлеба, окорок, сахар, пшено – и отдал. Дядя Ваня сказал, что поедем, пора. Гошка больше не помнил, что было, уснул. Он проснулся в натопленной комнате, дядя Ваня с отцом пили чай.
– Ну что, зимогор-путешественник, – сказал дядя Ваня, – натерпелся за ночь страху, а? Признавайся.
– Да не-е-е, – сказал Гошка. Он вспомнил, как дядя Ваня обнял того командира на страшной ночной дороге. Наверное, все командиры друзья дяде Ване. И Гошка подумал тогда, что дядя Ваня все может, что он самый главный над всеми. Отец тоже главный, но дядя Ваня главней.
2
Почему нет мамы, Гошка не спрашивал у отца. Ему сказали, что мама уехала к бабушке. Почему отец с дядей Ваней не подождали маму, а сели на полуторку и поехали куда-то? Почему долго-долго гудели в Кундоксе паровозы и что-то бухало, и подпрыгивал дом, и отец посадил Гошку в картофельный погреб, закутал его одеялом? Почему все люди, которых видел Гошка в дороге, были серого цвета, в шинелях, только папа и дядя Ваня и Вася-шофер черные? Шинели больше нравились Гошке. Люди в шинелях еще имели винтовки за спиной. А в мешках, наверно, гранаты и бомбы.
Все стало другое в мире, и Гошка не спрашивал – почему. Ему пошел пятый год, он принимал мир как безусловную данность. Что такое война? Почему? Гошка не задавался этим вопросом. Он изучал изменившийся мир, приноравливался к нему. Он знал, что одна колонка в полуторке горячая, а другая холодная, что отверстие внизу горячей колонки называется футорка, и в этой футорке виден огонь, что полуторку нужно топить сухой чуркой, тогда полуторка едет, а если ее не топить, то ехать нельзя.
– Иди погуляй, – сказал отец Гошке, – вон с дядей Васей, а ты, Василий, пригляди, где на изгородах жерди сухие, разрежем да поколем на чурки. Из изгороды хорошее для газогенератора топливо получается. Калорийное топливо.
Гошка, шмыгая носом, храня на лице серьезность, стал натягивать на себя пальтишко. Надел полушубок Василий, шофер Даргиничева, – он тоже приехал на полуторке, в фанерном фургоне, битком набитом в Кундоксе чуркой и опорожненном за дорогу.
– Может, какой домишко заодно разрежем на топливо? – сказал Василий и подмигнул. – Мужики все здоровые.
– Валяй, – сказал Даргиничев, – действуй. Щеки Гошке не застудите.
3
В дверь толкнулся морозный пар. Даргиничев налил в стаканы спирту и выпил до дна. Астахов глотнул, покривился, страдая, и снова глотнул.
– ...Ты вот что, Степан, – сказал Астахов, – ты мне это брось, понимаете, раскисать. – Разговор этот начат был раньше когда-то у них. – Воевать нам с тобой в лесу придется, факт. Без нашего лесу город погибнет. Я в сентябре в ополчение ушел, ключ от кабинета оставил табельщице. Военному делу нас обучали в казарме. На Обводном казарма была. Кино трое суток показывали: «Чапаев», «Мы из Кронштадта». Время ты знаешь какое было. По три винтовки нам дали на отделение – и выходи строиться. Перед самой отправкой на фронт я попросился у нашего взводного, ты знаешь его, Костя Чубаров, тоже лесник, разреши, говорю, в обком позвонить. И на Коноплева сразу попал. Так и так, говорю, Виктор Александрович, ухожу на фронт. «Да ты что, – Коноплев мне кричит, – с ума сошел, тоже вояка. Мы ищем тебя, с ног сбились. Немедленно приезжай». Я говорю, что не могу, я рядовым числился, воинского звания у меня никакого. «А ну, – говорит, – позови мне вашего комполка». Да... Пришел я в обком. Коноплев меня принял. «Собирайся, – говорит, – товарищ Астахов, у нас уже решение бюро есть, поедешь на Вяльнигу, в Кундоксу, лес в запонях остался, надо его спасать. Донбасс отрезан. Угля нет. Нефти нет. Без топлива город не может». Без наших дров, Степа, не спечь и ста двадцати пяти грамм хлеба... Да... Переплыл я озеро на буксире. Ты знаешь, какие были дела. Карголье сдали... Тяжело было, неясное, смутное время. Теперь положение стабилизировалось. Надо работать, Степан. Если мы лес погубим в вяльнижской запони, как людям в глаза смотреть будем? Когда я в Смольном был у Кузнецова, Алексей Александрович вот так меня пальцем взял за ремень, притянул к себе. Желваки у него играют на скулах. Ты должен его еще помнить по Боровичам, когда он там секретарем райкома комсомола был...
– Как же, – сказал Даргиничев, – помню прекрасно.
– Да. «Помни, – говорит, – Астахов, приговоры трибунала утверждаю я. Не выполнишь доверенного тебе дела – я тебе буду судьей». Потеплел, улыбнулся. «Желаю успеха», – говорит.
– Он такой, – сказал Даргиничев. – Требовательный человек. Требовательный человек... Я думаю, Иван Николаевич, работать-то с кем в лесу? С вами на пару?.. Да вон еще Гошку – сучки обрубать. Хорошая бригада будет. Здоровые мужики. Василия на трелевку поставим. На себя дров наработаем – избу стопить и в баньке помыться дров хватит. Здоровые мужики. На город ведь дров не наберешься, Иван Николаевич. И выйдем, аники-воины, зря топоры иступим. А люди воюют... В одиночку в лес соваться – людей насмешить. Без техники в лесу нечего делать. Лес тебя обломает, голыми руками лес не возьмешь. Отпустите меня на фронт, Иван Николаевич, я пользу кое-какую могу принести. И так, в рукопашном бою, и в тракторах разбираюсь, и в автомашинах. Пользу могу принести. А тут меня каждый солдатик шпыняет, каждая баба меня попрекает моим штатским пальтом, морду, говорят, наел на наших харчах, за спиной у нас, говорят, отсиживаешься, толстое рыло. Не могу я этого терпеть, – сказал Даргиничев. – Не могу терпеть. Обидно мне, Иван Николаевич. – Он стукнул себя кулаком в грудь – звук вышел, как колуном по чурке. Светлые, синие его глаза озерного северного жителя задернуло влагой. – Я этого не могу – как заяц, в лесу находиться. Работать – значит работать вместе с народом.
– Тебе что в военкомате-то сказали, в Кундоксе? – спросил Астахов.
– А то сказали, что я пришел домой да пушку на стол положил. Стакан спирту выпил, думаю – амба. Раз мне не верят, что я на фронте жизнь хочу положить за народ, значит, секим башка. Поставил на боевой взвод, к виску пушку прислонил, дай еще, думаю, выпью перед смертью. Больше уж не придется... А сколько у нас попито, Иван Николаевич...
– Да уж, было дело...
– Страху не было у меня перед смертью. Чего ж бояться-то ее? Бояться ее нечего, раз так вышло. Но обидно мне стало, Иван Николаевич. За что, думаю, Гошке-то быть сиротой? Какая вина моя перед народом? Задумался так, сижу, пушку от виска не отымаю. Тут Гошка в избу вбегает. «Папа, – кричит, – там дядя Ваня приехал, к нам идет...»
– Дурак ты, Степа, – сказал Астахов. – Дурья башка. Дров наломал, а от ответственности решил уклониться. Как гусарик проигравшийся. Так не пойдет...
– Я с ними, – сказал Даргиничев, – с такими, как Гунин, всегда был строгий. Они для меня не люди, а паразиты. Я строгий с ними. Такой у меня характер. Я их вот так вот беру, по-русски. – Даргиничев сжал свои большие, с квадратными ногтями пальцы в кулак, из рукава выпросталось здоровое запястье. – Я Гунину говорил: гляди, парень, я строгий бываю, когда меня доведут. Ты, говорю, хоть уполномоченный, для меня все одно что шишка на ровном месте. Ты, говорю, свои полномочия не превышай, меня на мой участок поставили управляющий трестом Иван Николаевич Астахов, секретарь обкома Виктор Александрович Коноплев. Я им подотчетный, говорю, народу подотчетный, а ты, говорю, тут болтаешься под ногами, как дерьмо в проруби... С Клавкой он путался, медсестра она, вместе с Алькой моей они в больнице работали. Как кошка с собакой жили. У той язык помелом, да и моя за словом в карман не лазила. Бабы. Поцапаются они, Клавка-то все ему и доложит. А он потом мне амбицию высказывает. Да все мне звание свое тычет, выставляет себя как бы главнокомандующим. Я в ихние бабьи склоки не лез. Залезешь, так и увязнешь по уши. А Гунин жужжал у меня под носом. Приходилось рукой от него отмахиваться. Мешало это в работе. Еще ладно, я человек спокойный. Характер у меня уравновешенный. Но лучше меня не дразнить. Жужжать жужжи, но близко меня не касайся. Этого я не терплю.
– Как получилось-то у вас? Подрались, что ли? – спросил Астахов.
– Просто получилось, – сказал Даргиничев. – Получилось просто, Иван Николаевич. Меня ответственным назначили по светомаскировке в Кундоксе. Все взяты на фронт. Нас и осталось ответственных работников-то: Прокофий Панфилыч, председатель поссовета, Григорий Алексеевич, начальник станции, Гунин да я. Вот я иду часов уже в десять, пошел проверить как окна завешены. Таких случаев не было, чтобы кто нарушал. Народ у нас добросовестный, с нашим народом работать легко... Иду, гляжу, в больнице окошко не занавешено. Белая шторка задернута, и лампа горит. Иллюминация, да и только. Я в окошко-то сунулся, вижу – Гунин с Клавкой. Я в раму кулаком, как следует быть, постучал, он в форточку выставил рожу. «Это кто еще тут нашелся?» – спрашивает. Я говорю: «Уполномоченный по светомаскировке Даргиничев. Немедленно, говорю, зашторьте окно, не то, говорю, будете отвечать по законам военного времени». А он на меня матюком. Ах ты, думаю, так, паразит... Тут уж я потерял над собой управление. Если б меня одного касалось, а тут ведь вражеский акт. Фашистам, говорю, сволочь, послужить хочешь... Взбежал на крыльцо в больницу-то, дверь у них на крючке, Я дернул, крючок-то с мясом... Окошко я распахнул – не замазано еще было – да лампу ихнюю фукнул в окошко. Гунин ко мне подскочил, не видит, темно, наганом меня в пузо тычет. Я наган у него отобрал, в карман себе сунул. Придешь, говорю, на квартиру ко мне, получишь. Сперва, говорю, научись оружием пользоваться, тогда применяй.
Даргиничев вдруг засмеялся, затряс большой головой. И все на лице его было большое: лоб, губы, нос. И рот был велик, и богат был зубами Степа Даргиничев. Смеялся он до слезы, утерся.
– От же, ей-богу, и смех и грех. В третьем часу ночи Гунин за мной пришел. С ним трое солдат с винтовками – из охранной роты. Нефтебазу они охраняли у нас. Забрали меня как абрека. Как абрека забрали. В кутузку заперли. Я по дороге у одного солдатика винтовку из рук вынул... Сильно они кричать начали, затворами щелкать. Я отдал. Держи, говорю, не бойся, служивый... Алевтина Петровна следом за нами к Прокофий Панфилычу на квартиру. Разбудила его. Он туда, сюда. Ничего не мог сделать: Гунин тут, на отшибе, кое-какую властишку себе присвоил – уполномоченный. В Карголье Прокофий Панфилович звонил в райком – связи нету. Мы не знали, что немцы под Карголье вошли. Так до утра я сидел за решеткой. А утром без меня жизнь в Кундоксе не начнется. Не для чего и с кроватей вставать. Движок не работает, электрик в армию взятый. От автобазы ключи у меня, главный механик мой тоже на фронт взятый, и конюх взятый, и лошадей без меня никто не может запрячь, на станции паровозы надо дровами заправить. Весь транспорт у меня, все топливо, вся энергия, все производство. А я в кутузке сижу, как абрек. Алевтина Петровна моя под окошком стоит вся в слезах. Я уж думал прут выломать в окошке, да поостыл к утру, зуб на зуб не попадает. Я ей говорю: «Беги к Григорию Алексеевичу, начальнику станции, он тебя в какую ни на есть теплушку посадит, до Карголья добирайся, Ивана Николаевича в известность поставить надо, что я в кутузке сижу».
Сам своими руками отправил я Алевтину Петровну в тартарары... Григорий Алексеевич в последний состав ее посадил. Больше поезда не ходили. Назавтра узнали мы, что в Карголье немцы...
Выпустили меня, конечно. Гунин замок отпирал... Поглядел так: «Я тебе, говорит, еще это припомню. Не на того попал». А я ему говорю: «Не время, говорю, личными счетами заниматься. Война, говорю, и надо все силы отдавать на борьбу с Гитлером. Надо, говорю, наши личные самолюбия спрятать поглубже в карман. Дело, говорю, у нас с тобой общее, а если погорячился, то тоже, говорю, для дела. Извини, если что». Из каталажки я прямо пошел, не завтракавши, в контору. На столе телефонограмма ваша лежит, готовить мехлесопункт к эвакуации. Работал три дня как волк. Как волк работал. Не спал, не ел, дома не был. На четвертый день Галина прибегает ко мне, из больницы сестра: «Больная наша, говорит, одна с Алевтиной вместе в вагоне ехала. Под Думовом их состав разбомбили. Которые пешие дальше пошли по путям, до Карголья там двадцать верст оставалось. И Алевтина пошла. Стреляли там, говорят, сильно».








