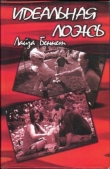Текст книги "Святая ночь (Сборник повестей и рассказов зарубежных писателей)"
Автор книги: Герман Гессе
Соавторы: Карел Чапек,Марсель Эме,Пер Лагерквист,Эрих Кестнер,Моррис Уэст,Артур Шницлер,Никос Казандзакис,Анна Зегерс,Стэн Барстоу,Теодор Когсвелл
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 40 страниц)
– А что потом? После родов? Появится ребенок! И тогда придется прятать уже не мать, а ребенка, чье рождение сразу все откроет и сделает принятые до тех пор меры предосторожности ненужными.
Вновь ей приходилось биться над проблемой, которую она порывалась решить, но которая петлей затягивалась у нее на шее. Раздумывать уже было некогда. Время день ото дня убывало, как убывает морская вода, волна за волной. Нельзя было больше ждать. Следовало как можно скорее уехать, вырваться из этого селения, где все глаза устремлены на них. Мадам де Ферьоль поступила как все отчаявшиеся люди, соблазнившись замыслом, который не спасет, но отдалит неминуемую, гибельную для них катастрофу. Она положилась на слова, какие обычно без особой веры говорят в подобных случаях: «В последнюю минуту, бог даст, выкрутимся», и нырнула вместе с дочерью, как в пропасть, в почтовую карету.
VIII
На эту необычную историю о тайном несчастье, свалившемся невесть откуда, невесть как, на двух женщин, укрытых во мраке горной впадины, но открытых всевидящему оку судьбы, в то же время накладывалась тень, еще более сгущавшая тьму, – тень от кратера вулкана под ногами у французов, в которой личные беды померкли перед общими. Когда мадам де Ферьоль покинула Севенны, начавшаяся французская революция еще не достигла такой стадии, чтобы ее поездка в Нормандию вызвала подозрения и встретила препятствия, на которые она бы натолкнулась позднее. Путешествие, хотя они и ехали в почтовой карете, было долгим и утомительным. Ластения так сильно страдала от тряски, карету так мотало из стороны в сторону – дороги тогда были много хуже, – что приходилось, терпя унижения от возниц, еще любивших удалую езду, каждый вечер останавливаться в гостинице не только для того, чтобы перепрячь лошадей, но и на ночлег. «Мы ползем, как катафалк», – с презрением говорили возницы, и они были ближе к истине, чем думали, везя почти бездыханную Ластению. Бледнея, подпрыгивая при каждом толчке кареты, наезжавшей на камень, она была на грани обморока.
Дьявол, гнездящийся в самых лучших и сильных душах, порождал тогда в душе баронессы ужасное желание. «Если бы только у нее был выкидыш», – думала она, но добродетельная женщина подавляла в себе такие мысли, подавляла, содрогаясь от того, что они вообще могли у нее возникнуть. Здесь, в карете, мать и дочь находились еще ближе друг к другу, чем во время их бесконечных посиделок у окна в форезском особняке. Они больше не разговаривали. Да и о чем им было говорить? Они все сказали… Они так ушли, погрузились в себя, что ни одной ни другой ни разу не пришло в голову высунуться в окно, чтобы попытаться найти развлечение в пейзаже, или проявить хотя бы малейший интерес к чему бы то ни было. Ничто не привлекало их внимания. Долгие часы своего многодневного путешествия они провели в молчании, еще худшем, чем попреки, не испытывая друг к другу никакой жалости, ожесточившись в своей непримиримости. Обе сердились друг на друга: одна – потому что не смогла ничего вытянуть из тупой и упрямой дочери, с которой теперь сидела нос в нос; другая – потому что несправедливая мать думала про нее такие вещи.
Длительное путешествие через всю Францию казалось крестным путем в сто пятьдесят лье для них обеих… и даже для Агаты, несмотря на то, что она радовалась возвращению на родину, потому что Агата страдала, когда страдала ее Ластения. Она по-прежнему думала о непонятном недомогании ее «лапоньки», против которого не помогают человеческие средства, и единственное, что может подействовать, – изгнание злых духов. Как-то раз она намекнула об этом мадам де Ферьоль, но та, несмотря на всю свою набожность, предложение отклонила, вызвав недоумение у благочестивой Агаты. Все же Агата решила, что по прибытии в Олонд она снова приступит к хозяйке с тем же. Уроженка Нормандии, она разделяла все суеверия своих земляков. В этих краях одним из самых древних, так как оно восходило еще к королю Людовику Святому, было почитание его духовника, блаженного Томаса де Бивиля. Агата намеревалась пойти босиком к гробнице святого, чтобы он пополнил число своих чудес, исцелив Ластению; а если это не поможет, она предупредит своего исповедника, что хочет изгнать из бедной девочки злого духа. Несмотря на бесконечную, не раз доказанную преданность баронессе де Ферьоль и на некоторую вольность выражений, Агата не отваживалась на многое при своей властной хозяйке, которой случалось затыкать ей рот одним только словом, а иногда и просто молчанием. Так, впрочем, действовала эта надменная женщина на всех окружающих, останавливая проявления симпатии, прорывавшиеся в избыточном почтении, и отправляя обратно на небо божественное Доверие, готовое спуститься к ней с распростертыми объятьями.
После многодневного путешествия они добрались наконец до Олонда. Если что-то и могло бы еще оживить расслабленное воображение мрачной немощной Ластении, так это веселые краски, сиянье дня, свет, струящийся с небес, когда они вышли из почтовой кареты, в которой всю дорогу она чувствовала себя как бы погребенной. Радостный блеск зимнего дня (на дворе стоял январь), какого она никогда не видела, даже весной, в Форезе, этом окруженном горами подвале, куда редкий луч проникал сверху, как через отдушину, затопил бы ее душу восторгом, если бы у нее еще была душа, но Ластении неожиданный всепроникающий поток света уже не мог принести отраду. В этот день под ярким солнцем, засиявшим после дождливой девятины, как говаривали в прибрежных западных районах, где такое бывает нередко, неподражаемо засверкали зеленеющие иногда до зимних морозов поля, и вечная зелень падубов, лоснящихся от дождя и вычищенных ветром, покрылась изумрудными блестками. Нормандия – зеленый французский Эрин, но Эрин (в отличие от настоящего) возделанный, тучный, плодородный, достойный олицетворять благодатные, блестяще осуществленные надежды, в то время как нищему английскому Эрину впору воплощать одну лишь безнадежность. К несчастью, все это оказало целительное действие только на Агату. У мадам де Ферьоль, которая отрезала последний связывавший ее с землей корень, покинув в севеннском захолустье могилу мужа, где она хотела покоиться после смерти, в голове теперь было лишь одно – во что бы то ни стало спасти честь дочери, и на нее этот край возымел действие ничуть не большее, чем на дочь, являвшую собой горестную колыбель ребенку, что появился, подобно злокачественной опухоли, на которую она так долго уповала.
Увы, обе они уже были равнодушны к красотам природы, обе лишились человеческих чувств в прямом смысле слова и со страхом это осознавали. Они еще любили друг друга, но ненависть – безотчетная ненависть – начала ядом просачиваться в загнанную вглубь, не имеющую выхода любовь, ожесточая и губя их, подобно тому, как отрава губит источник. Во власти этих противоестественных настроений, мадам де Ферьоль с дочерью обосновались в олондском замке, своем прибежище, со слепой беспечностью существ, не обремененных материальными заботами. Эту сторону их жизни обеспечивала Агата. Новые впечатления, самый вид родных мест, казалось, возвратили старой женщине молодость, и она с упоением вдыхала пропитанный любовью воздух своей страны – Агата справлялась со всем, избавляя дам де Ферьоль от всякого труда. Она составляла единственную компанию матери с дочерью, которые прибыли в замок, никого не предупредив, и не хотели никого видеть. Одними своими силами Агата превратила в жилое помещение, напоминавшее ей о юности, старый полуразрушенный замок, обитателей которого она знала как свои пять пальцев. Жалюзи она не открыла, но приотворила окна за почерневшими от времени, ржавыми ставнями, чтобы немного проветрить комнаты, пропахшие, как она говорила, «затлахом», – так в этих краях называли запах от плесени, появляющейся в сырых местах. Она выбила и протерла мебель, которая скрипела и разваливалась от дряхлости. Она вынула из шкафов груды пожелтелого за много лет белья, застелила кровати, предварительно согрев простыни, чтобы они, подобно всем старым простыням, долго находившимся в сложенном виде в шкафу, не напоминали телу о склепе. Несмотря на возвращение хозяев, внешний вид замка не изменился. Проходившим мимо крестьянам, которые и глядеть на него не глядели, словно замка не было вовсе, казалось, что в нем по-прежнему нет ни души. Замок, который они всегда видели на одном и том же месте со своими ставнями, заколоченными крест-накрест окнами, имел какой-то отлученный вид, как они говорили, употребляя церковное выражение из старых времен, глубокое и зловещее. Привычка видеть именно такой странную громадину запущенного замка, наводящего на мысль о смерти, притупила их восприятие.
Олондские фермеры жили достаточно далеко от жилища хозяев, чтобы остаться в неведении о том, что происходило в замке после тайного приезда дам де Ферьоль. Агата, которой было сорок лет, когда она исчезла вместе с похищенной мадемуазель д’Олонд, за двадцать лет отсутствия так изменилась, что никто уже не помнил ее и не узнавал, когда по субботам она приходила за провизией на окрестные базары. Просто появилась еще одна старая крестьянка, которая платила за продукты наличными и в одиночестве брела обратно по олондской дороге, не обмолвившись ни с кем ни единым словом… У нормандских крестьян так заведено: если сам ты молчишь, то и с тобой не заговорят. Они недоверчивы и открываются, лишь когда видят, что к ним делают первый шаг. За недолгое время, протекшее до развязки нашей истории, Агата не встретила в этом краю, где каждый занят лишь своими делами, ни одного любопытного, который стал бы приставать к ней с вопросами. Путь в Олонд почти всегда был пустынным, потому что замок стоял довольно далеко от дороги на Донневиль и Сен-Жермен-сюр-Эй. В замок Агата входила не через большую ржавую решетку внутренней ограды, полностью заслоняющей большой двор, а через низкую дверцу, скрытую за утлом садовой стены с обратной стороны дома. Перед тем, как вставить ключ в замок, благоразумная служанка, словно воришка, осматривалась крутом, но это было лишней предосторожностью: никогда на этих изрытых дорогах, где повозки по ось опускались в рытвины, она не видела ничего подозрительного.
Как она себе и обещала, мадам де Ферьоль зажила здесь еще уединеннее, чем в Форезе, буквально заточив себя в замке. Всегда дрожавшая перед матерью, послушная Ластения, которая с детства подчинялась любым ее решениям, теперь полностью деморализованная и упавшая духом, не воспротивилась одиночеству, на которое ее обрекала воля мадам де Ферьоль. Понятие чести, как ее понимает свет, меньше, чем мать, занимало несведущую ослабевшую девушку. Смоченная столькими слезами, ее душа стала мягкой глиной под суровыми руками матери-скульптора, перед которыми не устоял бы и мрамор. Агату, фанатически преданную Ластении и по-прежнему верящую в незапятнанную чистоту своей воспитанницы, это необычное таинственное одиночество не удивило. Она просто-напросто думала, будто мадам де Ферьоль захотела скрыть состояние Ластении, чтобы на родине баронессы не видели ее дочь такой изможденной и чтобы не сказали: «Вот что выгадала, вот с чем осталась мадемуазель д’Олонд после скандального похищения». И потом, Агата держала в голове чудодейственное средство для исцеления Ластении – обдуманный план паломничества к гробнице блаженного Томаса де Бивиля, а если блаженный не услышит ее молитв, то и план изгнания злого духа. Такова была последняя надежда Агаты, полной простодушной веры, – впрочем, вера всегда простодушна. Мадам де Ферьоль не встретила ни препятствий, ни возражений со стороны дочери и старой служанки, без которой она не смогла бы устроить себе такое затворничество. Олонд и вправду походил на монастырь – монастырь для троих, – но без часовни, без богослужения, и это вызывало у мадам де Ферьоль новые огорчения и угрызения совести. Ей даже под вуалью нельзя было сходить на обедню в приходскую церковь по соседству: и на минуту опасно было оставлять Ластению одну в последний месяц ожиданий и волнений.
«Из-за нее приходится пренебрегать своим религиозным долгом», – с ожесточением думала мадам де Ферьоль, а ведь долг довлел над этой янсенисткой больше, чем над кем-либо еще. «Она погубит нас обеих», – в запальчивости сурово добавляла баронесса. Постичь, как в глубине души страдает эта стойкая женщина, мог бы только тот, кто разделяет ее религиозные чувства. Есть ли такие люди? Маловероятно. Жилище, которое из-за его уединенности я сравнил с глухим сумрачным монастырем без монашек и часовни, скорее напоминало об удушливой тесноте кареты, во время путешествия казавшейся им гробом. К счастью (если подобное выражение уместно в столь горестной истории), замок-гроб был достаточно обширным и в нем можно было дышать хотя бы в прямом смысле слова. Достаточно высоки были и стены сада, и две затворницы могли незамеченными пройтись по нему, чтобы уж совсем не отдать богу душу от сидения на одном месте, как из ревности запертая Филиппом Вторым в комнате с зарешеченными окнами в четырнадцать месяцев умерла от одиночества деятельная принцесса д’Эболи, дышавшая тем же воздухом, который сама выдыхала: какая ужасная мука– умирать от удушья.
Однако через несколько дней Ластения перестала спускаться в сад. Она предпочитала лежать в своей комнате на шезлонге, который ночью занимала мать, – та всегда была тут, рядом, словно тюремщик, и даже хуже, чем тюремщик, потому что в тюрьме тюремщик не всегда рядом, а мать не отходила от нее, вечно бдящая, молчаливая, неумолимая в своем упорном молчании. Мадам де Ферьоль приняла решение, свидетельствующее о твердости ее характера. Она больше не разговаривала с Ластенией, ни в чем ее больше не упрекала. Баронесса, такая сильная, признала, что не может одолеть свою слабую дочь, и сила мадам де Ферьоль обратилась теперь на нее саму. Увы, молчание, и так всю жизнь тяготевшее над двумя женщинами, стало еще полнее. Теперь это было молчание двух мертвецов, заключенных в одном гробу, но мертвецов, не умерших, видящих друг друга, касающихся друг друга, – потому что доски сжимают их со всех сторон, – погруженных в вечное молчание. Похоронное молчание было для них самой невыносимой мукой…
Вопреки словам мистика Сен-Мартена, не молитвой дышит человеческая душа, дыханием ей служит речь, причем вся речь целиком, независимо от того, выражает она ненависть или любовь, проклинает или благословляет, молится или богохульствует. Потому обречь себя на молчание значит приговорить себя к удушению, хотя бы и не приводящему к смерти. Они и приговорили себя, сознательно, впав в отчаяние. Их обоюдное молчание было палачом для каждой. Мадам де Ферьоль, чью глубокую веру ничто не могло подорвать, хоть говорила с богом – вставала на колени в присутствии дочери и тихо молилась. Ластения же не молилась, не разговаривала больше с богом, как и с матерью, и даже улыбалась нехорошей, чуть презрительной улыбкой, глядя, как та, коленопреклоненная, читает молитвы около ее кровати. Для Ластении, придавленной судьбой, не было ни божественной, ни человеческой справедливости, раз не справедлива к ней мать. Ах, из двоих несчастнее всегда оказывалась Ластения. Агата, которую мадам де Ферьоль всегда держала на расстоянии, не осмеливалась приходить работать в комнату, где царило молчание; хотя Агата убивалась в душе из-за состояния Ластении, она в эти дни была занята тем, что входила во владение вещами, которые окружали ее в замке, где она провела юные годы, и которые, как Агата выражалась, «знали все». Она ходила по саду, около колодца, везде в одиночестве занималась хозяйством, о котором мадам де Ферьоль, по-видимому, и думать забыла. Без Агаты, кормившей их, как кормят детей или сумасшедших, они бы умерли с голоду, все во власти их снедавших мыслей.
IX
Однажды вечером баронесса различила очевидные симптомы скорых родов – ожидая это событие, она все же глядела на его приближение не без тревоги. Торжественное и грозное, оно могло из-за ее неопытности превратиться в трагедию и привести к смерти. Тем не менее мадам де Ферьоль подготовилась к нему, усилием воли справившись с нервами. Боли у Ластении были такие, что прошедшие через это женщины обмануться не в состоянии. Ночью Ластения родила. Когда начались схватки, мадам де Ферьоль посоветовала: «Вцепитесь зубами в простыню и постарайтесь набраться мужества». Оказалось, что мужества Ластении не занимать. Она ни разу не издала крика, который, правда, все равно никого бы не насторожил в доме, где и ночь не прибавляла тишины, настолько безмолвно было здесь днем. Единственно, кто мог услышать Ластению, так это Агата, но она спала в другом конце замка, и крик в любом случае до нее бы не дошел. Мадам де Ферьоль все предусмотрела. Однако, несмотря на меры предосторожности, ей на мгновение сделалось страшно. Ее обуял ужас перед неизвестностью – безрассудное неверие. Баронесса знала, что кроме них двоих никого тут нет, и все же дерзнула с бьющимся сердцем пойти распахнуть дверь, дабы удостовериться, что там никто не стоит, и глянуть в коридорную темень. Ей мерещилась присевшая на корточки Агата. Невозможно было, чтобы кто-то оказался за дверью. И все-таки она пошла, хотя ей было жутко, как человеку суеверному, ждущему, что сейчас из зияющей черноты ночи вынырнет вдруг привидение. Здесь же вместо привидения могла быть Агата. Не в силах унять дрожь, мадам де Ферьоль широко раскрытым взором всмотрелась во тьму коридора, потом, бледная от непроизвольного страха, одолевающего и храбрецов, вернулась к кровати, где в судорогах извивалась дочь, и помогла ей разрешиться от бремени.
Ребенок, произведенный на свет Ластенией, несомненно исчерпал все страдания, которые он ей причинил, пока она его носила. Отлученный от матери, он умер. Ластения походила на мертвеца, выродившего другого мертвеца. Можно ли и правда назвать одушевленным то, что продолжало жить в этой безжизненной девушке? Мадам де Ферьоль, все время, пока они ехали в Олонд, упрекавшая себя в желании, чтобы из-за какого-нибудь несчастного случая на дороге случился выкидыш, который спас бы будущность дочери, не могла не почувствовать глубокой радости от этой смерти, в коей никто не был виновен. Она возблагодарила бога за гибель ребенка, которого в мыслях мрачно окрестила «Тристаном», и преклонилась перед провидением, забравшим его еще до рождения, словно оно хотело уберечь баронессу и ее дочь от нового стыда, новой скорби. Для мадам де Ферьоль это тоже было избавлением. Смерть избавляла ее от ребенка, которого пришлось бы скрывать, как она скрывала его, – но какой ценой! – когда он был в чреве ее дочери, ребенка, который, будучи жив, покрыл бы лицо Ластении краской стыда, какую незаконнорожденные дети налагают на щеки матерей, подобно пощечине палача.
Однако жестокость не оставляла ее и в радости. Отторгнув ребенка от матери, она обратила его к Ластении:
– Гляди, тут твое преступление, но и твое искупление.
Ластения подняла мертвый взор на мертвого ребенка и, не выдержав, содрогнулась всем телом.
– Он счастливее меня, – только и прошептала она, в то время как баронесса, зорко вглядываясь в ее лицо, удивлялась, что, вопреки ожиданиям, оно не выражает нежности. Мать увидела на нем лишь выражение ужаса, извечного ужаса, столь привычное для Ластении, – от этого ужаса, казалось, ей теперь не уйти. Мадам де Ферьоль, женщина страстная, любившая – и какой любовью! – своего мужа, не усмотрела на этом изможденном от слез лице ни следа того, что все объясняет и оправдывает, – любви. Она бессознательно рассчитывала на эту решающую минуту родов, когда из материнского самопожертвования она сделается акушеркой у собственной дочери, чтобы об утере девственности знали только они двое и бог. Приходилось, однако, отказываться от надежды на последний луч света, способный проникнуть в тайну дочерней души. Луч надежды потух, когда Ластения разрешилась ребенком, не имевшим отца. В этот же час зловещей ночи – мадам де Ферьоль никогда не забудет, что ей довелось тогда испытать, – было, разумеется, в мире много счастливых женщин, рожавших живых младенцев – плоды разделенной любви, – которые выбирались из утробы матери на руки отцов, ошалевших от любви и гордости. Была ли среди них хоть одна, судьбой походившая на Ластению, – кого ночь, страх, смерть окутывали тройной тьмой, чтобы навсегда утаить не получившее имени дитя, о котором повествует наша печальная история.
Ночь – мрачная долгая ночь, – открытая тревогам, неотступным тревогам, не кончилась для мадам де Ферьоль. Новая забота предстала перед ней. Ребенок родился мертвым, слава богу, хотя это и ужасно. Но труп? Что делать с трупом, последним доказательством дочерней вины?
Как от него избавиться? Как стереть последний след постыдного поступка, чтобы для всех остальных он канул в небытие? Баронессе приходила на ум одна мысль, но эта мысль ее путала. Недаром, однако, она была нормандкой, потомком героев. Сердце баронессы могло разрываться или учащенно биться от страха, но она обладала властью над своим сердцем, – она всегда, пусть внутренне содрогаясь, делала все как надо, сохраняя при этом внешнюю бесстрастность. Когда Ластения погрузилась в сон, как погружаются в сон все роженицы, мадам де Ферьоль взяла мертвого младенца и, завернув его в одну из пеленок, которые сама сшила в долгие часы безмолвного сидения рядом с дочерью, – у той никогда не хватало сил для работы – вынесла из комнаты, позаботившись, чтобы дверь осталась запертой на ключ на время ее отсутствия. Она не знала, проснется ли Ластения, но железная рука необходимости повлекла ее, заставив пренебречь такой возможностью. Баронесса зажгла потайной фонарь и спустилась в сад, где, как она помнила, стоял забытый в углу старый заступ; именно этим заступом она имела мужество выкопать могилу для ребенка, в чьей смерти не было ее вины. Мадам де Ферьоль, некогда столь гордая, а теперь набожная и глубоко смиренная, похоронила его своими руками. Втайне копая в эту черную ночь роковую яму под всевидящими звездами, не способными ее выдать, она не могла не думать о детоубийцах, которые – не исключено, что в эту минуту, – где-нибудь совершают то, что под звездным небом ночной порой совершает она…
«Я хороню его, как если бы сама убила», – думала мадам де Ферьоль, и ей приходила на память жуткая история, которую она когда-то слышала, – о юной семнадцатилетней служанке, которая, родив ночью и задушив ребенка, утром (в воскресенье, день, когда она имела обыкновение ходить к мессе!) засунула его в карман юбки, продержала там во время всей мессы, а потом, на обратной дороге, бросила под арку пустынного моста, где никто не ходил… Эта мерзкая история преследовала, мучила мадам де Ферьоль. В ее жилах леденела кровь; дрожа, словно она была в чем-то виновата, баронесса утаптывала, уминала землю, наваленную на того, кто мог быть ее внуком; убедившись, что никаких следов могилы не видно, мадам де Ферьоль – вся бледная, как после совершенного преступления, хотя ничего такого на ее совести не было, – вернулась в комнату, где еще спала Ластения. Проснулась она в отупении, как любая роженица после тяжелых родов, и не выразила желания увидеть мертвого ребенка, которого произвела на свет. Можно было подумать, что она его уже забыла… Это заставило призадуматься мадам де Ферьоль, которая тоже молчала о ребенке в ожидании, что дочь заговорит о нем первая. Но – вещь странная, если не чудовищная, – та не заговорила… и никогда потом о нем не вспоминала. Неужели не хватало нежной Ластении, некогда столь пленительной, материнского чувства, без которого немыслима женщина; даже подвергнутые насилию женщины, разве они не любят, не оплакивают мертвое дитя? Ни в эту ночь, ни в последующие Ластения не вышла из молчаливого состояния апатии. Слезы по-прежнему текли по ее лицу, уже испещренному морщинками, и облик ее казался прежним, тем же, что и в последние шесть месяцев.
Оправившись от родов, Ластения никак не изменилась, если не считать живота, по сравнению со временем беременности. То же изнеможение, те же бледность, оцепенение, уход в саму себя, та же растерянность перед внешним миром, отупелое молчание, слабоумие. Порочащее Ластению неверие матери в ее невиновность, необъяснимая беременность нанесли ее сердцу неисцелимую рану, которая не переставала кровоточить.
Ее мать, отчаявшись дознаться до непостижимой теперь тайны дочернего проступка, смягчилась, – должно быть, будучи христианкой, вспомнила христианское изречение: «Всякий грех достоин сострадания». По крайней мере, она оставила свою обычную раздражительность, с которой, несмотря на твердый характер и силу воли, не в состоянии была прежде совладать. Если событие непоправимое, к нему привыкаешь, как, допустим, к смерти, но Ластения не соглашалась признавать непоправимость своего проступка. Из двух женщин сильнее чувство оказалось у более слабой. Ластения не изменила своего отношения к матери. Подобно увядшему цветку, оскорбленная Ластения не поднимала лица. Она была безжалостна к смирившей гнев матери. В ране у нее оставался нож, который нельзя было вынуть, – он так и зарастал вместе с раной: этот нож именуется злопамятством. После вынужденного лежания в постели, оправившись от родов, она встала, но по осунувшемуся лицу, вялости, изнеможению всего существа можно было решить, что лучше ей не вставать и что ее болезнь неизлечима, смертельна… Между тем Агата, надеявшаяся на возможный перелом к лучшему (чего не бывает?), видя, что ее обожаемый край, которому она приписывала способность совершать чудеса, бессилен помочь ее «лапоньке», все более утверждалась в мысли, что Ластения «во власти Сатаны», что она «одержима дьяволом». В конце концов Агата испросила у мадам де Ферьоль позволения отправиться к могиле блаженного Томаса де Бивиля – баронесса дала согласие.
К могиле блаженного Агата пошла босиком с простодушием средневековых паломников, какое, несмотря на распространившееся сегодня неверие, еще встречается в Нормандии, где живы древние обычаи. Она вернулась в Олонд после четырехдневного отсутствия, но вернулась в отчаянии и еще более грустной, чем когда отправлялась в путь. Теперь Агата сомневалась в возможности чуда, которого она просила с непоколебимой убежденностью, потому что веру в ее душе, открытой для всех влияний и обычаев той среды, в которой прошли ее юные годы, смущало одно непостижимое ужасное обстоятельство. Агата разделяла верования своих земляков, но разделяла и их суеверия. Собственными глазами – телесными своими очами – она увидела жуткую вещь, о которой сотни раз слышала в детстве, и увиденное Агатой служило для нее, как и для любого из местных крестьян на ее месте, предзнаменованием смерти.
Она возвращалась по дороге на Олонд и очень опаздывала из-за того, что устала и шла босиком согласно обету, который дала, вымаливая исцеление для Ластении. Стояла уже глубокая ночь, Агата очутилась в открытом поле без признаков жилья, ни вблизи, ни вдалеке не было видно путников. Место уединенное, непроницаемая тишина. Агата спешила, потому что была одна, но она не боялась ни одиночества, ни тишины. Сердце у нее было спокойно, как и совесть. Утром она причастилась, и теперь божественный покой разливался, затопляя ее душу. Как утренняя облатка распространяла его в душе Агаты, так луна, давно уже вставшая, распространяла божественный покой по окрестным полям, и они гляделись друг в друга в безмятежной ночи. Внезапно на проселочной дороге, время от времени сужавшейся, – в этом месте шириной она напоминала тропинку, – на повороте, Агата заметила достаточно далеко, в голубоватом лунном свете, что-то белеющее, она решила, что это туман, начинающий подыматься над землей, всегда немного влажной в прибрежных районах Нормандии. Однако, приблизившись, Агата явственно увидела гроб, лежавший поперек дороги. По древним верованиям, принятым в этих краях, если светлой ночью наткнешься на таинственный гроб и ни одного человека не будет рядом, словно те, кто несли его, разбежались, жди близкой смерти, предотвратить которую, как считается, может лишь смельчак, который приподнимет гроб и перевернет его задом наперед. Если кто принимал это за обман чувств и безрассудно шел дальше, дерзко перешагивая через гроб, как через бревно, такого человека, как рассказывали, поутру находили без сознания на том же самом месте; за год после этого он превращался в жалкую тень и умирал. По натуре Агата была отважной и слишком набожной, чтобы очень уж бояться смерти, но не о своей смерти она подумала, а о смерти Ластении. Несмотря на набожность и отвагу, она на какое-то мгновенье замерла перед гробом, который по мере ее приближения становился все более ясно различимым, более осязаемым. В свете луны, походящей на бледное призрачное солнце, он четко вырисовывался, выдавался на черной тропинке между двумя рядами деревьев.
«За себя, может, у меня бы не хватило мужества его перевернуть, – подумала Агата, – но за Ластению…» Она опустилась на колени прямо в рытвину и, прочитав десяток молитв – в молитвах Агата черпала силу, – перекрестившись, наконец решилась…
Однако гроб был слишком тяжел для Агаты, и это поразило ее в самое сердце, ведь печального жребия и смерти, которую он предвещал, можно было избежать, лишь перевернув гроб, ей же недоставало сил. Гроб не поддавался, слишком много он весил. Агата напряглась что было мочи, но без толку. Страшный гроб, казалось, насмехался над ней. Словно приколоченный к земле, он даже не шевельнулся. «Коли он такой тяжелый, там, должно быть, мертвец», – подумала Агата. В мыслях у нее по-прежнему была Ластения. Она так жаждала справиться с гробом, что, казалось, ее страстного желания достаточно было, чтобы свернуть горы, но четыре жалкие сосновые доски не отрывались от земли. В отчаянии от своей слабости и от недоброго предзнаменования Агата начала молиться… но опять тщетно. В подавленном состоянии (и потом, не могла же она здесь заночевать) Агата протиснулась между гробом и деревьями. Теперь ее подстегивал страх. Дрожь пробирала руки, только что прикасавшиеся к гробу, в чьем физическом существовании убедилась ее плоть. Однако, отойдя на некоторое расстояние, она почувствовала угрызения совести и храбро сказала себе: «А если попробовать еще?»
Но, повернувшись, она увидела лишь дорогу, прямую дорогу, где ничего не было. Гроб исчез. Агата даже не узнала место. Дорогу между двумя рядами неподвижных, освещенных луной деревьев покрывала тень, ветра не было – вещь удивительная в этом приморском крае. «Бог не дышал, – рассказывала она потом. – Воздух же без дуновения во власти духов, которые суть демоны». Страх обуял ее, охватил душу в эту безветренную ночь, когда и лунный свет, как представлялось Агате, не походил на обычный лунный свет. Она заспешила, прибавила шагу, но и луна слева от нее, у линии горизонта, тоже, казалось, перемещалась вместе с ней, словно увязавшаяся за Агатой голова мертвеца; Агата сама шла бледная как смерть, и зубы ее стучали. После развилки дороги луна, прежде державшаяся сбоку, оказалась за спиной. «Я подумала, – говорила Агата много времени спустя, когда при воспоминании об этой ночи у нее холодела кровь, – что голова мертвеца, катясь по небу, преследует меня, настигает, чтобы обломать мои старые ноги, и я уже никогда не доковыляю на них до дома».