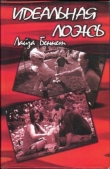Текст книги "Святая ночь (Сборник повестей и рассказов зарубежных писателей)"
Автор книги: Герман Гессе
Соавторы: Карел Чапек,Марсель Эме,Пер Лагерквист,Эрих Кестнер,Моррис Уэст,Артур Шницлер,Никос Казандзакис,Анна Зегерс,Стэн Барстоу,Теодор Когсвелл
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 40 страниц)
Надо что-то сказать Коппертуэйту? Намекнуть, что костюм не худо возвратить владельцу? Когда Коппертуэйт состоял на службе у Энтони, он недвусмысленно давал понять, что носить форменную одежду не желает; это, мол, будет значить, что он как бы находится в услужении, да и в любом случае Энтони ни к чему такой шик, такая показуха, запросы у него обыкновенные. Энтони и сам представлял: друзья приходят проводить его в дорогу (такое иногда бывало) и видят у тротуара его подлатанную, далеко не первосортную машину, а рядом шофер в форменной одежде – и какой! «О-о, Энтони, – говорят они, – ну ты силен!»
В квартире стояла тишина, но Энтони было не по себе, он вышел из дому и сделал круг по квадратному кварталу (если по квадрату можно ходить кругами). Шел он медленно, точно ноги были закованы в кандалы мыслей, ища какой-то компромисс с моральными принципами. Может, лучше вернуться? Идти в спасительную обитель или нести свой крест? Сказать Коппертуэйту, чтобы вернул американцам нажитое неблагим путем, или махнуть на это рукой?
На противоположной стороне квартала стоял «роланд-рекс» (теперь Энтони знал его очертания слишком хорошо), припаркованный возле дома его владельца. За рулем в безукоризненной форменной одежде, точь-в-точь как у Коппертуэйта, сидел, а точнее, дремал шофер. Он выглядел частью интерьера машины, частью самой машины. Одет в цвета машины, фигура его словно дополняла, воспроизводила линии машины, неподвижность его была под стать неподвижности машины. Два механизма слились воедино, и разве есть между ними разница?
Энтони описал полный круг и вернулся к своему дому.
Его машины перед домом не было. Тогда он пошел к гаражу и нажал кнопку. Двери распахнулись, и взору его предстали несколько скособоченных металлических коробов, в которых жильцы держали свои машины. Он вспомнил номер своего: 5А. Поначалу он увидел свою машину и ничего больше, но тут же приметил: из-под капота торчала пара ног в крагах.
– Коппертуэйт! – позвал он, почти не ожидая ответа.
Однако, немного поелозив ужом, Коппертуэйт выбрался на свет божий – такой замызганный в своем комбинезоне, столь непохожий на лощеную личность, каковой он был лишь час назад, что поверить в это превращение было выше человеческих сил.
Чуть запыхавшись, Коппертуэйт поднялся.
– Да, сэр?
– Просто хотел узнать, – сказал Энтони, – как у вас идут дела.
– Очень хорошо, сэр, – ответствовал Коппертуэйт, стремясь скрыть легкое раздражение – вот пришел отрывать от работы. – Очень хорошо. Правда, боюсь, с машиной придется здорово повозиться. Ее, сэр, совсем забросили.
Энтони промолчал.
– Да, сэр, забросили, а машины, ясное дело, этого не любят.
– Как и люди, надо полагать, – эти слова напрашивались сами собой.
– Да, как и люди, – повторил Коппертуэйт, вытирая лоб влажным платком, но не стал подлаживаться под Энтони, вставать на его точку зрения. – Только люди могут сами о себе позаботиться.
Он окинул машину хозяйским взглядом, в котором читались сострадание, забота и обожание – да, именно обожание.
Внезапный импульс побудил Энтони задать вопрос, который он нипочем не задал бы при обычных обстоятельствах, будь у него время подумать:
– Почему вы оставили великолепную работу у американского джентльмена на другом конце квартала? Мне казалось, да вы и сами говорили, что мечтаете работать на «роланд-рексе».
– Так оно и было, сэр, – сразу ответил Коппертуэйт, переводя взгляд на видавшую виды машину Энтони. – Я скажу, почему… почему я там не остался. Конечно, и деньги там хорошие, и хозяин давал мне все, чего я желал, и форменную одежду, которой я не желал вовсе. Я ушел, потому что…
– Почему?
– «Роланд-рекс» – машина идеальная. Работает как часы.
– Так в чем же дело?
Коппертуэйт посмотрел на Энтони с жалостью – надо же, не понимает простых вещей.
– Да в том, что она не нуждалась в моей помощи. Она всегда была в полном порядке, я ей был не нужен, не мог… Не мог слиться с ней, она была мне как чужая. Я сидел там будто чучело – эта машина может сама ухаживать за собой, она, если на то пошло, и водить себя может сама, без меня…
Он смолк и еще раз посмотрел на дряхлую колымагу Энтони.
– Ваша машина, сэр, – не «роланд-рекс», но, пока вы в ней ездите, вы будете ездить со мной.
Это замечание показалось Энтони несколько туманным.
– Конечно, с вами, сам-то я не вожу, но что вы хотите этим сказать: я буду ездить с вами и с ней?
– Хочу сказать, что я и машина – одно целое.
Энтони постарался постичь смысл сказанного.
– Неужели эта машина так много для вас значит? – спросил он в крайнем изумлении.
– Да, сэр. Очень даже много, как и вы, сэр, хотя чуть по-другому, уж не взыщите.
До Энтони донесся звон церковных колоколов.
– Боже правый, сегодня воскресенье! – воскликнул он. – Все в голове перемешалось – я-то вас ждал только в понедельник.
– Один день погоды не делает, верно?
– Разумеется. – Интересно, подумал Энтони, а где Коппертуэйт провел субботнюю ночь? – Между прочим, я тут гулял по кварталу и заметил, что у вашего бывшего хозяина – новый шофер.
Коппертуэйт пожал плечами.
– Да, мистер Дьюк не из тех, кто долго размышляет и приноравливается, а во-вторых, кругом полно типов, которые и от выходного откажутся, если им замаячит солидная работа с форменной одеждой в придачу.
Колокола зазвонили громче. Дело шло к одиннадцати.
– Пожалуй, мне пора, – сказал Энтони Коппертуэйту, который, извиваясь, ползком, на сей раз ногами вперед, медленно скрывался из виду, будто машина сильными осьминожьими щупальцами неотвратимо засасывала его в свое темное нутро.
На перевернутом лице Коппертуэйта появились следы блаженства.
– Если вы идете в церковь, сэр, – сказал он, подергивая плечами, будто в конвульсиях, – помолитесь за меня.
– С удовольствием, – согласился Энтони. – Какую молитву предпочитаете?
– Право, сэр, не знаю, вы в молитвах разбираетесь лучше, просто помолитесь чуть-чуть за меня и как следует за машину.
– Но ей, наверное, уже никакие молитвы не помогут?
– Пока я здесь – помогут, – и с этими словами изможденное, грязное, но счастливое лицо исчезло под капотом.
Может, молитвы Энтони сделали свое дело?

Марсель Эме
БЛАГОДАТЬ
Перевод Е. Лившиц
 учшим христианином улицы Габриель, как, впрочем, и всего Монмартра, был в 1939 году некий господин Дюперье, человек столь набожный, столь праведный и сострадательный, что господь бог не стал дожидаться его смерти, а прямо в расцвете лет увенчал его голову не меркнущим ни днем ни ночью ореолом. Созданный из нематериальной субстанции, подобный нимбам в раю, он представлял собой беловатый кружок, как из плотного картона, с дыркой посередине, и излучал неяркий свет. Г-н Дюперье носил его с благодарностью и без устали возносил хвалу небу, отметившему его знаком, который в своем смирении он не осмеливался расценивать в качестве формального обещания насчет будущей загробной жизни. Он был бы, вне всякого сомнения, счастливейшим из людей, если бы его жена, вместо того чтобы радоваться особой милости бога, не проявляла бы досады и раздражения.
учшим христианином улицы Габриель, как, впрочем, и всего Монмартра, был в 1939 году некий господин Дюперье, человек столь набожный, столь праведный и сострадательный, что господь бог не стал дожидаться его смерти, а прямо в расцвете лет увенчал его голову не меркнущим ни днем ни ночью ореолом. Созданный из нематериальной субстанции, подобный нимбам в раю, он представлял собой беловатый кружок, как из плотного картона, с дыркой посередине, и излучал неяркий свет. Г-н Дюперье носил его с благодарностью и без устали возносил хвалу небу, отметившему его знаком, который в своем смирении он не осмеливался расценивать в качестве формального обещания насчет будущей загробной жизни. Он был бы, вне всякого сомнения, счастливейшим из людей, если бы его жена, вместо того чтобы радоваться особой милости бога, не проявляла бы досады и раздражения.
– Ну на что это похоже? – причитала она. – В каком свете ты выставляешь меня перед соседями и лавочниками, не говоря уже о кузене Леопольде? Нашел чем гордиться. Да это просто смешно. Увидишь, сколько пойдет разговоров.
Г-же Дюперье, этой превосходной женщине, известной благочестивым и нравственным поведением, еще не открылись тщета и суетность земного бытия. Как и многим другим, кого необдуманное слово способно сбить с пути истинного, ей представлялось более существенным угодить собственной консьержке, чем быть угодной своему создателю. Страх перед объяснениями, которые, быть может, придется давать соседке по площадке или молочнице, с первых же дней дурно отразился на ее характере. Она без конца принималась стаскивать светящийся круг, украшавший чело ее супруга, – пойди-ка поймай солнечный луч, – но не сдвинула его ни на волос. Охватывая лоб у корней волос, ореол спускался довольно низко на затылок, и небольшой наклон в сторону правого уха придавал ему оттенок кокетства.
Предвкушение вечного блаженства не заставило Дюперье забыть о своем долге по отношению к душевному покою жены. Сам он был слишком скромен и непритязателен, чтобы не сочувствовать ее переживаниям. Дары бога, особенно когда они кажутся не совсем заслуженными, порой не только не встречают должного уважения, но становятся предметом скандала. Дюперье сделал все от него зависящее, чтобы остаться как можно более незаметным. Отказавшись, не без сожаления, от головного убора, бывшего в его глазах незаменимой принадлежностью людей бухгалтерской профессии, – от котелка, он нахлобучил светлую фетровую шляпу с широченными полями, а чтобы полностью скрыть ореол, ее пришлось залихватски сдвинуть на затылок. Теперь прохожие вряд ли могли усмотреть в его облике нечто из ряда вон выходящее. Поля его шляпы несколько фосфоресцировали, что при дневном свете вполне могло сойти за блеск шелковистого фетра. На работе Дюперье также удалось избежать интереса сотрудников и директора. На крохотной обувной фабрике в Менилмонтане, где он работал бухгалтером и занимал закуток между двумя цехами, отделенный стеклянной перегородкой, его обособленность гарантировала ему защиту от нескромных вопросов. Он принял решение не обнажать голову ни в какой час дня, и никто не полюбопытствовал, из-за чего.
Но все эти предосторожности не снимали беспокойства г-жи Дюперье. Ей чудилось, что ореол мужа уже стал предметом пересудов всей округи. Она выходила на улицу с опаской, и от страха у нее перехватывало дух и подкашивались ноги. Смех слышался ей на каждом шагу. Для этой добропорядочной женщины, чье честолюбие ограничивалось принадлежностью к определенному общественному кругу и не шло дальше стремления соблюдать его законы, столь явная необычность, поразившая Дюперье, легко переросла в катастрофу. К тому же абсурдность этой необычности сделала ее в глазах г-жи Дюперье просто чудовищной. Ничто не могло ее заставить выйти на улицу вместе с мужем. Вечера и воскресные дни, проходившие обычно в прогулках и визитах к друзьям, превратились в сидение дома вдвоем, и эта вынужденная близость становилась с каждым днем все тягостнее. В гостиной светлого дуба, где от обеда до ужина тянулись долгие часы бездействия, г-жа Дюперье, не способная связать ни петельки, растравляла себе душу созерцанием ореола. Занятый по большей части благочестивым чтением, Дюперье ощущал прикосновение ангельских крыл, и блаженная радость, освещавшая его лицо, еще больше взвинчивала супругу. Муж не раз участливо поглядывал на нее, и недоброжелательность и неодобрение, читавшиеся в ответном взгляде, вызывали в нем некоторые угрызения совести, не идущие конечно же ни в какое сравнение с признательностью, которую он питал к небесам, что в свою очередь вызывало новые укоры совести.
Столь мучительное положение не могло продолжаться без конца, не нарушая душевного равновесия бедной г-жи Дюперье. Вскоре она пожаловалась на то, что свет ореола не дает ей заснуть. Дюперье, пользовавшийся иногда этим божественным источником, чтобы почитать Евангелие, не мог отказать супруге в обоснованности ее претензий и начал испытывать острое чувство вины. Наконец некоторые события, весьма печальные по последствиям, довели недомогание г-жи Дюперье до острого нервного кризиса.
Однажды утром по дороге на работу в нескольких шагах от дома, на улице Габриель, Дюперье встретил похоронную процессию. Как правило, насилуя свою природную вежливость, при встрече со знакомыми он ограничивался прикосновением к шляпе, но при встрече со смертью он не счел возможным уклониться от обнажения головы. Множество торговцев, скучающих на пороге своих лавок, протерли глаза при виде ореола и немедленно объединились для выяснения его происхождения. Когда г-жа Дюперье вышла за покупками, в нее вцепилась вся компания, и, растерявшись, она принялась отрицать все с такой горячностью, которая не могла не показаться подозрительной. В полдень вернувшийся к завтраку муж застал ее в столь возбужденном состоянии, что у него появились опасения за ее рассудок.
– Сейчас же сними ореол! – кричала она. – Снимай его немедленно! Не желаю его больше видеть!
Дюперье в бесчисленный раз продемонстрировал, что не в их власти от ореола избавиться, тогда голосившая супруга заявила:
– Если бы ты хоть немного был ко мне привязан и питал хоть каплю чувства, то уж, верно, нашел бы средство снять его с головы, но ты был и остаешься эгоистом.
Из осторожности Дюперье не подал виду, что слова супруги заставили его задуматься. Новый инцидент на следующий же день еще больше продвинул его в этом направлении. Дюперье никогда не пропускал первой мессы и, с тех пор как на него сошла благодать, слушал ее в соборе Сакре-Кер. Ему поневоле приходилось снимать шляпу, но церковь достаточно велика, и в этот утренний час паства так немногочисленна, что всегда можно спрятаться за колонной и остаться незамеченным. Но в то утро он, наверное, не проявил должной осмотрительности. По окончании службы, у выхода, какая-то старая дева бросилась ему в ноги с криком: «Святой Иосиф! Святой Иосиф!» – и целовала полу его пальто.
Не блещущий особыми талантами, святой Иосиф все же отличный святой, но его скромные домашние добродетели, занятие ремеслом, добродушие и снисходительность, кажется, сослужили ему дурную службу. Действительно, есть немало людей, и среди самых набожных, которые, не отдавая себе в том отчета, с наивным сочувствием относятся к его роли в Рождестве. Образ добродушного простака еще потому так устойчив, что на него накладывается образ другого Иосифа, уклонившегося от авансов жены Потифара. Г-жа Дюперье и так была не особенно высокого мнения о предполагаемой святости своего мужа, но эта восторженная поклонница окончательно выставила ее на посмешище и дала ей почувствовать всю меру ее стыда. Не помня себя от гнева, она прогнала обожательницу ударами зонтика и разбила не одну стопку тарелок. Мужа она встретила хорошей истерикой, потом, придя в себя, сказала решительно:
– В последний раз я требую, чтобы ты избавился от него. Я знаю, что это в твоих силах. Да ты и сам знаешь.
Он понурил голову, не осмеливаясь спросить, что она замыслила, но жена высказалась до конца:
– Все очень просто. Надо только согрешить.
Дюперье ничего не возразил и удалился с молитвой в спальню. «Господи, – сказал он, переходя к сути дела, – Вы удостоили меня высшей награды, какая может ожидать человека на Земле, за исключением мученичества. Благодарю Вас, Господи, но я женат и делю с женой хлеб испытаний, который Вы ниспосылаете мне, как и мед Вашей милости. Только так благословляемая небом чета может следовать указанным Вами путем. Жена моя воистину не в силах переносить не только вид, но и самою мысль о моем ореоле, и не потому, что это знак благосклонности небес, но просто потому, что это ореол. Вы же знаете женщин. Если необычное явление не убивает сразу и наповал, потом все время спотыкаешься об их представления, которые они вбили себе в умишки. Тут ничего нельзя поделать, а проживи моя жена еще сто лет, в созданной ею вселенной все равно не найдется места моему нимбу. О Господи, читающий в моей душе, Вы знаете, сколь чужда мне забота о личном благополучии и как мало дорожу я своим спокойствием и домашними шлепанцами. За один знак Вашего благоизъявления я выстоял бы, не дрогнув, самые бурные семейные сцены. К несчастью, речь идет не о моем личном покое. Жена моя теряет вкус к жизни. Хуже того, я предвижу день, когда из-за ненависти к моему ореолу она проклянет имя Того, кем был он мне дарован. Могу ли я равнодушно допустить смерть и погибель души подруги, которую Вы мне выбрали в спутницы жизни? Я стою сейчас на распутье, и более надежная дорога не кажется мне самой милосердной. Пусть глас высшей справедливости отзовется в моем сердце, эту молитву я слагаю к Вашим пресветлым стопам, о Господи».
Едва он закончил молитву, как сердце его тотчас высказалось за путь греха, в котором он усмотрел долг христианского милосердия. Он вернулся в гостиную, где ждала его, скрежеща зубами, супруга.
– Господь справедлив, – сказал он, запустив большой палец за пройму жилета. – Он знал, что творил, давая мне нимб. Я заслуживаю его больше, чем кто-либо другой. Таких, как я, днем с огнем не сыскать. Как подумаю о низости человеческого стада и, с другой стороны, о всех совершенствах, заключенных в моей особе, мне хочется плевать в лицо прохожим. Бог вознаградил меня, это правда, но, если бы и церковь думала о справедливости, разве не пристала мне роль ну не меньше, чем архиепископа?
Дюперье избрал грех гордыни, позволявший ему, превознося собственные достоинства, восхвалять также бога, отметившего их. Жена быстро поняла, что он решительно начал грешить, и сразу включилась в игру:
– Мой несравненный, – сказала она, – как я горжусь тобой! Да со своими машиной и виллой в Везине кузен Леопольд и мизинца твоего не стоит.
– И я так думаю. Я мог бы разбогатеть не хуже других, и уж больше, чем Леопольд, если бы только дал себе труд. Но я избрал иной путь, и мой успех совсем иного порядка. Его деньги я презираю, как презираю и его самого, и все скопище тупиц, не способных оценить величие моего скромного существования. Ибо у них есть глаза, но они меня не видят.
Эти слова, произнесенные через силу и скрепя сердце, стали за несколько дней легким и привычным упражнением, не требующим каких-либо усилий. И таково влияние сказанного на человеческий мозг, что Дюперье сам себе поверил. Его гордыня, в которой не осталось и следа напускного бахвальства, сделала его невыносимым для окружающих. Но жена, с тревогой следившая за немеркнущим нимбом, пришла к выводу, что греху ее мужа не хватает убедительности и весомости. Дюперье охотно с ней согласился.
– Истинная правда, – сказал он. – Я-то думал, что чванюсь, а констатировал простую очевидность. Когда подобно мне поднимаешься на высшую ступень совершенства, слово «гордыня» становится неуместным.
Он не прекратил превозносить свои добродетели, но признал необходимость испробовать себя в ином амплуа. Ему казалось, что из всей гаммы смертных грехов чревоугодие больше других отвечает его намерениям: избавиться от нимба, не слишком компрометируя себя перед небом. Это отношение к чревоугодию укрепилось в нем еще с детскими воспоминаниями о легких выговорах, следовавших за излишествами в области варенья и шоколада. Преисполненная надежд супруга принялась готовить ему изысканные блюда, высокие кулинарные качества которых еще больше подчеркивались их разнообразием. Со стола четы Дюперье не сходили пулярки и паштеты, отварная форель, омар, салаты и закуски, конфеты и фигурные торты, а также хорошее вино. Обед длился теперь в два, а то и в три раза дольше прежнего. Вид Дюперье, обвязанного салфеткой, красного, с осоловелыми глазами, жующего, запивающего филейный кусок или болонскую колбасу добрым глотком клерета, шумно глотающего, обливающегося соусами и муссами и рыгающего в своем ореоле, представлял собой зрелище отталкивающее и отвратительное. Вскоре хорошая кухня и обильные обеды пришлись ему по вкусу, и он не раз выговаривал жене за пережаренную баранину или дурно взбитый майонез. Как-то вечером, раздраженная его брюзжанием, супруга заметила ему сухо:
– Твой нимб не поддается. Похоже, что и он разжирел от моей стряпни. Короче, если я что-нибудь смыслю, чревоугодие – не грех. Его единственный недостаток в том, что оно дорого стоит, но не понимаю, почему бы снова не перевести тебя на овощные супы и макароны.
– Пока что заткнись! – прорычал Дюперье. – Меня – на макароны, на овощи? Еще чего не хватало! Я, кажется, знаю, что делаю, да?! На макароны! Нет, какова наглость! Впадай после этого в грех, чтобы услужить женщине, и вот чем тебе отплатят! Молчи лучше! Не понимаю, что спасает тебя от хорошей оплеухи.
Один грех влечет за собой другой, и потревоженное чревоугодие привело к гневливости, не без помощи гордыни между прочим. Дюперье уступил этому новому греху, то ли стараясь для пользы жены, то ли следуя природным наклонностям. Этот человек, известный мягкостью и приветливостью, взрывался в громогласных тирадах, чуть что – бил посуду и, случалось, не отказывал себе в удовольствии поколачивать жену. Приступы гнева у него участились, что не исключало гордыни или чревоугодия. Он грешил теперь в трех ипостасях, и г-жа Дюперье мрачно рассуждала о не знающей границ снисходительности всевышнего.
Но лучшие добродетели не могут увядать в душе, оскверненной грехом. Гордыня, чревоугодие и гневливость не изгнали христианского милосердия, Дюперье сохранил высокое представление о своих обязанностях мужчины и супруга. Видя равнодушие неба к его приступам гнева, он начал склоняться к зависти. По правде сказать, зависть и помимо его воли уже поселилась у него в сердце. Обильный стол, действующий на печень, и гордыня, обостряющая чувство несправедливости, побуждают лучшего из людей завидовать своему ближнему. Сварливость придала голосу завистника Дюперье злобные нотки. Он принялся завидовать родственникам, друзьям, начальнику, соседям-лавочникам и даже звездам спорта и кино, чьи портреты печатались в газетах. Все портило ему настроение, и он начинал трястись от мелочной злобы при мысли о том, что у соседа по площадке есть серебряный нож для разрезания бумаги, а у него самого – обычный костяной. Но нимб сиял, как и прежде. И вместо того, чтобы подивиться этому, он сделал вывод, что грехи его иллюзорны, и приводил неоспоримые доказательства того, что его чревоугодие не выходит за рамки здорового аппетита, а гнев и зависть свидетельствуют об обостренном чувстве справедливости. Но самым сильным из аргументов оставался, конечно, ореол.
– Я все же думала, что небеса более чувствительны, – говаривала порой его жена. – Если твои обжорство, бахвальство, грубость и недостойные выходки не оскверняют свет твоего ореола, то мне нечего беспокоиться за местечко в раю.
– Заткнись! – отвечал ее холерический муж. – Надоела! Хватит морочить голову! Чтобы святой человек принужден был погрязать в грехе ради спокойствия их величества, а они еще изволят потешаться!
Его репликам явно не хватало сладостного тона, которого можно было ожидать от человека, отмеченного благодатью. Начав грешить, Дюперье становился вульгарным. Под влиянием обильной пищи его лицо, некогда аскетическое, расплылось. Не только его словарь погрубел, но отяжелели и мысли. Представление о рае, например, сильно видоизменилось в его глазах. Вместо симфонии душ, облаченных в прозрачный целлофан, картина высшего блаженства рисовалась ему теперь в виде обширной трапезной. Г-жа Дюперье отдавала себе отчет в перемене характера мужа, и это порождало у нее некоторое беспокойство относительно будущего. Но перспектива того, что Дюперье может скатиться в пропасть, страшила ее меньше, чем его необычность. Чем Дюперье с его нимбом, лучше муж безбожник, гуляка и сквернослов, как кузен Леопольд. Во всяком случае, не из-за чего краснеть перед молочницей.
Дюперье не пришлось совершать волевых усилий, чтобы впасть в праздность. Горделивая убежденность, что он выполняет работу, не совместимую с его способностями и заслугами, как и определенная послеобеденная сонливость, расположили его к небрежности. Присущее ему самолюбие, благодаря которому он всегда претендовал на совершенство, в хорошем ли, в дурном ли, быстро обеспечило ему славу непревзойденного лентяя. В тот день, когда терпение хозяина лопнуло, и он объявил Дюперье об увольнении, тот выслушал приговор с непокрытой головой.
– Что это у вас на лбу? – спросил хозяин.
– Ореол, сударь.
– А, вот чем вы развлекаетесь вместо работы?!
Когда он объявил жене, что остался без места, она поинтересовалась, что он думает делать дальше.
– По-моему, самое время принять грех скупости, – весело ответил Дюперье.
Из всех смертных грехов скупость потребовала от него наибольшего самообладания. Для того, кто не родился скупым, этот порок представляет сравнительно мало возможностей, и когда он проистекает не из потребности, а из принятого решения, ничто не отличает его, по крайней мере поначалу, от добродетельной бережливости. Принимая в расчет склонность к чревоугодию, Дюперье наложил на себя тяжкие путы и заслужил у соседей и знакомых прочную репутацию скупердяя. Он полюбил деньги ради денег и научился лучше, чем кто-нибудь иной, извлекать злое удовлетворение, свойственное скупым, которые радуются тому, что придерживают созидательную силу и не дают ей ходу. Подсчитав свои сбережения, плод доселе трудолюбивого существования, он постепенно начал испытывать злорадство от того, что наносит ущерб ближнему, отводя от общего потока животворный ручеек. Этот результат, с великим трудом достигнутый, породил в душе г-жи Дюперье большие надежды. Ее муж так легко поддался притяжению прочих грехов, что бог не должен был особенно сердиться за его покорную и простодушную уступчивость, превратившую его самого в жертву. Но продвижение по стезе скупости, тщательно продуманное и терпеливо осуществляемое, свидетельствовало, без сомнения, о порочном сознании и казалось вызовом небу. Но несмотря на то, что скупость Дюперье позволяла ему опускать брючные пуговицы в церковную кружку для бедных, блеск и густота ореола не уменьшались. Эта новая неудача на несколько дней обескуражила супругов.
Гордец и обжора, гневливый завистник и скупой лентяй, Дюперье продолжал ощущать невинность своей души. А ведь шесть смертных грехов, выпестованных им, были не из тех, в которых с легкой душой исповедуется идущий к первому причастию. Но самый страшный из грехов, сладострастие, отпугивал его. Другие грехи словно скрыты от бога. Тут уж как считать: грех или грешок, все дело в дозе. Но сладострастие – это всецело согласие с дьявольскими кознями. Соблазны ночи предвосхищают адскую тьму: жар, обжигающий гортань, – языки адского пламени; сладострастные вопли и сведенные тела, – омерзительные крики приговоренных и без устали терзаемую вечной пыткой плоть. Дюперье не приберег сладострастие как крайнее средство. Он просто отвергал такую возможность. Даже г-жа Дюперье испытывала в данном случае неловкость. Уже долгие годы супруги жили в восхитительном целомудрии, и до появления нимба ночи их были затканы белым шелком сна. Поразмыслив, г-жа Дюперье начала сожалеть об этом многолетнем воздержании, так как не сомневалась, что нимб был вознаграждение именно за него. Только сладострастие могло развеять лилейный свет ореола.
Дюперье долго сопротивлялся уговорам жены, но дал себя все же убедить. В очередной раз чувство долга пересилило в нем страх. Приняв решение, он ощутил затруднительность своего положения и всю меру своего неведенья, но жена, позаботившись обо всем, купила ему возмутительную книгу, в которой на конкретных и ясных примерах преподавались основы греховной науки. По вечерам до глубокой ночи этот целомудренный человек, осиянный нимбом, пересказывал супруге затвержденную главу из поганого учебника – зрелище воистину душераздирающее. Частенько его голос дрожал на каком-нибудь постыдном слове или при особенно непристойном упоминании. Овладев теоретическим багажом, он еще долго обсуждал, где должен осуществиться грех, в доме или вне дома. Г-жа Дюперье стояла за домашний очаг и выдвигала довод экономии, который не оставил Дюперье бесчувственным, но, взвесив все за и против, он счел предосудительным привлекать к мерзким обрядам жену, так как это могло бы дурно отразиться на ее здоровье. Будучи образцовым супругом, он принимал весь риск на себя.
С тех пор большинство ночей Дюперье проходило в гостиницах с дурной репутацией, где он продолжил свое приобщение с помощью профессионалок квартала. Из-за нимба, которого он никак не мог скрыть от этих достойных сожаления подруг, он попадал то в затруднительные, то в выигрышные положения. В первое время, стремясь придерживаться правил, изложенных в учебнике, он предавался сладострастию без большого подъема, но с методичной добросовестностью новичка, разучивающего танцевальное па или балетную фигуру. Потребность совершенства, диктуемая честолюбием, вскоре была прискорбным образом вознаграждена определенной известностью, которой он стал пользоваться у девок. Пристрастившись к шалостям, Дюперье начал считать их слишком накладными, и его скупость чувствительно страдала. Однажды вечером на площади Пигаль он познакомился с двадцатилетним, но уже падшим созданием, которое звали Мари Жанник. Говорят, что в честь нее или в связи с ней поэт Морис Фомбер написал эти очаровательные строчки:
Вот Мари Жанник
Из Ландивизьо
Убивает комаров
Новеньким сабо.
Мари Жанник приехала из своей Бретани за полгода до описываемых событий, чтобы занять место горничной на все руки у муниципального советника, социалиста и атеиста. Но, не желая служить безбожникам, она мужественно зарабатывала свой хлеб на бульваре Клиши. На это религиозное сердечко нимб Дюперье не мог не произвести сильного впечатления. В глазах Мари Жанник Дюперье не уступал Святому Иву и Святому Ронану. Дюперье в свою очередь не замедлил оценить силу своего влияния на Мари Жанник и не удержался от того, чтобы извлечь из него практическую пользу.
Сегодня, 22 февраля 1944 года, в самом мраке военной зимы, Мари Жанник, которой скоро исполнится двадцать пять, продолжает фланировать по бульвару Клиши. Вечером в час затемнения между площадью Пигаль и улицей Мучеников прохожие путаются, видя плывущий и колеблющийся в ночи светлый круг, подобный кольцу Сатурна. Это увенчанный во славу божию Дюперье, уже не таящийся от посторонних; Дюперье, отмеченный всеми семью смертными грехами, испив всю чашу стыда, следит за работой Мари Жанник, освежая ее гаснущее рвение пинком в зад, или поджидает ее у дверей гостиницы, чтобы сосчитать выручку при свете своего ореола. Но из глубины его нравственного падения, сквозь сумерки сознания, порой поднимается к его губам шепот – благодарность всевышнему за абсолютную безвозмездность его даров.