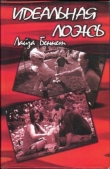Текст книги "Святая ночь (Сборник повестей и рассказов зарубежных писателей)"
Автор книги: Герман Гессе
Соавторы: Карел Чапек,Марсель Эме,Пер Лагерквист,Эрих Кестнер,Моррис Уэст,Артур Шницлер,Никос Казандзакис,Анна Зегерс,Стэн Барстоу,Теодор Когсвелл
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 40 страниц)
– Вы можете сотворить чудо? Спасти себя и остальных? А как же я? Не могли бы вы взять с собой и меня?
– Вы не захотели бы идти с нами, – Анна положила руку мне на плечо.
– Нужно время, знаете ли, чтобы построить Монте Верита. И дело тут не только в одежде и поклонении солнцу.
– Я это понимаю, – с жаром воскликнул я. – Я готов начать все заново, обрести новые идеалы, перевернуть свою жизнь. Я осознаю, что все достигнутое мною здесь бесполезно. Талант, упорная работа, успех тут бессмысленны. Но если я смогу быть с вами…
– Как это? Со мной?
Я не нашел нужных слов, слишком неожиданно и прямо прозвучал вопрос, но в глубине сердца знал, что имею в виду. Я хотел всего, что должно быть между мужчиной и женщиной, пусть не сразу, через какое-то время, когда мы найдем другую гору, или девственный лес, или что-то еще, где спрячемся от всего мира. Не стоило говорить об этом сейчас. Я бы последовал за Анной куда угодно, если б получил на то ее дозволение.
– Я люблю вас и любил всегда. Разве этого недостаточно?
– Нет, – ответила Анна. – Во всяком случае, на Монте Верита.
Она откинула капюшон, и я увидел ее лицо.
Мои глаза вылезли из орбит. Я не мог пошевелиться, заговорить. Меня словно лишили всех чувств. Заледенело сердце. Половина лица Анны, выеденная болезнью, превратилась в гноящуюся язву. Исчезло надбровие, щека, шея. Любимые мною глаза почернели, глубоко запали.
– Видите, это не рай.
Кажется, я отвернулся. Не помню. Но, опершись о стену, я смотрел вниз, на плотную завесу облаков, скрывающую мир.
– Это случалось и с другими, – донесся до меня голос Анны, – но они умерли. Я прожила дольше, вероятно, у меня более крепкий организм. Проказа поражает всех, даже так называемых бессмертных на Монте Верита. Ну и пусть. Я ни о чем не сожалею. Давным-давно я, помнится, говорила вам, что идущий в горы должен отдать им все. Я не испытывала страданий, так что вам нет нужды страдать из-за меня.
Я молчал. Слезы текли по лицу, и я даже не делал попытки вытереть их.
– На Монте Верита нет иллюзий и грез. Они принадлежат миру, как, впрочем, и вы. Я уничтожила миф, созданный вами из меня, извините. Вы потеряли Анну, которую когда-то знали, но нашли вместо нее другую. Какую из них вы будете помнить, зависит только от вас. А теперь возвращайтесь в мир мужчин и женщин и возводите свою Монте Верита.
Где-то росли кустарник, трава, приземистые деревья, где-то были плодородная почва, камни, журчание бегущей воды. В долине стояли дома, в которых жили мужчины, женщины, дети. Над трубами курился дымок, светились окна. А вдаль тянулись шоссе, железные дороги, ведущие к большим городам. Так много городов, так много улиц. Скопища домов, мириады окон. И все это было там, под облаками, под Монте Верита.
– Не беспокойтесь о нас, – продолжала Анна. – Жители долины не причинят нам вреда. Попрошу только об одном… – я не решался посмотреть на нее, но почувствовал, что она улыбнулась. – Сохраните Виктору его мечту.
Она взяла меня за руку, и мы вместе спустились по ступеням башни, прошли через двор к стенам монастыря. Остальные молча наблюдали за нами, босоногие, с голыми руками, короткостриженые, и я заметил деревенскую девушку, только что отринувшую мир и ставшую одной из них. Я увидел, как она повернулась и посмотрела на Анну, и в ее глазах я не прочел ни ужаса, ни отвращения, ни страха. Все они, как одна, смотрели на Анну с гордостью, восхищением, пониманием. И я знал, что все, ею испытанное и выдержанное, испытали и они, разделили и приняли ее боль. Их поддержка навсегда была с ней.
Они повернулись ко мне, и выражение их глаз изменилось. Любовь уступила место сочувствию.
Анна не попрощалась со мной. Лишь на мгновение положила руку мне на плечо. Затем стена открылась и она ушла от меня. Солнце уже не стояло над головой, а катилось к западу. Снизу накатывались громады облаков. Я повернулся спиной к Монте Верита.
В деревню я пришел вечером. Луна еще не встала. Лишь через полтора-два часа она должна была подняться из-за горного хребта на востоке и осветить небо и землю. Они ждали, люди из долины, человек триста или больше, сбившиеся в группы между хижинами. Вооруженные, с ружьями, гранатами, а то просто с вилами и топорами. На тропе они разложили костры и готовили принесенную снизу еду. Они стояли или сидели, ели или пили, переговаривались между собой или курили. Кое-кто держал на поводке собак.
Хозяин первого дома ждал меня с сыном у дверей. И они были вооружены. Мальчик держал в руках вилы, над поясом торчала рукоятка ножа. Мужчина тупо уставился на меня.
– Ваш друг умер. Он мертв уже много часов.
Я протиснулся мимо него в комнату. Горели свечи. Одна – у головы, другая – в ногах. Я наклонился над Виктором и попытался прощупать пульс. Мужчина солгал мне. Виктор еще дышал. Почувствовав прикосновение моей руки, он открыл глаза.
– Ты видел ее? – прошептал он.
– Да, – ответил я.
– Я предчувствовал, что ты ее увидишь. Я знал, что это произойдет. Она – моя жена, я любил ее все эти годы, но только тебе довелось увидеть ее. Но ревновать слишком поздно, не так ли?
Свечи едва освещали комнату. В полумраке он не мог видеть движущиеся тени у дверей, не доносились до него приглушенные разговоры и шарканье ног.
– Ты отдал ей письмо?
– Да. Она просила тебя не волноваться. Она в полном порядке. Все у нее хорошо.
Виктор улыбнулся.
– Значит, это правда, все мои грезы о Монте Верита. Она счастлива и довольна и никогда не состарится, никогда не потеряет свою красоту. Скажи мне, ее волосы, глаза, улыбка – они все такие же?
– Такие же, – ответил я. – Для нас Анна всегда будет самой прекрасной женщиной в мире.
Виктор молчал. Тут же протрубил рог, раз, другой, третий. Мужчины затаптывали костры, разбирали оружие, готовились к штурму. Лаяли собаки, возбужденно смеялись люди. Потом они ушли, и я, оставшись один в покинутой деревне, наблюдал, как полная луна поднимается из темной долины.

Ж. Барбе д’Оревильи
НЕОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ
Не дьявольская, не божественная…но необычная.
Перевод В. Каспарова
I
 конце восемнадцатого века, перед самой французской революцией, у подножия Севенн в небольшом селении Форез между вечерней и повечерием капуцин читал проповедь. Было первое воскресенье поста. День уже клонился к вечеру, и сумрак в церкви еще более сгущался из-за нависавших над этим странным селением гор, которые окружали его со всех сторон и, круто поднимаясь прямо над крайними домами, походили на стенки чаши, на дно которой оно было опущено. По этой особенности городок, наверное, узнают… Горы вырисовывались опрокинутым конусом. В селение спускались по отвесной дороге, которая вилась штопором и образовывала над ним как бы несколько балконов, подвешенных на разных этажах. Живущие в этой пропасти должны были, конечно, испытывать тревожное чувство, подобно мухе, угодившей на дно огромного для нее стакана, когда она намочила крылья и не может выбраться из стеклянной бездны. Не было ничего печальнее Фореза, несмотря на изумрудный пояс покрытых лесом гор и струящиеся со всех сторон водные потоки, несущие в своем серебристом течении множество форели. Ее ловили руками. Провидение захотело, чтобы человек из самых высших соображений любил землю, где родился, как он любит мать, даже если она не стоит его любви. Не будь этого, трудно было бы понять, как широкогрудые люди, которым надо много воздуха, пространства, неба, могли жить замурованными в узкой яйцевидной дыре, окруженной горами, которые, казалось, надвигались, наступая передним на ноги, – так они прижимались друг к другу – и не хотеть подняться повыше, где лучше дышалось; сразу приходят на ум обитающие под землей шахтеры или те, насильно заточенные во время оно в монастырях, кто долгие годы проводил в молениях в недрах мрачной подземной тюрьмы. Я сам пробыл там четыре недели, чувствуя себя титаном, придавленным всею тяжестью этих невыносимых гор; и по сей день, когда я вспоминаю о тех днях, мне кажется, что они наваливаются на меня своей громадой. Почерневший от времени городок с его допотопными домами, напоминавший рисунок тушью, – от феодальной поры здесь местами остались развалины – чернел еще больше – черное на черном – из-за отвесной тени гор, окружавших его подобно крепостным стенам, за которые никогда не проникает солнце. Они слишком круты, чтобы солнце могло хотя бы слегка осветить образованную ими щель своими лучами. Иногда тут было темно и в полдень. Байрону в пору было именно здесь писать свою «Darkness»[4]4
конце восемнадцатого века, перед самой французской революцией, у подножия Севенн в небольшом селении Форез между вечерней и повечерием капуцин читал проповедь. Было первое воскресенье поста. День уже клонился к вечеру, и сумрак в церкви еще более сгущался из-за нависавших над этим странным селением гор, которые окружали его со всех сторон и, круто поднимаясь прямо над крайними домами, походили на стенки чаши, на дно которой оно было опущено. По этой особенности городок, наверное, узнают… Горы вырисовывались опрокинутым конусом. В селение спускались по отвесной дороге, которая вилась штопором и образовывала над ним как бы несколько балконов, подвешенных на разных этажах. Живущие в этой пропасти должны были, конечно, испытывать тревожное чувство, подобно мухе, угодившей на дно огромного для нее стакана, когда она намочила крылья и не может выбраться из стеклянной бездны. Не было ничего печальнее Фореза, несмотря на изумрудный пояс покрытых лесом гор и струящиеся со всех сторон водные потоки, несущие в своем серебристом течении множество форели. Ее ловили руками. Провидение захотело, чтобы человек из самых высших соображений любил землю, где родился, как он любит мать, даже если она не стоит его любви. Не будь этого, трудно было бы понять, как широкогрудые люди, которым надо много воздуха, пространства, неба, могли жить замурованными в узкой яйцевидной дыре, окруженной горами, которые, казалось, надвигались, наступая передним на ноги, – так они прижимались друг к другу – и не хотеть подняться повыше, где лучше дышалось; сразу приходят на ум обитающие под землей шахтеры или те, насильно заточенные во время оно в монастырях, кто долгие годы проводил в молениях в недрах мрачной подземной тюрьмы. Я сам пробыл там четыре недели, чувствуя себя титаном, придавленным всею тяжестью этих невыносимых гор; и по сей день, когда я вспоминаю о тех днях, мне кажется, что они наваливаются на меня своей громадой. Почерневший от времени городок с его допотопными домами, напоминавший рисунок тушью, – от феодальной поры здесь местами остались развалины – чернел еще больше – черное на черном – из-за отвесной тени гор, окружавших его подобно крепостным стенам, за которые никогда не проникает солнце. Они слишком круты, чтобы солнце могло хотя бы слегка осветить образованную ими щель своими лучами. Иногда тут было темно и в полдень. Байрону в пору было именно здесь писать свою «Darkness»[4]4
Тьма (англ.).
[Закрыть], Рембрандту – накладывать или, вернее, находить свои светотени. В прекрасную летнюю погоду жители, глядя на голубую дыру в сотни футов над их головами, должно быть, сомневаются, лето ли на дворе. Но в этот день дыра была не голубой, а серой. Железной крышкой наваливались сверху тяжелые тучи. Казалось, бутылка закрыта пробкой.
В тот вечер все население городка собралось в церкви – строгого вида церкви тринадцатого века, где в зимние сумерки, когда тьма, борясь со светом, уже одолевала его, никакое острое зрение не помогло бы разобрать слова в молитвеннике. Свечи согласно обычаю погасили в начале проповеди, и люди, зажатые словно черепичины на крыше, различали проповедника, стоявшего в отдалении на некотором возвышении, так же плохо, как он их. Видеть его они не могли, но слышали хорошо. Древняя пословица гласит: «Капуцины гнусавят только в хоре». Именно таким, как у этого монаха, голосом – проникновенным и звучным – изрекаются самые ужасные божественные истины. Их изрекал в этот день проповедник. Он вещал об аде. Все в этой суровой церкви, куда медленно, волнами, с каждой минутой сгущаясь, наплывала ночь, придавало проповеди значительность. Статуи святых, по случаю поста прикрытые материей, походили на таинственные белые призраки, неподвижно стоящие вдоль белых стен, и таким же призраком казался сам проповедник, чей неясный силуэт колебался на фоне белого столба, к которому была прислонена кафедра. Призрак, проповедующий о призраках. И этот громовый голос, столь очевидный в своей реальности и в то же время как бы никому не принадлежащий, представлялся голосом Господа… От этого захватывало дух, все слушали с таким вниманием, в такой полной тишине, что, когда проповедник умолкал, чтобы передохнуть, становилось слышно, как снаружи журчат родники, которые просачивались во многих местах вдоль линии гор в этой полной вздохов стране, налагая на печальное движение теней еще и печаль журчащих вод.
Несомненно, красноречие человека, который проповедовал в этот час в церкви, зависело и от обстановки, но кто знает, что такое само красноречие? Все слушали, склонив голову на грудь, обратив свой слух к голосу, подобно грому звучавшему под взволнованными сводами. Только двое не опустили голов, а, наоборот, подняли их слегка, прилагая невероятные усилия, дабы различить затерянный во мраке силуэт проповедника. Это были две женщины – мать и дочь, – пригласившие проповедника вечером разделить с ними трапезу; им очень хотелось увидеть своего будущего гостя. В те времена, если кто помнит, во всех приходах Франции на пост всегда читали проповедь пришлые монахи из какого-нибудь отдаленного монастыря. Народ, который все переименовывает на свой лад, будучи, сам не догадываясь об этом, истинным поэтом, звал таких странствующих монахов «ласточками поста». И когда одна из таких ласточек спускалась в каком-нибудь городе или селении, ей устраивали гнездо в одном из лучших домов. Богатые благочестивые семьи любили оказывать им гостеприимство, и в провинции, где жизнь столь однообразна, каждый год с нетерпением ожидали проповедника, приносившего с собой очарование неизвестности и аромат далеких стран, который так любят вдыхать одинокие люди. Наверно, самые невероятные обольщения, о которых может поведать история страстей, удавались путешественникам, всего лишь проходившим мимо, и именно в этом была их сила. Суровый капуцин, вещавший об аде с воодушевлением, напоминавшим о великолепном Бридене[5]5
Бриден, Жак (1701–1767) – известный в свое время проповедник.
[Закрыть], казалось, был создан для того, чтобы сеять в душах один только страх божий, и ни он, ни женщины, так хотевшие разглядеть его в полумраке церкви, не знали, что ад, о котором он проповедовал, капуцин породит в их сердцах.
Но в этот вечер им не удалось удовлетворить свое любопытство провинциальных дам. Выходя из церкви, они не смогли поделиться ни одним наблюдением, касающимся ужасного монаха с его ужасными догматами, кроме как о его таланте, по мнению обеих, немалом. «Никогда, – сказали друг дружке женщины, по выходе на улицу закутываясь в свои шубы, – мы не слышали лучшей проповеди на начало поста». Мадам и мадемуазель де Ферьоль были набожны и благочестием, как говорится, подобны ангелам. Домой они возвратились в большом возбуждении. В прежние годы они видели и принимали у себя многих проповедников: из конгрегаций св. Женевьевы, Иисуса и Марии, доминиканцев, премонстрантов[6]6
Премонстранты (норбертнны, белые каноники) – духовный орден, основанный во Франции в 1119 г. католическим священником Норбертом. Первых учеников Норберт собирал на лугу, по его словам указанному ему небом (pratum monstrantum – откуда и произошло название ордена).
[Закрыть], – но капуцина никогда. Никто из нищенствующего ордена святого Франциска Ассизского, ни один монах в таком поэтичном, таком живописном одеянии – одежда больше ли, меньше, но всегда занимает женщин, – не посещал их. Мать в свое время попутешествовала и капуцинов видела, но дочке стукнуло лишь шестнадцать, и из капуцинов она знала лишь одного – на барометре, который стоял на камине в столовой; старинный барометр, такой очаровательный, подобно многим очаровательным вещам носивший отпечаток ушедшего времени, больше, увы, не существует.
Монах, который, распорядившись доложить о себе, вошел в столовую, где дамы де Ферьоль уже ожидали его к обеду, ни капельки не напоминал капуцина на барометре, надевавшего в дождь и снимавшего в ясную погоду свой капюшон. Он вовсе не походил на веселую фигуру, придуманную насмешливым воображением наших отцов. Знающие толк в шутке французы даже в дни, когда процветала вера, много подтрунивали над монахами вообще, а особенно над капуцинами. Позднее, когда уже меньше усердствовали в вере, разве не обращался любезник и шалопай эпохи Регентства, зубоскаливший по любому поводу, к капуцину, называвшему себя недостойным, со словами: «Если ты недостоин быть капуцином, на что ты вообще годишься?» Восемнадцатый век, презиравший Историю, как Мирабо, и которому, как Мирабо, История отплатила той же монетой, запамятовал, что Сикст Пятый, великий свинопас из Монтальто, сам ставший капуцином, всю свою светскую жизнь высмеивал капуцинов в песенках и донимал их эпиграммами. Но монах, появившийся в этот вечер перед матерью и дочерью де Ферьоль, не подал бы повода для песенок и эпиграмм. Высокого роста, внушительного сложения, он всем своим видом показывал, что не стесняется быть капуцином (людям вообще импонирует гордыня); ни в его взоре, ни в движениях не чувствовалось добровольного смирения, принятого в его ордене. Протягивая руку за милостыней, он как бы приказывал всем раскошелиться. Да и сама рука, столь повелительно протянутая за подаянием, – рука прекрасных очертаний – при появлении из большого рукава поражала явной белизной и царственным изяществом. Это был человек из гущи жизни, крепкий, с короткой и курчавой, как у античного Геркулеса, каштановой бородой. Вылитый Сикст Пятый в тридцать лет, пока еще безвестный. Согласно обычаю, заведенному в благочестивых домах, Агата Тузар, старая служанка де Ферьолей, вымыла ему в коридоре ноги, и эти ноги блестели теперь в сандалиях, словно высеченные Фидием из мрамора или слоновой кости. Благородным жестом, по-восточному скрестив на груди руки, капуцин приветствовал дам, и никто, даже сам Вольтер, не назвал бы его презрительной кличкой «мужик в юбке», которой оделяли в то время людей в рясе. Хотя красные кардинальские пуговицы никогда бы не украсили его монашеское одеяние, казалось, он был создан именно для этой чести. Женщины, которые до сих пор лишь слышали голос проповедника, звучавший с кафедры в вечернем церковном полумраке, нашли, что сам он под стать своему голосу. Так как был пост, а этот человек, избравший нищету и воздержание, особенно подробно рассказал о нем в своей проповеди, ему предложили постное угощение: фасоль с маслом, салат из сельдерея, свекольный салат с хамсой, тунцом и маринованными устрицами. Он с достоинством принял угощение, но от вина отказался, хотя это было старое «католическое» вино – «Шато дю Пап». Дамам капуцин показался обладающим умом и значительностью, соответствующими его сану, и полностью лишенным напускной набожности и ханжества. Когда при входе он откинул капюшон на плечи, они увидели шею римского проконсула и огромный, блистающий, подобно зеркалу, череп, как бы слегка обведенный волосами, такими же каштановыми и курчавыми, как и борода.
Слова, обращенные к дававшим ему приют женщинам, свидетельствовали о том, что он привык к гостеприимству, оказываемому самыми высокородными особами нищенствующим во Христе братьям, которые в любом обществе выглядели к месту и которых религия ставила на одну доску со знатнейшими из знатных. Однако симпатии ни у матери, ни у дочери он не вызывал. Они полагали, что ему недостает простоты и открытости, которые они наблюдали у проповедников, гостивших у них в прежние годы. Своим величественным видом капуцин стеснял окружающих. Почему им было неловко в его присутствии? Они и сами не понимали. Но в смелом взоре этого человека и особенно в изгибе его губ, обрамленных усами и бородкой, читалась невероятная тревожащая дерзость. Он казался одним из тех людей, о ком говорят: «Этот способен на все». Однажды вечером, после ужина, когда в общении между ним и женщинами, с которыми он делил трапезу, установилась некоторая непринужденность, мадам де Ферьоль, глядя на монаха, освещенного лампой под абажуром, задумчиво произнесла: «Когда смотришь на вас, отец, невольно спрашиваешь себя, кем бы вы стали, если бы не были святым человеком». Подобное высказывание отнюдь его не шокировало. Он улыбнулся. Но какой улыбкой… Мадам де Ферьоль никогда уже не забудет эту улыбку, которая спустя некоторое время породит в ее душе страшную уверенность.
Несмотря на эти вырвавшиеся помимо ее воли слова, мадам де Ферьоль в течение сорока дней его пребывания в их доме, совершенно не в чем было упрекнуть капуцина, чья внешность столь плохо согласовывалась со смирением, присущим его сану. Речи капуцина, его манера держаться были безукоризненны. «Может, ему лучше было бы быть траппистом[7]7
Трапписты – монашеский орден, основанный во Франции в 1636 г. де Рансе, аббатом цистерцианского монастыря Ла-Трапп, получившего название La Trappe от узкого входа в местную долину. Отсюда и название ордена.
[Закрыть], чем капуцином», – иногда говорила мадам де Ферьоль дочери, когда они оставались одни и беседовали о своем госте и о дерзком выражении его лица. Орден траппистов с его обетом молчания и суровостью устава особенно подходил, по общему мнению, грешникам, у кого на совести преступление, которое надо искупить. Мадам де Ферьоль проявляла свойственную светской даме проницательность, которой не мешали многолетняя глубокая набожность и любовь к ближнему. Человек духовный, она была в высшей степени способна оценить блестящее красноречие отца Рикульфа – имя средневековое, но ему оно шло, – однако красноречие привлекало ее ничуть не больше, чем наделенный им капуцин. Тем более это справедливо для дочери, которую суровое красноречие отца Рикульфа приводило в трепет… И сам капуцин, и его талант были не по душе обеим, поэтому они не стали у него исповедоваться не в пример другим женщинам селения, бывшим от него без ума. В религиозных общинах, когда их посещал пришлый монах, нередко исповедовались ему, а не своему священнику, позволяя себе роскошь сравнить своего обычного исповедника с необычным. Все то время, пока проповедовал отец Рикульф, его исповедальню осаждали жительницы Фореза; мать и дочь де Ферьоль, наверно, были единственными, кто составлял исключение. Это всех удивило. В церкви, как и дома, мать и дочь ощущали вокруг личности капуцина некую необъяснимую таинственную границу, которую они не могли преступить. Может, что-то подсказывало им – ведь у каждого, как у Сократа, есть свой демон, – что капуцин сыграет роковую роль в их жизни.
II
Баронесса де Ферьоль уроженкой Фореза не была и край этот не жаловала. Она появилась на свет далеко от этих мест. Она была благородной девицей из знатного нормандского рода – сюда же, в «нору муравьиного льва», как презрительно выражалась мадам де Ферьоль, вспоминая роскошные пейзажи и просторы своего богатого края, она попала после того, как вышла замуж по любви, и «муравьиным львом» оказался как раз человек, которого она любила; нору, в которую он ее низверг, любовь долгие годы делала просторной и наполняла своим возвышенным светом. Счастливое падение! Она низверглась сюда по любви. Баронесса де Ферьоль, в девичестве Жаклин-Мари-Лунза д’Олонд, влюбилась в барона де Ферьоль, капитана провансальского пехотного полка, в последние годы царствования Людовика XVI; полк находился в лагере наблюдения, разбитом на горе Ровиль-ля-Пляс в трех шагах от реки Дув и Сен-Совёр-лё-Виконта, который сегодня называют Сен-Совёр-сюр-Дув, подобно тому как говорят Страффорд-сюр-Эвон. Небольшой лагерь, разбитый здесь, чтобы помешать возможной высадке угрожавших тогда Котантену английских войск, состоял всего из четырех пехотных полков, отданных под начало генерал-лейтенанта маркиза де Ламбера. Все те, кто мог помнить об этом, давно умерли, и потом громкий шум событий Французской революции заглушил память об этом куда как незначительном эпизоде. Однако моя бабушка, своими глазами видевшая лагерь и торжественно принимавшая у себя в доме офицеров, рассказывала мне в детстве о тех днях с особым выражением, с которым старые люди повествуют о событиях, очевидцами которых они являлись. Бабушка прекрасно знала барона де Ферьоль, вскружившего голову мадемуазель Жаклин д’Олонд, с которой он танцевал в лучших домах Сен-Совёра, маленького городка, где жили дворяне и богатые буржуа и где в ту пору много танцевали. По ее словам, барон де Ферьоль был красавцем в своем белом мундире с воротничком и обшлагами небесной голубизны. К тому же он был белокур, а женщины утверждают, что голубое красит белокурых. Поэтому бабушка не удивилась бы, если бы де Ферьоль вскружил голову мадемуазель д’Олонд; он, действительно, в этом преуспел, да так, что девица, которую все считали гордячкой, дала себя похитить. В те времена девушек еще похищали, люди ценили поэзию почтовых карет, прелесть опасности, выстрелов под окнами. Теперь влюбленные уже не похищают своих избранниц. Они самым прозаическим образом уезжают вместе с ними в комфортабельном железнодорожном вагоне и после «кое-каких шалостей», как говаривал Бомарше, возвращаются так же глупо, как и уезжали, а иногда намного глупее… Вот так наши пошлые современные нравы свели на нет самые прекрасные, самые упоительные безумства любви. После умыкания, получившего огласку и вызвавшего страшный скандал в этом упорядоченном, глубоко нравственном, набожном, даже слегка янсенистском обществе, которое, впрочем, несильно с тех пор изменилось, опекуны мадемуазель д’Олонд – а она была сиротой – долго не колебались. Они дали согласие на брак с бароном де Ферьоль, который и увез ее в свой родной край – в Севенны.
К несчастью, барон умер молодым и оставил жену в этой горной воронке, которую он как бы расширил собой и своей любовью и чьи стены словно сомкнулись теперь вокруг нее, набросив еще одно черное покрывало на ее горестное сердце. Однако мадам де Ферьоль не побоялась остаться здесь. Она не пыталась взобраться по крутому склону сжимающих городок гор, чтобы вновь обрести немного неба над головой, которого уже не было в ее душе. Несчастная женщина забилась в свою нору, как и в скорбное свое вдовство. В какой-то момент она, правда, подумала, не вернуться ли в Нормандию, но этому помешали память о похищении и мысль о презрении, с которым ее могут там встретить. Она не желала по возвращении порезаться о разбитые ею же стекла. Гордая душа мадам де Ферьоль страшилась презрения. Живя рассудком, как и все ее сородичи, она довольно мало заботилась о поэзии внешнего мира и мало страдала при ее отсутствии. По своей природе она была не склонной к ностальгии мечтательной натурой, а, скорее, наоборот, здоровой, трезвой, хотя и пылкой… Да, пылкой! Ее брак доказал это со всей очевидностью. Но пыл ее был строго направленным, и, когда после смерти мужа мадам де Ферьоль ударилась в благочестие, которое священники называют «внутренним», оно внезапно приняло суровые формы. Печальное селение, в котором она поселилась, казалось ей теперь пригодным и для жизни и для смерти. Погруженное в тень от нависающих над ним гор, селение было под стать ей самой – мрачная рама для мрачного портрета. Баронессе де Ферьоль было чуть больше сорока, она была высока, смугла, худа той худобой, которая, казалось, освещалась изнутри тайным огнем, горящим, словно под пеплом, в ней самой. «Красавица, – женщины признавали, что она была ею прежде, – но приятной ее не назовешь», – добавляли они с удовольствием, какое обычно доставляют подобные шпильки. Ее красота была, впрочем, неприятна другим женщинам лишь потому, что она подавляла их; но баронесса де Ферьоль похоронила ее вместе с человеком, которого безумно любила, и, когда он почил, она уже не вспоминала о своей красоте, предназначенной только для него. Он представлялся единственным зеркалом, в которое она стала бы глядеться. Потеряв любимого – для нее целый мир, – она перенесла всю пылкость своих чувств на дочь. Вот только из-за повышенной стыдливости мадам де Ферьоль никогда не показывала мужу, какую непомерную, неистовую страсть он у нее вызывает, не показывала она свои чувства и ребенку, которого любила даже больше как дочь мужа, чем как свою дочь, – и здесь жена побеждала в ней мать! С дочерью, как и со всеми окружающими, баронесса де Ферьоль, вовсе не умышленно и даже сама этого не осознавая, обращалась с суровостью и высокомерием, бремя которых наряду с другими приходилось нести и дочери. Глядя на баронессу, легко было понять, почему ей подчиняются, но и почему ее не любят. Симпатию к баронессе мешала испытывать ее чрезмерная властность, деспотичность, что-то римское в ее облике: бюст матроны, гордые черты лица, копна черных волос, на висках обильно посеребренных сединой, отчего вид у нее становился еще более суровый, чуть ли не жестокий, – безжалостная белизна, казалось, вцепилась с двух сторон когтями, упрямо вгрызалась в густую массу волос, черных как вороново крыло. Все это раздражало людей заурядных, желавших, чтобы все походили на них самих, но художники и поэты были бы без ума от этого бледного вдовьего лица, которое заставило бы их вспомнить о матери Спартака или Кориолана. И – о горькая шутка судьбы – женщине со столь волевым и скорбным лицом, казалось, созданной смирять самых диких мятежников и повелевать героями от имени их отцов, приходилось управлять и руководить поступками одной лишь бедной целомудренной девушки.
Ни в ком не было столько чистоты и невинности, сколько в Ластении де Ферьоль (Ластения – имя из романсов той поры; все наши имена пришли из песен, которые мы слышали еще в колыбели), только-только простившейся с детством. Всю свою жизнь неотлучно провела она в маленьком селении Форез, словно фиалка у подножия гор, с сине-зеленых стен которых стекали тысячи жалобно звенящих ручейков. Или словно ландыш во влажной тени, ведь ландыш любит тень и лучше растет там, где садовая ограда не пропускает солнечный свет. Ластения де Ферьоль походила на целомудренный цветок сумерек белизной, и, так же как в ландыше, чувствовалась в ней особая таинственность. Она была полной противоположностью матери и характером, и лицом. Глядя на нее, удивлялись, как столь сильное существо могло породить существо столь нежное. Она была схожа с зеленеющим растением в ожидании дуба, с которым оно сплетется… Сколько на свете таких молодых девушек, которые живут, словно стелются по земле подобно упавшим гирляндам, и которые потом устремляются к любимому стволу, обвиваются вокруг него и приобретают тогда свою истинную красоту, походя на лианы или гирлянды, которые повисают на человеческом дереве, становясь в один прекрасный день для него украшением и предметом гордости. Такие лица, как у Ластении, люди находят скорее красивыми, чем прекрасными, но люди ничего в этом не смыслят. Ладно скроенная, с тонкой талией, – сочетание, определяющее женскую стать, – она была белокура в отца, несравненного барона, иногда посыпавшего волосы розовой пудрой, – такая в те годы была причуда, которой еще в начале века отдавал дань аббат Делиль, несмотря на свою ужасающую внешность. Волосы Ластении тоже имели пепельный оттенок, как перо горлицы, но уже природный; он сам по себе придавал ее лицу грустное выражение. Глаза под пепельными волосами, обрамленные матовой ландышевой, чуть ли не фарфоровой белизной, казались большими и блестящими, подобно причудливым зеркалам, – их зеленоватое сияние напоминало сияние некоторых стекол, дающих странный отсвет благодаря, должно быть, глубинной своей чистоте. Зеленоватые, с серым отливом глаза, по цвету сходные с листьями ивы, подруги вод, прикрывали длинные, темно-золотистые ресницы, доходившие до прекрасных бледных щек; все в Ластении гармонировало с медленным движением ее ресниц. Томность ее жестов словно продолжала томную медлительность век. За всю свою жизнь я видел лишь одну женщину с таким томным обаянием и никогда ее не забуду… о прелестная хромоножка Ластения хромой не была, но все равно как будто прихрамывала. О это очаровательное легкое прихрамывание, от которого так восхитительно колышется юбка. Во всем существе Ластении дышала та божественная слабость, перед которой сильные и благородные мужчины – пока не иссякнет в них мужественность – будут всегда преклонять колена.
Мать она любила, но и побаивалась ее. Ластения любила мать, как некоторые благочестивые люди любят бога, – с трепетом душевным. В их отношениях не было непринужденности и доверия, на которые матери, исходящие нежностью, вызывают детей. Не могла Ластения вести себя непринужденно с матерью, такой величественной и угрюмой, жившей, казалось, в тишине мужниной гробницы, захлопнувшейся за ее спиной. Замкнувшись в себе, жила эта мечтательница, изнемогавшая от невыразимых видений, которые не находила нужным скрывать, и на ее жизнь падал скупой свет, достигавший дна бокала, края которого образовывали горы; жила она в основном своими мыслями, зажатая в них, как в горах, и в глубь ее мыслей, как к подножию гор, не вело тропинки, по которой можно было бы спуститься.
Ластения была замкнута, но и простодушна, только ее простодушие скрывалось в тайниках души, и его надо было извлечь оттуда, подобно тому как со дна чистого потока извлекают капельки пены, которые поднимаются, кипя, к поверхности, лишь опустишь в воду сосуд или руку… Никому никогда не приходило в голову заглянуть в душу Ластении. Мать ее обожала, но прежде всего потому, что та была похожа на человека, которого она столь беззаветно любила. Она молча радовалась на свою дочь, любовалась ею. Будь мадам де Ферьоль менее благочестива, менее сурова, доверяй она больше пылкости чувств, в которых она себя упрекала, находя их слишком сильными, слишком человеческими, она замучила бы дочь ласками, приоткрыла бы в ответ на ее поцелуи свое сердце, робкое от рождения, закрывшееся подобно бутону, которому уже никогда, наверное, не суждено раскрыться. Мадам де Ферьоль не сомневалась в своей привязанности к дочери, и ей этого было достаточно. Она ставила себе в заслугу перед Господом то, что сдерживала поток нежности, которому ничего не стоило ее захлестнуть. Но, сдерживая себя, она тем самым (сознательно или нет?) заставляла сдерживаться и дочь. Мадам де Ферьоль затыкала рукой, заваливала камнем источник чувств, которые искали выхода в материнском сердце и, не находя, отливали прочь. Увы, закон, управляющий нашим сердцем, более жесток, чем тот, что управляет природными явлениями. Если убрать руку, служившую роднику препятствием, струя, освободившись от противодействия, забьет снова, стремительная в своем течении, в наших же душах всегда наступает минута, когда сдерживаемые чувства как бы рассасываются и уже не проявляются, когда этого желаешь, подобно тому как кровь в особо тяжелых случаях изливается внутрь, не проступая более в открытой ране. Кровь еще можно вызвать, с силой высасывая ее из раны, а чувства, слишком долго удерживаемые внутри, как бы свертываются, их уже больше не вызовешь, тут никакое высасывание не поможет.