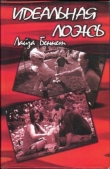Текст книги "Святая ночь (Сборник повестей и рассказов зарубежных писателей)"
Автор книги: Герман Гессе
Соавторы: Карел Чапек,Марсель Эме,Пер Лагерквист,Эрих Кестнер,Моррис Уэст,Артур Шницлер,Никос Казандзакис,Анна Зегерс,Стэн Барстоу,Теодор Когсвелл
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 40 страниц)
Закурив сигарету, я посмотрел вниз, на реку. Мельница работала, дом гудел и подрагивал. Куда запропастилась Штеффи?
Когда я снова повернулся, картина с Кунигундой показалась мне совершенно чужой. Что за дешевая радость исходит от этого голубого треугольника – трезвый, дешевый, доморощенный, чересчур удобный выход! Голубой треугольник сдавливал картину, разрушал ее леденящую серьезность, упрощал торжественную строгость. Как примитивна эта синь, как глупа.
Я снова извлек подрамник из угла, схватив за одну ножку, протащил по неровному полу и начал заново закрывать голубое оконце в небе. Лишь пятнышко должно остаться – как короткий вздох надежды.
Я подмешал еще немного охры в белизну снежного покрытия на краю моста, ровно столько, чтобы арка стала чуть сильнее освещенной. Пусть она станет белее белизны! Мне трижды приходилось отодвигать подрамник от стены в центр комнаты, пока я наконец закончил.
И тут я почувствовал себя опустошенным и донельзя одиноким. Где же Штеффи?
Меня лихорадило, болели глаза, не вынесли, наверное, рези белизны. Четыре тюбика я израсходовал на картину, четыре больших тюбика.
«Ты швыряешь деньги на ветер, старый дурень», – ругал я себя.
Штеффи пришла, когда спустились сумерки. Извиняться не стала. Мы сели у широкого окна, наблюдая как сумерки становятся ночью. Зимой это происходит быстро. Сначала предметы, дома и церковь св. Иосифа на другом берегу потеряли цвет, а потом и форму. Громоздкая угловатая белизна церкви виделась как силуэт, от домов остались одни тени. Вскоре мы не могли различить даже льдин, наскакивавших одна на другую. Со стороны моста нам подмигивали уличные фонари. В их свете было видно, как медленно падает снег.
Мы напряженно молчали, как бы желая услышать звук его падения.
– Снег пошел, – сказал я.
Штеффи съежилась в кресле, наверное, ее знобило. Я сказал еще:
– Когда смотришь на огни, кажется, что мокрые снежинки тают у тебя на ресницах.
Штеффи не ответила. Это меня огорчило. Я целый день работал, так долго ждал ее. А теперь я устал, но с радостью показал бы ей картину с Кунигундой и услышал несколько добрых слов.
Но она начала говорить о Лернау. Она не упоминала о нем несколько месяцев. А теперь, значит, от него пришло, наконец, письмо. Листки его потрескивали в руках Штеффи.
Я хотел зажечь свет, но она не позволила. Итак, Лернау написал ей, что все кончено. Он в Мюнхене обручился. Штеффи назвала фамилию его невесты. Она была из весьма и весьма влиятельного семейства.
Я едва дождался конца ее рассказа. И сказал ей все, все, что чувствовал. Темнота и одиночество придали мне отваги. Штеффи соскользнула с кресла и наклонилась надо мной. Молча погладила меня ладонью по голове и ушла как чужая. Когда она захлопнула дверь, две кисти скатились со стола и упали на пол. У меня еще долго стоял в ушах звук катящихся по полу кистей…
Штеффи не вернулась, и портрет остался незавершенным. На выставку в Мюнхен я послал только картину со святой Кунигундой. Комиссия отвергла ее, но на этом дело не кончилось. Картину мне не вернули, а направили на специальную выставку «вырожденческого искусства».

Иоганнес Вюстен
АД
Перевод Е. Факторовича
 з прихожей слышится дребезжание колокольчика. Энергичный голос вежливо осведомляется:
з прихожей слышится дребезжание колокольчика. Энергичный голос вежливо осведомляется:
– Здесь живет художник Брейгель? Я – Ян Геерденц из Утрехта.
Ему отворяют дверь.
– Вам придется немного подождать, – говорит гостю женщина, пропуская его вперед. – Вы уж извините… он перепутал прошлую ночь с днем и сейчас спит. Но я все равно собиралась как раз сейчас будить его. Нет, правда, – уверяет она, заметив предостерегающий жест гостя. Женщина очень молода, черты лица у нее тонкие, нежные, на руках она держит запеленутого ребенка, которому не больше двух месяцев.
Ян Геерденц садится, вытягивает ноги. Так вот, значит, где живет мастер! Просторная комната, на подрамнике – начатая картина. На полках у стены сложены книги, гербарии, ящички с жуками и бабочками. С потолка свешивается модель парусника. Все здесь содержится в полнейшем порядке, а некоторые предметы, расставленные там и сям, например массивные подсвечники, явно обошлись хозяину недешево. Окно же выходит не в переулок, как обычно, а во двор. Оно распахнуто, и ветер гонит сюда запахи из соседских кухонь, и здесь эти запахи подгоревшего жира, овощных бульонов и разных сортов мяса смешиваются с запахом красок и лаков мастерской художника. У фонтана во дворе шумят дети, маленькие и постарше. Все дома, образующие двор, словно связаны друг с другом бельевыми веревками. Несмотря на праздничный день, здесь развешаны пестрые рубашки, ночные сорочки, панталоны, чулки. Полуденное солнце понемногу нагревает стены. Вдруг по непонятной для Геерденца причине все детишки бросаются врассыпную на улицу. Только во дворе стихло, как из-под камней водослива выскакивают крысы и отгоняют воробьев от мусорных корзин.
Чуть слышно, словно не касаясь половиц, в комнате вновь появляется женщина; взгляд ее с беспокойством останавливается на столе, что подле мольберта, потом она несколько смущенно объясняет:
– Он сейчас придет. И… просил передать… Это важно… чтобы эту старую перчатку, которая лежит на красном полотне… чтобы ее с места не сдвигали…
Заметив, что Ян Геерденц слушает ее внимательно, она преодолевает смущение:
– Он может видеть не так, как мы. Вот вчера: приметил эту перчатку с зеленой подкладкой и этот кусок полотна. Обрадовался вдруг и говорит мне: «Как этот крестьянин пашет! Как он переворачивает жирные ломти земли на зеленую траву! А как залоснилась кожа его лошадей! Ты посмотри только на его красную куртку!» Тогда – я понимаю – ничего с места трогать нельзя. Он сразу принимается писать картину. Если настает ночь, он зажигает свечи, много свечей. Летом от них делается ужасно жарко, и тогда он сбрасывает с себя все, остается в одной рубахе и штанах, без конца пьет ледяную воду и записывает краски – днем-то они выглядят иначе – значками. Вот, взгляните: разве они не похожи на ноты, эти значки? И все – разные…
Она умолкла и посмотрела в окно. Мужчина, у которого не было обеих ног, передвигался на чем-то визжащем – не то скамеечке, не то повозке – по направлению к дровяному складу. Он был широк в плечах, мощный череп с низким лбом и расплющенным носом сидел на короткой крепкой шее. Остановившись совсем близко от окна, он, не здороваясь, взял в руки книгу и стал читать, проводя по каждому слову своими заскорузлыми пальцами.
Ян Геерденц сказал негромко:
– Похоже, он не очень благоволит к вам…
Она улыбнулась:
– Он ненавидит и презирает весь двор. Когда мы по очереди приносим ему еду, он обзывает нас воронами, пожирающими падаль.
– Так пусть несколько дней поголодает, – сказал Геерденц жестко.
Женщина только покачала в ответ головою:
– Нет, нет, он из тех, мюнстерских повстанцев… он там и пострадал… а потом вместе с другими беженцами…
Дверь комнаты широко распахнулась, и Питер Брейгель схватил руки друга. Маленький мальчик с тугими щеками и золотистыми волосами прыгает вокруг них. Геерденц смотрит на него, потом на Брейгеля:
– Это твой первенец?
Брейгель кивает:
– У него мое имя и моя страсть к краскам. Он тут уже все ими перепачкал…
– Какой дяденька тоненький, – говорит Питер-младший, словно жалея гостя, к вящему веселью взрослых.
Когда же они остаются наедине, отец повторяет мысль сына:
– Слушай, а ты случайно… не болен?
– Нет, все в порядке, – улыбается Геерденц, – если не считать испанских пиявок на сердце.
Брейгель скрежещет зубами, выплевывая проклятье.
– А ты между прочим в почете… у них…
Брейгель супится.
– Начхать мне на этот почет… Ни одной картины я испанцам не продавал… никогда…
– Но будешь делать это впредь, – говорит Геерденц.
Брейгель по-настоящему разозлен:
– Кто смеет давать мне такие советы?
– Ты знаешь кто, – спокойно отвечает Геерденц.
– Что… что? Гезы?
Ян Геерденц разводит руками:
– Разве деньги пахнут? И потом – нам нужны люди, пользующиеся их уважением. Чтобы им доверяли… У меня, кстати, с собой письма. Но по назначению мне самому их не доставить. Ясно или нужно объяснять?
– Нет. Давай их сюда, эти письма.
Положив их в карман, Брейгель просит его извинить и ненадолго покидает комнату. Спустя несколько минут Ян Геерденц видит, как Брейгель с дымящейся миской в руках появляется во дворе. Он ставит миску на колени убогого, тот начинает, причмокивая, есть.
– Вкусно? – спрашивает Брейгель.
Тот удостаивает его взглядом не раньше, чем всовывает в рот здоровенную кусину мяса и вытирает жир с усов. Во взгляде его нет ни любопытства, ни благодарности, зрачки словно обращены вовнутрь.
Мастер некоторое время стоит молча рядом с Геерденцем. Потом, не без боли в голосе, произносит:
– Чего же ждать от людей богатых, если простой человек не знает, что такое благодарность?
Потом он надевает праздничное платье, и они отправляются…
У городских ворот – столпотворение. Стража проверяет сегодня всех и каждого, заставляет предъявлять бумаги; кто нездешний – обязан вывернуть карманы и показать содержимое мешка.
Когда они вышли из ворот, Геерденц говорит:
– Так вот я и езжу из города в город. Сначала ищу, кто бы мне принес письма, а в самом городе, когда мне передают новые, – кто бы мне их вынес за стены. Когда-нибудь – я уверен – они меня все же схватят. И тогда я стану похож на этого, из вашего двора. Теперь они больше не убивают. Считают, что самое страшное – жить, как он: без рук или без ног. – Ян Геерденц презрительно сплевывает, но улыбка его выглядит вымученной и не может скрыть страха, который его мучает. Страх исчезает, когда он сталкивается с врагом лицом к лицу, когда он сражается, но между битвами страх колет Яна, растравляет его, словно медленно действующая отрава.
Они идут по проезжей дороге. Пыльно, давно не было дождя. Они доходят до высоких деревьев, в тени которых идти приятнее. Сегодня, кажется, половина Брюгге решила отправиться за Буш, благо недалеко. По голубому небу быстро мчатся перистые облака; ветер, дующий со стороны деревни, доносит уже музыку и крики. Горизонт вокруг чистый-чистый, нигде ни тучки. Но похоже, что погода все-таки переменится…
Базарная площадь украшена флагами, цветной бумагой и цветами, вдоль улиц выстроились лавочники, продающие игрушки, фрукты, ткани, посуду из коричневой и желтой глины. Место для танцев как бы огорожено столами. Все забито, друзьям с трудом удается примоститься. На длинных досках подносят угощения и кружки с напитками. При первых звуках музыки скамейки пустеют, мужчины что есть мочи вскидывают вверх ноги, а женщины кружатся так, что из-под длинных платьев видны икры. Остальные хлопают в такт, громко притоптывают деревянными подошвами туфель. А как призывно звучат удары больших литавр, дробь барабанов! И в такт им звучат волынки, нежные свирели и пронзительные скрипки.
Питера Брейгеля приветствуют многие. Когда они пересаживаются к друзьям, Геерденца забрасывают вопросами:
– Как дела у вас, на Севере? Как вы там думаете… Эти псы еще продержатся?
Ян Геерденц дает довольно общие ответы, заказывает яства: жирных каплунов, салаты, много жареного воловьего мяса в чесночном соусе. Постепенно круг людей вокруг него меняется, убираются карты – появляются кости, с острым стуком падающие на стол. Неожиданно Ян Геерденц толкает художника под столом, указывая ножом в сторону приземистого пожилого господина, примостившегося рядом с Брейгелем. «Письма передай ему», – вот что это значит.
Брейгель покрывается потом: а вдруг Геерденц ошибается?! Низкорослый старичок… Голова его утопает в высоко поднятых плечах, глаза спрятаны за очками – черт его знает, кто он: голландец, испанец или из каких других краев. Подчиняться приходится вслепую… Во времена, когда опасно признаться, к какой вере принадлежишь, поверить в человека несравненно труднее. Но гезы ценят лишь дела…
Только приземистый господин заполучил письма, как сразу же и скрылся. Брейгель вздыхает с облегчением. И лишь теперь начинает вслушиваться в зычные голоса торговцев, в призывный смех отплясывающих женщин. Эти звуки наполняют его вместе с запахами пищи и всего, что его окружает, – людей, деревьев, травы и высокого, бездонного неба, – они пьянят его. Как жаль, думает он, что этого не нарисуешь. Или все-таки можно? Разве не правда, что хорошо увиденное становится слышимым? И разве не пахнут хорошо нарисованные поля: зерном, перелесками и даже снегом? Неподалеку от него чертыхается испанский солдат, один из немногих, решившихся прийти сюда. Потом ковыляет прочь, крестьяне провожают его смехом, а там, в толпе, как знать – не оттопчут ли ему ноги? Такое случалось…
Рядом с Геерденцем сидят два торговца, уплетают сдобные пироги. И лишь сейчас Брейгель замечает, что они беседуют о нем. Один рассказывает о своей поездке:
– Ну и удивился же я – даже в дальних странах есть гравюры с его картин ада. А в Вене они даже мистерию написали, с музыкой, и поставили ее, да-да, о мастере Брейгеле!
Он не может отказать себе в удовольствии привести все подробности:
– Вы только себе представьте: с замечательными декорациями и итальянской музыкой. Начинается вот с чего: наш мастер, один-одинешенек, рисует картину ада, и все в ней ему не нравится. И, отчаявшись, он кричит: «0, если бы увидеть, каков он – грех проклятья!» И тут как тут дьявол со своим предложением! «Нарисуй мне святой алтарь, – говорит совратитель бедному художнику, – я заплачу тебе чистым золотом, сколько пожелаешь». Брейгель колеблется: не деньги его интересуют, а истина. «Ты можешь рисовать и в аду, что хочешь и сколько тебе заблагорассудится, – уговаривает его нечистый, – и мотив картины „Святой алтарь“ – всецело в твоих руках. Только чтобы обязательно было связано с адом». Тут мастер встает и говорит: «Будь по-твоему!»
В преисподней торжествуют – все злые духи и бесы пляшут в хороводе вокруг мастера, то сжимая его в кольце, то отпуская. Он виден в языках пламени: я был поражен, как это можно на театре представлять такие вещи! И вот, словно объятый пламенем, художник рассматривает демонов, проклятых совратителей и совращенных, заглядывает в каждый угол, не забывает и на серную накипь взглянуть – и принимается за дело. Весь дрожа от возбуждения, с пылающими глазами он пишет картину – падение прекрасной утренней звезды, Люцифера и ангелов, прежде таких невинных, как это описано в Библии, у Исаии.
С ужасом следят падшие ангелы за тем, как воссоздается история их пути в преисподнюю, как на глазах гаснут нимбы. Их охватывает отчаяние, они мечутся, стонут, страдают, на коленях ползут к изображению алтаря, шепча друг другу: «Вот… вот – смотри… ведь это был я!»
Они больше не подкладывают никому дров в огонь, не кипятят смолы, не мучают грешников, и пламя как бы само собой гаснет. И сам Князь тьмы со слезами на глазах решает уничтожить эту картину; он радуется, что художник не настаивает на выполнении договора. А тот добился, чего хотел: теперь он может показать людям, каков он – настоящий ад.
Ян Геерденц улыбается, приподнимая утолки рта. Остальные смеются громко. А сам Брейгель – что же он молчит? Он, не отрываясь, смотрит на лавочников, что стоят по другую сторону площади. Туда небольшими группами стекается народ.
Вдруг, изрыгнув проклятие, Питер вскакивает. Остальные бегут за ним следом. Люди, сгрудившись за площадью, образовали как бы круг. В центре его собралась группа испанских офицеров, они о чем-то шушукаются, потом один из них поднимает в воздух два копченых окорока и начинает каркать:
«Пер-рвый пр-риз! Пер-р-вый пр-риз!» А второй приз – бутыль рома и головка сыра. Потом они выталкивают в круг слепого нищего и кричат:
– Эй, давайте боритесь!
Офицеры, все до одного пьяные, веселятся, как безумные. И тут Брейгель не верит своим глазам: вслед за слепым в круг выкатывают на тележке безногого из их двора, того самого, мюнстерского. Два офицера снимают его с тележки, отпихивают ее ногами – и вот уже искалеченное тело поставлено на землю. Глаза несчастного как бы прикрыты низко опустившимися кустистыми бровями.
– Борьба слепого с безногим! – гогочут безумцы.
Они требуют, чтобы явились музыканты: барабанщик и трубач. Глухо, как в траурном марше, звучит барабан; трубач извлекает из инструмента бесконечно долгий жалостливый звук, заставляющий окружающих зябко поежиться.
– Схватка! Начинайте!
Офицеры, кажется, абсолютно не замечают мрачного молчания толпы. Они вырывают у слепого посох, при помощи которого он пытался на ощупь выбраться из круга. Ничто не может сдвинуть его с места. Ни крики офицеров, ни их посулы. Тогда один из испанцев изо всех сил толкает его в спину, и слепой падает прямо на калеку, переворачивается и остается лежать на земле.
Кто-то в толпе по-идиотски хихикает, но его тут же успокаивает тяжелый удар одного из соседей.
Только слепой успел подняться, как его снова бросает вперед пинок испанца. Он опять падает, сталкиваясь с калекой головами, да с такой силой, что теряет сознание.
– Все, – хохочут испанцы, – безногий победил.
Один из них сует окорока в пустые штанины мюнстерца.
– Если они прирастут, – ухмыляется он, – ты сможешь плавать не хуже утки.
– Неужели мы выпустим негодяев живыми?! – жарко выдыхает прямо в ухо Геерденца Брейгель.
– Мы должны… не то всем придется худо, – отвечает тот.
Но у него, как и у остальных, жилы вот-вот лопнут от ярости. Вены на висках набухли, как веревка, он бледен, как свежий сыр, и весь покрылся потом.
Офицеры решили отправиться восвояси, но люди, стоящие перед ними с сжатыми кулаками, не пропускают их.
Тогда Геерденц начинает расталкивать их, уговаривая:
– Бросьте это, земляки! Незачем молоть зерно, пока оно не поспело! Эй, эй, в сторону!
Медленно, стараясь не глядеть друг на друга, народ расступается. Многие подходят к несчастным, стараются, чем можно, им помочь.
Жизнь на базарной площади затухает. Подходят, правда, новые группы испанских солдат, но музыканты разошлись, а вместе с ними ушли и женщины – им не до плясок теперь.
Если испанец садится за стол, чтобы выпить, голландцы сразу встают и уходят. Лавочники начинают убирать с прилавков свой товар.
По дороге домой художник молчалив, так же молча, погрузившись в невеселые думы, идет с ним рядом худощавый Геерденц. За ужином Брейгель хочет обо всем поведать жене. Но ей уже все известно – весь город только об этом и говорит.
В комнате долго царит гнетущее молчание. Словно сообразив, что теперь надо оставить мужчин наедине, жена мастера забирает Питера-младшего и уходит в детскую, куда ее уже давно звал писк маленького.
Когда жена и сын прикрывают за собой дверь, с Брейгелем происходит что-то страшное: мучительная боль выходит наружу сатанинским хохотом, в котором слышится львиный рык и змеиное шипение, словно он только что пролил кислоту на медь.
– О да, эти господа выдумывают сказки, чтобы толковать мои картины! Откуда, мол, смертному познать, что есть ад! Нет, нет, этот Брейгель просто фантазирует! Он вот что, например, сейчас придумал: две человеческие ноги – без человека! – топчут в аду этих негодяев!
Его голова падает на столешницу. Все тело его содрогается, из глаз льются слезы. Ян Геерденц все не может понять: смех это или рыданья…

Герман Гессе
ВО МНЕ И ВОВНЕ
Перевод Е. Факторовича
 ил-был человек по имени Фридрих, которого занимали всякие духовные премудрости и который накопил многие знания. Однако не всякое знание было для него знанием и не всякая мысль – мыслью, поскольку он предпочитал совершенно определенный способ мышления, презирая и отвергая все остальные. Если он что любил и уважал, то это логику, этот безукоризненный метод познания, а кроме того вообще все, что именовал «наукой».
ил-был человек по имени Фридрих, которого занимали всякие духовные премудрости и который накопил многие знания. Однако не всякое знание было для него знанием и не всякая мысль – мыслью, поскольку он предпочитал совершенно определенный способ мышления, презирая и отвергая все остальные. Если он что любил и уважал, то это логику, этот безукоризненный метод познания, а кроме того вообще все, что именовал «наукой».
– Дважды два – четыре, – повторял он, – в это я верю, из этой истины человек и должен исходить в своем мышлении.
О том, что есть другие способы мышления и познания, он не мог не знать, но они не были «наукой», а значит, ничего, с его точки зрения, не стоили. Считая себя человеком свободомыслящим, он не был нетерпим к религии. Причиной тому служило молчаливое согласие ученого сословия. Их наука в течение нескольких веков занималась почти что всем, что существовало на Земле и было достойно изучения, за исключением одного-единственного предмета – человеческой души. Отдавать ее на откуп религии со временем вошло в обычай; и хотя ее рассуждения о душе человеческой всерьез не принимались, однако же и не оспаривались. Вот почему и сам Фридрих относился к религии терпимо, зато испытывал явное отвращение и непреодолимую ненависть ко всему, что считал суеверием. Пусть чужие, необразованные и отсталые народы и занимаются этим, пусть в древнейшие времена существовало мистическое или магическое мышление – с тех пор как есть науки и логика, нет ни малейшего смысла пользоваться этим устаревшим инструментарием.
Так он говорил и думал, и когда в кругу собеседников обнаруживал малейшие признаки суеверия, становился раздражительным и чувствовал себя так, будто столкнулся с чем-то враждебным.
Но более всего он негодовал, когда сталкивался с подобными суждениями в среде людей образованных, близких ему которые были посвящены в основные законы научного мышления. Ни от чего он не испытывал страданий более острых и нестерпимых, как от кощунственной мысли, которую он в последнее время вынужден был выслушивать и даже обсуждать с самыми высокообразованными людьми, мысли совершенно абсурдной: что, не исключено, «научное мышление» вовсе не вечная, не имеющая границ, высшая, предопределенная заранее и непоколебимая форма мышления, а одна из многих, претерпевшая изменения во времени и не застрахованная от гибели формы познания. Да, эта неуважительная, уничижительная, ядовитая мысль высказывалась вслух, этого не отрицал и сам Фридрих, она, возникшая ввиду всеобщей нищеты, явилась словно предостережение, словно пророчества, начертанные мелом на белой стене.
И чем больше Фридрих страдал от того, что мысль эта живет и столь опасно его тревожит, тем более острую вражду он испытывал ко всем, кого только мог заподозрить в тайном с ней согласии. Из числа людей действительно образованных открыто и прямо это учение поддерживали единицы, ибо, если бы это учение распространилось и взяло верх, его целью стало бы уничтожение любого рода духовной культуры на Земле, что привело бы к хаосу. Что же, столь далеко дело еще не зашло, и те, кто открыто придерживались подобных воззрений, были столь малочисленны, что их можно было отнести к разряду чудаков или забавляющихся оригиналов. Но привкус капли яда, зловещий отсвет этих мыслей отмечались то тут, то там. В народе и среди людей необразованных и без того распространились бесчисленные новые и «тайные» учения, повсюду ощущалось дыхание суеверия, мистики, оккультизма и прочих темных сил, с которыми следовало бы бороться, но наука, словно поддавшись тайной, необъяснимой слабости, пока что обходила их молчанием.
Однажды Фридрих посетил своего друга, с которым прежде не раз обсуждал научные вопросы. Он, как это нередко случается, не виделся с ним долгое время. Поднимаясь по лестнице его дома, Фридрих силился вспомнить, когда же и где они встречались в последний раз. И хотя он обычно с полным правом гордился своей памятью, на этот раз она ему изменила. Его невольно охватило чувство досады и неловкости; оказавшись перед дверью, он внутренним усилием встряхнулся.
Но только он успел поздороваться с Эрвином, своим другом, как сразу обнаружил на его дружелюбном лице какую-то незнакомую прежде улыбку – снисходительную. Едва отметив про себя эту улыбку, он, несмотря на свою приязнь к Эрвину, почему-то сразу воспринял ее как враждебную, презрительную, и в тот же миг ему вспомнилось то, что, казалось, совсем затерялось в памяти, – последняя их встреча, давнишняя, после нее они расстались не то чтобы рассорившись, но огорченные, в душевном отчуждении, потому что Эрвин, как ему показалось, не слишком-то поддерживал его тогдашние нападки на царство суеверий.
Странное дело! Как он мог решительно забыть об этом! Теперь он отдавал себе отчет в том, почему столь длительное время не навещал друга: из-за размолвки, о которой постоянно помнил, хотя сам для себя находил массу причин, чтобы отсрочить этот визит.
Они стояли совсем рядом, и Фридриху почудилось, будто тогдашние расхождения и отчуждение приняли еще большие размеры. Им с Эрвином, как бы подсказывало его чувство, в эти мгновения недоставало того, что всегда присутствовало, – общности духа, непосредственного понимания, даже взаимной склонности. Вместо них пустота, какая-то брешь, неприязнь. Они поприветствовали друг друга, поговорили о погоде, о знакомых, о самочувствии – и, бог знает почему, с каждым словом во Фридрихе усиливалось пугающее подозрение, что он Эрвина не понимает, что они словно забыли друг друга, что его слова Эрвина не задевают, что им не удастся найти почву для достойной беседы. А с лица Эрвина никак не сходила эта дружеская улыбка, которую Фридрих уже был готов возненавидеть.
В вымученном разговоре возникла пауза, Фридрих огляделся в хорошо знакомом ему кабинете и увидел, что к стене простой булавкой приколот листок бумаги. Вид этого листка странным образом растрогал его, разбудил воспоминания о былых временах, потому что сразу вспомнилось, как когда-то, давным-давно, в университетские годы, у Эрвина была привычка время от времени прикреплять подобным образом к стене высказывания великого мыслителя или строфу поэта – для памяти. Он поднялся и подошел к стене, чтобы прочесть. Вот они, эти слова, написанные изящным почерком Эрвина: «Нет ничего вовне, нет ничего во мне, ибо то, что вовне, то и во мне».
Побледнев, он на секунду замер. Вот оно! Он стоит перед Устрашающим! В другое время он стерпел бы этот листок, милостиво смирился с его присутствием, отнес на счет настроения, счел безобидной, вполне извинительной шуткой любителя или, допустим, проявлением сентиментальности, достойной снисхождения. Однако сейчас все иначе. Он понимал, что эти слова воспроизводят не мимолетное поэтическое ощущение и не по случайной прихоти Эрвин столько лет спустя вернулся к юношеским привычкам.
Написанное здесь отражало сегодняшние убеждения Эрвина, он впал в мистику! Эрвин – отщепенец.
Фридрих медленно повернулся к Эрвину, на губах его все еще блуждала улыбка.
– Объясни мне это! – потребовал он.
Эрвин так и излучал дружелюбие.
– А ты разве этого высказывания прежде не читал?
– Еще бы! – воскликнул Фридрих. – Разумеется, оно мне известно. Это – мистика, это – гностицизм. Может быть, поэтично… но… Нет, я прошу тебя, объясни мне его смысл и почему оно висит у тебя на стене.
– Охотно, – ответил Эрвин. – Это высказывание – первая ступень введения в теорию познания, которая меня сейчас занимает и которой я благодарен за часы счастья.
Фридрих, сдерживая негодование, спросил:
– Новая теория познания? Она существует? И как она называется?
– О-о, – протянул Эрвин, – для меня она не нова. Это древняя и очень почтенная теория. Имя ей – магия.
Слово произнесено. Перед Фридрихом, которого столь откровенное признание все же глубоко поразило и испугало, в личине друга предстал предвечный враг, и, глядя ему в глаза, он ужаснулся. Промолчал. Он не знал, разгневаться ему или разрыдаться, ощущение неизбывной потери переполнило его горечью. Он долго молчал.
И, наконец, проговорил, стараясь придать голосу язвительные нотки:
– Итак, ты вознамерился посвятить себя магии?
– Да, – ответил Эрвин без промедления.
– Ты будешь чем-то вроде ученика волшебника?
– Конечно.
Фридрих снова умолк. Наступила такая тишина, что было слышно, как в соседней комнате тикают ходики.
Несколько погодя Фридрих сказал:
– А известно тебе, что ты тем самым порываешь всякие связи с серьезной наукой… и тем самым отказываешься от любого общения со мной?
– Надеюсь, что нет, – ответил Эрвин. – Но если это неминуемо, что мне остается?
Фридрих даже зашелся от крика.
– Что тебе остается?! Порвать с этими игрищами, с этой нездоровой и недостойной верой в чудеса – порвать окончательно, навсегда! Вот что тебе остается делать, если ты хочешь сохранить мое уважение.
Эрвин усмехнулся, хотя, по-видимому, и ему было невесело.
– Ты рассуждаешь так, – начал он столь тихо, что гневный голос Фридриха как бы еще продолжал звучать в комнате, – ты рассуждаешь так, будто что-то в моей власти, будто я в состоянии выбирать, Фридрих. Но это не так. У меня нет выбора. Не я выбрал магию. Это она выбрала меня.
Фридрих глубоко вздохнул.
– Тогда… прощай! – проговорил он с трудом и поднялся, не протянув Эрвину руку.
– Зачем же так? – воскликнул Эрвин. – Нет, в таком состоянии я тебя не отпущу. Представь себе, что один из нас оказался на смертном одре – а это так и есть! – и нам приходится расстаться навеки.
– Однако, Эрвин, кто же из нас этот умирающий?
– Сегодня, наверное, я, друг мой. Ибо кто намерен воскреснуть, должен быть готов умереть.
Фридрих снова приблизился к стене и прочитал изречение.
– Положим, ты прав, – произнес он наконец. – Что пользы расставаться во зле? Будь по-твоему, я представляю, что один из нас – умирающий. Ведь и я мог бы оказаться на месте умирающего. Но прежде чем оставить тебя, я обращусь к тебе с последней просьбой.
– Вот это по-доброму, – сказал Эрвин. – Скажи, какую добрую услугу я могу оказать тебе на прощанье?
– Я повторяю мой первый вопрос. И он же – моя просьба. Объясни мне изречение – как сумеешь!
Подумав немного, Эрвин начал:
– Ничто не во мне, ничто не вовне. Религиозный смысл изречения тебе известен: бог повсюду. Он и в духе, он и в природе. Все божественно, ибо бог – это мир. Прежде мы называли это пантеизмом. А теперь смысл философский: деление на внешнее и внутреннее привычно нашему мышлению, но необходимости в нем нет. Таким образом наш дух получает возможность переступить через границу, которую мы мысленно протянули, уйти в потустороннее. А по ту сторону от принятых нами пар противоположностей – «да» и «нет», «добро» и «зло», «честь» и «бесчестие», а из них и состоит наш мир… да, по ту сторону открываются новые, иные знания… Но, любезный друг мой, я должен признаться тебе: с тех пор, как мышление мое претерпело изменения, для меня не существует более слов или выражений, обладающих одним, неизменным, смыслом. Каждое слово может приобрести десятки, сотни смыслов и толкований. Тут и начинается то, чего ты опасаешься: магия.
Фридрих наморщил лоб и хотел было перебить, но Эрвин умоляюще взглянул на него и, словно испытывая внутреннее торжество, проговорил:
– Позволь, я дам тебе что-нибудь на память! Возьми одну из моих вещиц и понаблюдай за ней некоторое время, поглядывай на нее. И тогда изречение о «во мне и вовне» откроет тебе один из множества своих смыслов.