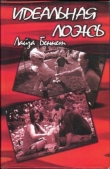Текст книги "Святая ночь (Сборник повестей и рассказов зарубежных писателей)"
Автор книги: Герман Гессе
Соавторы: Карел Чапек,Марсель Эме,Пер Лагерквист,Эрих Кестнер,Моррис Уэст,Артур Шницлер,Никос Казандзакис,Анна Зегерс,Стэн Барстоу,Теодор Когсвелл
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 40 страниц)

Кен Уитмор
СЛИВКИ ОБЩЕСТВА
Перевод Л. Биндеман
 огда я возвращалась в школу после обеда, мне повстречалась по дороге знакомая девчонка.
огда я возвращалась в школу после обеда, мне повстречалась по дороге знакомая девчонка.
– Ты Антее зуб выбила, – сказала она, – тебе за это попадет!
Меня охватил страх: я очень боялась мисс Марьят. Не то чтобы она запугивала нас – никогда, просто она была очень неприятная особа.
У подъезда стояла Алтея – губа вздута, кусочек зуба отломан, веки набрякли от слез. Нам было велено сразу же после начала занятий явиться в кабинет мисс Марьят.
Это была очень просторная комната с окном-фонарем, выходившим в сад. Раньше дом принадлежал какому-то аристократу, и здесь, наверное, была гостиная. Камни был отделан мрамором в стиле Адама[29]29
Адам – известный английский архитектор XVIII века, работавший в области интерьера.
[Закрыть], а прямо перед ним располагался огромный письменный стол. Во всяком случае сейчас он представляется мне огромным. За ним восседала мисс Марьят – высокая, худая, в неизменно строгом учительском платье, седые волосы зачесаны назад, нос крючком, глаза – черные и круглые, словно два отпечатка выпачканных сажей пальцев, с выражением печали на лице. Она была великая печальница, наша мисс Марьят. Ни мне, ни Антее вовсе не хотелось рассказывать ей о том, что произошло, но мало-помалу все вышло наружу. Мы подрались из-за моей шляпки.
Я не пользовалась пансионом при школе св. Агнессы и каждый день ездила домой обедать. Стоило мне пропустить двенадцатичасовой автобус, и я возвращалась в школу с опозданием. Моя подруга Антея Харди знала, что мне нужно поспеть к автобусу.
В тот день я, как всегда, торопилась в раздевалку, чтобы поскорей одеться и бежать к автобусу. Школа стояла на горе, и сверху была видна конечная остановка. Когда к ней подходил большой красный автобус, можно было разглядеть его крышу, а если мотор не выключали, было даже видно, как он трясется и подрагивает.
Я уж совсем собралась, как вдруг Антея схватила мою шляпку. Я не могла выйти с непокрытой головой: ученицам нашей школы разрешалось появляться на улице только в форме, а это означало прежде всего – в шляпке, надетой скромно, без всяких кокетливых выкрутасов. Зимой мы носили шляпки из синего велюра с голубой в кремовую полоску лентой. Летом их заменяли соломенные канотье с очень широкими полями, по прозванию «беконные ломтерезки». Помню, с меня сдуло такую шляпку прямо под колеса проезжавшей мимо машины, так мисс Маграч, учительница математики, подобрала ее с дороги, расправила искромсанную тулью и заставила меня ее надеть.
Напрасно я пыталась вернуть свою шляпку по-хорошему. Антея мне назло затеяла игру в «перекидочку» с кем-то по ту сторону раздевалки, а тем временем к остановке подкатывал красный автобус, который мог уйти каждую минуту. И тогда я ударила Антею. Из разбитой губы потекла кровь, и это было последнее, что я увидела. Схватив шляпку, я помчалась через дорогу и, ухватившись за поручень, на ходу вскочила в автобус.
Мисс Марьят очень сердилась и приказала нам немедленно встать на колени и молить бога о прощении. Школа при церкви св. Агнессы считалась образцовой. Еще бы! Мы вызубрили Магнификат[30]30
«Величит душа моя» – хвалебная, часть англиканской вечерней службы.
[Закрыть] назубок и только и делали, что крестились да кланялись, будто истовые католики.
Я чуть было не попала в католическую школу при монастыре. Школ было две – в каждом конце поселка. Я пошла в голубую – школу св. Агнессы. Тамошних воспитанниц прозвали «васильками». В другом конце поселка стояла монастырская школа. Форма там была коричневожелтая, и воспитанниц называли «осами». Помню, родители спрашивали, в какую школу я хочу пойти. Нашли, чего спрашивать! Когда тебе одиннадцать, ты всегда выберешь ту, где красивее форма. Синий цвет вообще несравненно лучше и элегантнее. Мы носили синие расклешенные юбки и кремовые блузки с очень милыми голубыми галстуками с кремовой полоской по диагонали, а летом – синие льняные платья в клетку. Зимой мы надевали пушистые твидовые пальто с широкими поясами и кожаными пуговицами. Они стоили фантастически дорого. Не представляю, как мой отец осилил такую покупку.
Так вот мисс Марьят, похожая на святого Бернарда глубоко запавшими глазами, приказала нам опуститься на колени. Но на меня нашел стих, как это иногда со мной бывает, – не верю во всю эту ерунду! Я решила не поддаваться. Антея же, моя смазливая подружка, была слабохарактерная и подлиза. К любой учительнице умела подольститься. С нее и сейчас стало бы – бухнуться на колени и молиться, но я наотрез отказалась: не было за мной такой вины, чтобы просить у бога прощения. Глядя на меня, и Антея решила проявить твердость.
Мисс Марьят отпустила нас, приказав явиться на следующий день в то же самое время. На сей раз вышло по-моему. Когда мы вышли на лестницу, я пригрозила Антее: только вздумай молиться, зубов не досчитаешься!
Целую неделю мисс Марьят ежедневно вызывала нас и отчитывала. Представляете, каково это – отстаивать свои права в одиннадцать лет? Но мы считали, что драка касается только нас двоих и никто не должен вмешиваться, тем более впутывать в это дело бога. Мы уж и думать позабыли об этом случае, дружили, как прежде, катались на пони по воскресеньям, но мисс Марьят все донимала нас с этой молитвой.
Как-то в понедельник она вызвала нас поодиночке, и Антея тут же плюхнулась на колени. Пришел мой черед. Для меня отказ молиться уже стал делом чести. Я воображала себя Эдит Кавел[31]31
Медсестра, героиня первой мировой войны. Отказалась покинуть раненых солдат и была расстреляна немцами.
[Закрыть] перед расстрелом. Но для мисс Марьят заставить меня молиться тоже стало делом чести.
– Изабел Комптон, – заявила она, – бог не любит строптивых. Вы уж и так прогневали его.
Глаза у нее запали еще глубже, и я даже заглянула ей в лицо – убедиться, что они не исчезли вовсе.
Намекала она на мою работу: я разносила газеты по утрам, чтобы родители разрешили мне держать пони. Натянув для тепла ярко-желтые парусиновые брюки и фланелевую курточку, я бежала на работу с большой брезентовой сумкой, на которой было написано название газеты «Ньюс оф зе уорлд». Мисс Марьят поднималась рано, а так как пансион находился в другом конце поселка, она шествовала в своем учительском одеянии по главной улице как раз в то время, когда я проносилась мимо с брезентовой сумкой для газет в школьной куртке и ярко-желтых брюках, И конечно, она прицепилась ко мне с этой работой.
– Воспитанница школы святой Агнессы не должна заниматься таким делом, – сказала она. – Это противно воле божьей.
– А моя мама считает, что работать только на пользу, – возразила я. – Мне все равно придется работать, когда вырасту.
Это никак не вязалось с принципами школы св. Агнессы. Ее выпускницам никогда не приходилось зарабатывать себе на жизнь. В конце концов был достигнут компромисс – я продолжала разносить газеты, но при этом не надевала школьную форменную куртку.
Мои родители держали небольшую лавку скобяных и гончарных изделий – деревянный сарайчик с тентом и откидным прилавком, где выставлялся товар, а сами мы жили в плавучем доме на канале – старой сырой барке. Родители думали, что дают мне замечательное образование в школе св. Агнессы. Они гордились, что делают для меня все, что могут. Ведь один только семестр моей учебы в этой школе обходился им в пятьдесят фунтов. Родители надеялись, что учение пойдет мне на пользу, а потому отказывали себе во многом, жили в старой барке на канале и убивали все силы на эти горшки и плошки, чтобы я училась в школе св. Агнессы. А мне, как назло, вспоминаются разные неприятные случаи в этой школе. Взять хотя бы ту противную девчонку, как сейчас вижу ее перед собой – белесую дрянь с жидкими волосенками. Я шла домой, толкая перед собой велосипед, а она попалась мне навстречу. День был осенний, и сухие листья с шелестом носились по дороге.
– Гляньте-ка, – говорит она своим идиоткам-подружкам, чтоб все слышали, – эта Изабел Комптон такая сорвиголова, что даже листья от нее в стороны шарахаются!
Вот дрянь! Я бы ей запросто могла свернуть шею, просто связываться не хотелось. Один-единственный раз я вышла из себя – из-за той злополучной шляпки. А вообще я была очень спокойная и выдержанная, прямо стоик. Даже по фотографиям того времени это видно: круглая приятная мордашка, короткая стрижка, скромная челочка – и непременная улыбка.
Мисс Марьят кормила золотых рыбок в аквариуме у окна и, поглядывая на меня через плечо, говорила:
– Терпенье божье иссякает, Изабел Комптон.
У меня колотилось сердце и пальцы невольно сжимались в кулаки. Я готова была ударить учительницу, но сдерживала себя и смотрела в окно на зеленый газон, тянувшийся до самой дороги. По его краям росли рододендроны, как в парке.
– Изабел, – спросила она, – вам здесь не нравится?
Я никогда не задавала себе этого вопроса и сначала даже не могла понять, к чему она клонит. Это было все равно, что спросить: «Вам не нравится в Англии? Вам не нравится на этой планете?»
Да, меня обижали в школе св. Агнессы раньше, меня обижали и сейчас, но я к ней привыкла. Здесь было тепло и уютно, мне вовсе не хотелось отсюда уходить. Здесь были друзья. Были и враги, но я хотя бы о них знала. А в новой школе будет новая гадость, даже думать об этом противно.
Вы уж, наверное, решили, что школа св. Агнессы – жуткое место, но – пусть это покажется вам странным – я ее полюбила. Что она дала мне, так это потрясающую уверенность в себе. Хочешь не хочешь, за пять лет воспитанницам вдалбливали в голову, что они лучшие из лучших девушек страны.
– Изабел, я еще раз спрашиваю: вам не нравится здесь?
Я гордо подняла голову и, глянув прямо во впадины, где затаились ее глаза, ответила:
– Нет, мисс Марьят, нравится!
Теперь я знала, что надо делать.
– Если вы хотите остаться в школе, ведите себя, как подобает цивилизованному человеку, – изрекла мисс Марьят, очевидно позабыв, из-за чего все началось. – Мы прививаем своим воспитанницам благонравие, ведь в будущем именно им предстоит определять норму поведения в нашем обществе.
Не помню точно, добавила ли она, что этим воспитанным леди предстоит еще и служить образцом для низших сословий.
И тогда я опустилась на колени и стала истово молиться, наблюдая сквозь прищуренные ресницы, с какой благочестивой радостью взирает мисс Марьят на мои губы, шепотом возносящие молитвы.
– О боже, – молилась я, – о боже, покарай эту упрямую старуху. Пусть у нее выпадут все зубы, а голова облысеет. Пусть ее золотые рыбки задохнутся от костяной муки, которой она их пичкает. Пусть попечители уволят ее за пьянство. Пусть она разродится котятами прямо в зале, на утренней молитве. И прости меня, боже, за то, что я пошла по легкому пути, но молить прощения из-за какой-то шляпки было бы еще бесчестнее. Антея сама во всем виновата, и ты это знаешь, если ты вообще что-нибудь знаешь, в чем я сомневаюсь, да, в чем я сомневаюсь. Аминь.
Я поднялась, оправила юбку и серьезно, насколько мне это удалось, посмотрела на учительницу. Она подошла и, пожав мне руку, сказала:
– Я всегда была уверена, что в вас есть все задатки, чтобы стать достойной воспитанницей школы святой Агнессы, и с этого дня мы начнем их выявлять.

Серджо Туроне
ИСКУССТВЕННАЯ ВЕРА
Перевод Е. Лившиц
 провинциального епископа и своих забот по горло, а у монсеньора Бенедиктиса, епископа Т., был еще племянник. Звали его Мауро, и был он как раз таким, каким вовсе не следует быть племяннику епископа. Не то чтобы его личная жизнь была скандальной, даже напротив, Мауро считался тихим серьезным холостяком, нет, дядя горевал не об этом, он, пожалуй, даже предпочел бы племянника-гуляку такому отъявленному атеисту, как Мауро. Епископ никак не мог взять в толк, как Мауро мог вырасти безбожником. Ведь дядя сам воспитывал сироту и всегда гордился умным, живым и благочестивым мальчиком.
провинциального епископа и своих забот по горло, а у монсеньора Бенедиктиса, епископа Т., был еще племянник. Звали его Мауро, и был он как раз таким, каким вовсе не следует быть племяннику епископа. Не то чтобы его личная жизнь была скандальной, даже напротив, Мауро считался тихим серьезным холостяком, нет, дядя горевал не об этом, он, пожалуй, даже предпочел бы племянника-гуляку такому отъявленному атеисту, как Мауро. Епископ никак не мог взять в толк, как Мауро мог вырасти безбожником. Ведь дядя сам воспитывал сироту и всегда гордился умным, живым и благочестивым мальчиком.
Но за годы обучения в лицее что-то изменилось. Сохраняя прежние любовь и уважение к дяде, он стал посещать, однако, круги скептически настроенных интеллектуалов и сошел с пути истинного. С подкупающей искренностью он уведомил дядю, что не чувствует более ни малейшей веры. Позже он стал одним из основателей секции атеистического общества имени Джордано Бруно в Т. Монсеньор Бенедиктис привык молиться за племянника в надежде обратить его.
В то утро епископ принял, как всегда, просителей и прихлебателей, людей разных и весьма странных, в том числе одного назойливого изобретателя, который уже целый месяц досаждал епископу, приставая к нему с просьбами, чтобы тот помог ему в выпуске его якобы чудодейственных таблеток. Епископ рассердился и сказал ему резко, что религия не нуждается в алхимии. Что поделаешь, но с таким народом миндальничать не приходится!
Разделавшись с посетителями, епископ просмотрел почту и, почувствовав усталость, удалился в прохладную полутьму церкви. Он молился стоя, в своем любимом уголке, скрытый от посторонних взглядов.
Помолившись, епископ собрался уходить и вдруг увидел Мауро. Неужели это возможно?! Мауро в церкви?.. Он молился за одной из последних скамей. Епископа охватила огромная радость, он спрятался за колонной и как завороженный смотрел на племянника. Монсеньор Бенедиктис молча благодарил бога. Он вообще предпочитал молиться молча, оставаясь неразговорчивым даже при общении с Всевышним. Он был современным, но не экстравагантным, активным, но выдержанным и нравился многим. Он был красивым стариком. Красота – большая помощь князьям Церкви, обаяние необходимо тому, кто посвящает свою жизнь распространению идей. В монсеньоре Бенедиктисе ощущалась порода: у него было крепкое тело горца, тонкие белые волосы обрамляли бледное лицо, придавая ему некий аристократический оттенок. Тайна его обаяния заключалась в улыбке, детской и в то же время ироничной. На пороге семидесятилетия епископ Т. мог сказать, что он был хорошим пастырем, если не считать неудачи с собственным племянником.
Из чувства деликатности монсеньор Бенедиктис вот уже несколько лет не заговаривал с Мауро о вере, и если и не переставал надеяться, то только потому, что рассматривал надежду как своеобразный долг. И теперь, глядя на молящегося племянника, епископ чувствовал себя не только счастливым, но и виноватым. Виноватым в том, что надеялся только лишь по долгу службы и ничем не способствовал произошедшему чуду. Теперь он молил бога о прощении, и душа его полна была признательности. Он почувствовал слезы на щеках и взял себя в руки. Тогда, чтобы не поддаться порыву и не броситься племяннику на шею, он вышел из церкви.
Навстречу епископу по церковным ступеням поднимался сумасшедший изобретатель. «Убедились? – спросил он с поклоном, – в действии таблеток веральгина?»
Епископ, разом помрачнев, удивленно взглянул на изобретателя, державшего в руке флакончик со снадобьем.
– Это веральгин, таблетки веральгина даруют веру. Поскольку вы с недоверием отнеслись к моему препарату, я позволил себе произвести эксперимент на вашем племяннике.
Горожане, проходившие в тот час перед церковью, с изумлением слушали, как всегда такой вежливый епископ громко кричал: «Прочь, богохульник!»
Безумец в испуге отступил, а епископ вернулся в церковь, чтобы в молитве вернуть себе то счастливое состояние духа, которое нарушила вздорная болтовня алхимика. Мауро все еще молился на коленях.
В дом епископа вернулась радость, словно в дни детства Мауро. По вечерам, перебирая четки, молодой человек предавался молитве. Так прошло несколько дней, и вдруг однажды вечером Мауро ушел из дома, и дядя, желая проявить снисходительность, не сказал ему ни слова. Но и на следующий день юноша снова не захотел оставаться дома и предупредил дядю, что идет в клуб имени Джордано Бруно. Он несколько смущенно объяснил, что, по-видимому, пережил и не без труда преодолел краткий приступ мистицизма: «Извини меня, дядя», и погладил епископа по морщинистой щеке. В церкви он больше не появлялся.
Добрый епископ страдал, не спал ночами. Ему казалось, что рассудок оставляет его, но он гнал богохульные мысли. Через два дня, однако, он не выдержал и достал оставленные ему изобретателем таблетки. Он долго смотрел на них, взвешивал на ладони, нюхал и в конце концов решился: «Надо попробовать, и тогда я уж навсегда откажусь от этой бредовой идеи». Он взял флакон с таблетками, которые принимал Мауро, и заменил транквилизатор веральгином.
Прошло двое суток. Епископ и надеялся, и боялся надеяться. Но, когда в одно прекрасное утро монсеньор застал Мауро в храме, он уже начисто забыл о снадобье и назвал себя безумцем за то, что прислушался – пусть в момент слабости – к вздорной болтовне мошенника. Столь глубокое погружение в молитву могло быть вызвано только истинной верой, но не стряпней аптекаря.
На этот раз поджидавшему на ступеньках человеку уже не досталось от епископа. Монсеньор говорил с ним как с душевнобольным, то есть соглашался и давал неопределенные обещания. Придя домой, он положил транквилизатор на место.
Но дело на этом не кончилось. Через неделю у племянника случился нервный припадок, он вновь перестал посещать церковь и зачастил в секцию Джордано Бруно. Охваченный глухим гневом, словно принимая вызов дьявола, монсеньор скормил племяннику таблетку веральгина. На следующий день он увидел его в церкви. Епископ горячо обнял молодого человека и дома, дрожа и плача, рассказал всю правду, просил простить его и поклялся уничтожить всю упаковку веральгина.
Мауро тепло выслушал дядю, и ответ его был неожиданным: «Если это таблетки такого действия, зачем уничтожать их? Ты сказал, что эффект длится неделю? Значит, я буду принимать их по субботам. Теперь, когда вера вернулась ко мне, я вовсе не хочу потерять ее вновь: верить гуда спокойнее».
Мы подробно изложили происшествие с монсеньором Бенедиктисом и его племянником Мауро, так как оно объясняет рвение, с коим епископ из Т. участвовал впоследствии в кампании по научному истреблению атеизма, а также проливает свет на полемику вокруг вопроса о широком применении веральгина.
Вначале Церковь высказалась весьма осторожно. Когда все газеты мира кричали о дарующих веру таблетках, «Оссерваторе романо»[33]33
Орган Ватикана. – Прим. перев.
[Закрыть] ограничился вежливо составленной заметкой, автор которой позволил себе не без иронии удивиться неожиданному интересу к религии, возникшему в кругах, которые обычно считались материалистическими.
Через несколько дней в ответ на расширяющуюся полемику (а также потому, что тем временем были зарегистрированы случаи необыкновенного обращения) ватиканская газета поручила одному известному теологу высказаться по данному вопросу. Писатель, избегая восторженных выражений, склонялся, однако, к мысли, что употребление таблеток могло способствовать обращению скептиков, и предостерегал от безоглядного использования веральгина.
На это епископ Бенедиктис отпарировал в печати, что, если господь бог позволил людям, посредством науки, открыть веральгин, значит, таков божественный промысел, направленный на окончательное уничтожение дьявола. Бенедиктис высказывался в печати против принудительного лечения веральгином, считая, что каждый волен решать, принимать ему таблетки или нет.
Полемика скоро вышла за пределы теологических кругов. Проблему обсуждали политические партии и всевозможные общества. Многочисленные газеты публиковали леденящие душу подробности, призывая светское общественное мнение бороться против опасности, таящейся в употреблении веральгина.
Издатель еженедельника с явно светской окраской открыл дискуссию, в ходе которой добровольно подверг себя эксперименту и проглотил таблетку веральгина с целью доказать публике, что после разового приема можно отказаться от дальнейшего без всяких последствий.
Неделя прошла, как и предвидели: в понедельник и все последующие дни издатель ходил в церковь, в субботу он ощутил первые признаки беспокойства, воскресенье пролежал в постели, в понедельник пришел в редакцию в большом волнении. Открыв ящик стола и не найдя таблеток, которые предусмотрительно забрали его коллеги, он вызвал главного редактора и потребовал, чтобы таблетки отыскали тотчас же.
Редакторы колебались. Но шеф встал, вывернул ящики всех письменных столов, и когда наконец нашел веральгин, энергично вскрыл флакон и проглотил таблетку. В ту неделю газета вышла под шапкой «Чудо веры».
Эпизоды, подобные этому, поколебали общественное мнение и сыграли на руку монсеньору Бенедиктису. Многие предприятия пришли к соглашению относительно рекламной кампании и массового выпуска веральгина. Тон газет, близких к промышленным кругам, изменился: они оставили нейтралитет и выступили в поддержку тезисов епископа Т. Тот же «Оссерваторе романо» частично пересмотрел свое мнение.
Видя близость победы, монсеньор Бенедиктис преодолел последние препятствия и нашел верные, идущие к самому сердцу слова. «Наши противники, а также колеблющиеся, – писал епископ, – наверное, забыли, что в течение многих веков, начиная с Галилея, научный прогресс постоянно выступал против нас, а то и просто высмеивал нашу религию. Если сейчас роли переменились и поразительное научное открытие служит не против религии, а выступает за нее, как не усмотреть в этом руки божией?»
Удачно составленная реклама («Веральгин – рай, доступный каждому») убедила даже тех, кто никогда и не отходил от религии, укрепить собственную веру с помощью чудодейственных таблеток. Телевизионные рекламные ролики, имевшие бешеный успех, показали Жан-Марию Теле-вона в роли дьявола, раздраженного и подавленного отсутствием клиентов. В конце концов дьявол принимал таблетку веральгина и чувствовал, что у него вырастают ангельские крылышки. Наконец, национальная сборная по футболу публично приняла крещение веральгином.
Действие таблеток, как уже было сказано, продолжалось в течение недели, но встречались люди с определенными отклонениями, так что скоро все население стало носить в кармане флакончик со снадобьем. В начальных школах раздача учащимся таблеток веральгина проходила бесплатно.
Когда по телевидению было объявлено, что за десять истекших месяцев процент практикующих верующих вырос с 28,5 до 99,97 и в ожидании завершения постройки 100 000 новых церквей все кинематографы и все театры будут переоборудованы под храмы, монсеньор Бенедиктис, счастливый и измученный многомесячной борьбой, позволил себе передышку. Он выключил телевизор и попытался сосредоточиться, восстановить мысленно все фазы свершившегося чуда.
Епископ так устал, что не мог молиться. Мауро не было дома, кухарка тоже куда-то ушла. Монсеньор направился в кабинет племянника. Ряды запыленных книг, заброшенных и никому не нужных, вызвали у епископа снисходительную улыбку. Спиноза, Локк, Вольтер, Сальвемини. Ну теперь-то уж все эти философы-материалисты потерпели окончательное поражение.
Епископ покачал головой, взял наугад один из томов и начал его перелистывать.
Прошло два часа, епископ все еще читал. Внезапно его отвлекла мысль, никогда раньше не приходившая ему в голову: почему он, столько сил отдавший борьбе за распространение веральгина, сам ни разу не принял лекарства? «Надо будет как-нибудь попробовать», – решил епископ. Он зевнул, посмотрел на часы и вновь погрузился в чтение. Когда епископ дочитал книгу, наступило уже утро. Епископ закрыл книгу, сказал вслух: «А ведь он прав!», вспомнил о таблетках: «Что за кошмар я устроил!» – и в первый раз в жизни выругался.