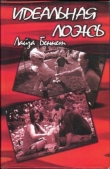Текст книги "Святая ночь (Сборник повестей и рассказов зарубежных писателей)"
Автор книги: Герман Гессе
Соавторы: Карел Чапек,Марсель Эме,Пер Лагерквист,Эрих Кестнер,Моррис Уэст,Артур Шницлер,Никос Казандзакис,Анна Зегерс,Стэн Барстоу,Теодор Когсвелл
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 40 страниц)
Хранят ли где-нибудь о нем подобную память? На вид он был молод, но бывает, что у людей, кажущихся молодыми, души древнее древнего, и если до сих пор этого не случалось, не должен ли был он оставить о себе память в этом городишке и в сердце бедной Ластении, которая дрожала перед ним словно осиновый лист и после его ухода испытала облегчение, вздохнула полной грудью? Он всегда был для нее «кошмаром», как говорят молодые девушки, когда чувствуют к кому-нибудь неприязнь, – и если Ластения так не говорила, то лишь потому, что, сама будучи нерешительной, она и в своей речи не употребляла решительных выражений.
Девушка прелестная, но тщедушная, у которой на роду было написано быть слабенькой, Ластения радовалась, что в доме больше нет человека, который без всякой причины вызывал у нее такое же неодолимое чувство, какое вызывает стоящее в углу заряженное ружье. Ружья больше не было. Ластения радовалась, радость, однако, бывает обманчивой. И если она действительно радовалась, почему радость освобождения не осветила ее взор, не разгладила недавно появившуюся складку на переносице, придавшую ее лицу, обычно такому печальному, но и такому безмятежному, выражение тайного ужаса? Мадам де Ферьоль благодаря твердости духа и здравому смыслу нормандки смотрела на мир с известной высоты, в подробности не вдавалась, поэтому лица дочери особенно не разглядывала и не замечала мягких складок, появлявшихся иногда в минуту задумчивости на ее лбу, чистом, подобно печальному лону озерных вод. Но служанка Агата все видела. Бессознательная ненависть к капуцину, которого она называла «выжогой», чтобы не употреблять другого слова, казавшегося ей греховным, – а оно и вправду было таковым, – придавала ей зоркость и проницательность, коей недоставало мадам де Ферьоль, в которой материнские чувства были заглушены чувствами безутешно скорбящей супруги. Будь Агата не нормандкой, а итальянкой, она бы решила, что Ластению сглазили. Ей пришла бы в голову мысль о загадочной jettatura[9]9
jettatura – порча, дурной глаз (итал.).
[Закрыть], которой эти пылкие итальянцы, верящие лишь в любовь и ненависть, объясняют несчастье, когда не понимают его причины; подобно тому как астрологи ставят счастливую или несчастную участь в зависимость от хода светил, они столь же безрассудно хотят истолковать ее силой человеческого взгляда. Однако на родине Агаты были другие суеверия. Агата верила, что людскими судьбами управляют невидимые силы, верила в колдовство. Отца Рикульфа, к которому она не благоволила, Агата подозревала в том, что он вполне способен наслать порчу на Ластению. Почему на Ластению, такую милую, такую невинную девушку? Как раз потому что она милая и невинная, ведь дьявол, делающий зло ради самого зла, пуще всего ненавидит невинность; падший ангел особенно завидует тем, кто предпочел тьме свет. Для Агаты Ластения была ангелом, который и на земле обитает в небесном свете.
Под влиянием мысли о порче старая служанка унесла и спрятала черные четки с черепами, к которым Ластения однажды прикоснулась с таким ужасом, – Агата этого не забыла; она отнеслась к четкам, как к священному предмету, который осквернили. Огонь все очищает, и она благочестиво сожгла четки. Но порча уже подействовала на Ластению, думала Агата. Порча въедается, проникает в душу наподобие огня, обжигающего плоть, ведь ад, из которого порча исходит, есть геенна огненная. Так говорила себе суеверная Агата, когда прислуживала за столом, стоя с салфеткой на руке и с прижатой к переднику тарелкой за стулом мадам де Ферьоль и не сводя глаз с осунувшейся Ластении, которая сидела напротив матери и ничего не брала в рот. Девочка начала уже утрачивать свою хрупкую красоту. Лишь два месяца прошло с тех пор, как отец Рикульф покинул их дом, а зло, которое он принес, становилось все ощутимее. Посеянное им дьявольское зерно, как выражалась Агата, начало давать всходы. Правду сказать, в самой печали Ластении не было ничего удивительного или пугающего. Печальной она была всегда. Она обитала в ужасной стране, которую Агата ненавидела, где даже в полдень не было светло и где Ластения жила с матерью, у которой в мыслях был только почивший супруг и от которой она никогда не слышала ласкового слова. «Не будь меня, – добавляла про себя Агата, – лапонька никогда бы не улыбнулась и зубок своих милых никогда бы никому не показала. Но теперь она не просто печалится. Ее „испортили“. Как пели у меня на родине: „Коль испортили тебя, долго не протянешь“. Так думала Агата. „У вас что-нибудь болит?“ – часто с беспокойством спрашивала она у Ластении, и в ее голосе проскальзывал ужас, несмотря на все старания не выдать мыслей, которые не давали ей покоя. Бескровные губы Ластении неизменно отвечали, что у нее ничего не болит. Все молодые девушки – нежные создания, стойко переносящие свои невзгоды, – отвечают, что у них ничего не болит, когда болит душа. Женщины так хорошо умеют претерпевать страдание, оно до такой степени становится их судьбой, и они так рано, принимая это как должное, начинают его испытывать, что долго, после того как страдание проникло в их душу, они говорят, что ничего не чувствуют. Ластения безусловно страдала. Под глазами появились круги. Кожа, всегда отличавшаяся белизной, покрылась темными пятнами, и морщины на опаловом лбу нельзя уже было счесть лишь следствием мечтаний. Внешне жизнь Ластении не изменилась. Все те же повседневные занятия по хозяйству, то же шитье у окна, совместные с матерью посещения церкви и прогулки вдоль гор, по их зеленым отрогам, где сверкают ручейки, вода в которых то прибывает, то спадает в зависимости от времени года, но никогда не прерывает своего течения. Они часто прогуливались здесь по вечерам в час, на всей земле отпущенный для прогулок.
В отличие от более счастливых обитателей равнин и побережий они не могли любоваться закатом. Солнца не было в этой стране, лежавшей в котловине между гор, которые преграждали дорогу его лучам. Закат можно наблюдать с вершины, но туда еще надо было добраться, а это так высоко! Во время самых дальних своих прогулок дамы де Ферьоль проходили лишь полпути до вершин. Вечерами вид этих гор с тучными землями, не похожих на скудные горячего рыжего цвета Пиренеи, – зеленый покров, местами изобилующий шарами кустарников, мощными деревьями, которые клонятся, извиваются, шевелят листвой по скатам, – хорошо, пожалуй даже чересчур хорошо, сочетался с печальными мыслями и чувствами гуляющих женщин. Опускавшаяся ночь окрашивала небо над их головами в темно-синий цвет, покрывала его звездами, а если ночь была лунная, то невидимая луна освещала жалкую щель неба бледно-молочным светом, так что, подняв взор, можно было убедиться, что оно все же существует. Подобно другим таким же, этот пейзаж вечером приобретал фантастическую окраску. Горы, вершины которых словно сближались в поцелуе, могли представать воображению стоящими в кружок гигантскими феями, что-то шепчущими друг другу на ухо, словно это женщины поднялись и, прежде чем откланяться, обмениваются с хозяйкой словами прощания. Такому впечатлению еще более способствовали пары, которые, поднимаясь от земли и от всех водных потоков, орошавших травы, словно накидывали белый бурнус искрящегося перламутром тумана на широкие зеленые одеяния гигантских фей, как воланами, отделанные серебристыми линиями ручейков. Только горы никуда не уходили. Они оставались на местах, и назавтра их видели снова. Из своих вечерних прогулок дамы де Ферьоль возвращались, лишь заслышав поднимающийся из маленькой долины внизу, под их ногами, где располагалась черная приземистая церковь романского типа, призывающий к вечерней молитве колокольный звон, который Данте называет „агонией умирающего дня“. Тогда они спускались обратно в погрузившееся во мрак селение и направлялись в похожую на склеп церковь, где обычно молились по вечерам перед тем, как отправиться ужинать.
Иногда Ластения отваживалась ходить на прогулки одна, когда мадам де Ферьоль по той или иной причине задерживалась дома. Это нельзя было счесть неосторожным поступком – их край был безопасен, прежде всего из-за того, что горы отделяли его от внешнего мира. Незнакомцев или людей подозрительных почти никогда не заносило в плотно прикрытую со всех сторон впадину, где жил, наподобие троглодитов, оседлый народ, причем многие так никогда и не покидали ее, словно странные чары держали их внутри этого мрачного заколдованного кольца. Путешественники, нищие, разного рода бродяги, встреча с которыми могла закончиться плохо для молодой девушки, пересекая Францию, обходили Форез по внешнему склону гор, по внутренней же стороне шли только жители этой небольшой узкой долины, мрачной и сырой, как колодец, а дам де Ферьоль тут чуть ли не суеверно почитали. Ластения могла назвать по имени всех пастушков, загонявших коз на верхотуру черных пастбищ, всех доярок, по вечерам приходивших по горным откосам на луга доить коров, всех рыбаков, что промышляют форель по бурным речушкам, набирая полные корзины рыбы, кормя ею весь край, подобно тому как в Шотландии рыбаки кормят всех семгой. Впрочем, мадам де Ферьоль никогда надолго не оставляла Ластению. Присоединиться к дочери было тем проще, что, договорившись, куда им пойти, мадам де Ферьоль могла видеть Ластению издалека на расположенных уступами косогорах – и даже из окон серого особняка, в трех шагах от которого зеленеющей стеной поднимались крутые отвесные горы.
Однажды вечером Ластения вернулась быстро – усталая, вялая, еще больше подурневшая. Внутренний недуг точил ее все сильнее. Теперь не нужно было особой проницательности, чтобы видеть насколько резко и явно изменился ее облик. От Агаты, которая всегда неукоснительно спрашивала Ластению о здоровье, та не скрывала более своего тяжелого недомогания. Она, правда, не объясняла, что именно у нее болит, только говорила: „Не знаю, что со мной, милая Агата“. Ее мать, прежде занятая лишь своим благочестием и воспоминаниями о муже, пожиравшими ее жизнь, в этот вечер начала о чем-то смутно догадываться. Все тело Ластении ломило, – даже зная, что мать, помолившись в церкви, должна была составить ей компанию в прогулке по горам, Ластения пришла в церковь, не имея больше сил ждать. Войдя и увидев мадам де Ферьоль, коленопреклоненную в исповедальне, Ластения, изнемогая от усталости, опустилась сзади на лавку. Неужели так утомила ее долгая прогулка? В церкви, и без того мрачной, становилось все пасмурнее. Свет через витражи уже не проникал. Но когда мадам де Ферьоль вышла из исповедальни, время ужина еще не наступило. „Завтра праздник. Почему бы тебе не причаститься со мной завтра? А сейчас, пока я буду молиться, пойди исповедуйся, – обратилась она к дочери. – У тебя есть время“. Ластения, однако, отказалась, сославшись на то, что не готова; она так и осталась сидеть на скамье и не молилась, пока мадам де Ферьоль, опустившись на колени, читала свои молитвы. Ластения чувствовала себя подавленной, и в этот момент ею овладело полное безразличие. Нежелание дочери исповедаться и причаститься удивило мадам де Ферьоль, но она решила не настаивать, чтобы не натолкнуться на сопротивление, которое ее только бы озлобило (себя она знала хорошо!); просто она восприняла отказ дочери как еще одну епитимью. Ревностно набожная мадам де Ферьоль была крайне раздосадована, но ее сила воли не уступала вере; когда из церкви они направились домой, Ластения должна была почувствовать, как дрожит от сдерживаемого волнения рука матери. Возвращались они молча.
На углу небольшой квадратной площади, отделявшей церковь от особняка де Ферьолей, работал кузнец, и через открытую дверь кузницы вылетала струя пламени. Ластения была так бледна, что даже огонь, красивший всю площадь в красный цвет, не смог преодолеть ее бледности, в эту минуту просто страшной. „Как ты бледна, – сказала мадам де Ферьоль. – Что с тобой?“ „Устала“, – ответила Ластения. Но когда они сели за стол – по обыкновению друг против друга, – черные глаза мадам де Ферьоль, глядевшие на Ластению, еще более омрачились, и та поняла, что мать таит на нее злобу за ее нежелание причаститься. Но Ластения не поняла, не могла еще понять, что в сознании матери угнездилась мысль – и она к ней еще возвратится, – на которой в один прекрасный день, как на страшном гвозде, укрепятся ее ужасные подозрения.
V
Назавтра мадам де Ферьоль послала за городским врачом Агату, которая со всей сердечностью и по-свойски заявила хозяйке, – благо, та дозволяла:
– Ах, значит, мадам видит, что мадемуазель больна. Я-то давно приметила и давно бы сказала мадам, но мадемуазель запретила, – не хотела беспокоить маму из-за недомогания, которое и само пройдет, – так она говорила. Но оно не прошло, и я рада, что врач теперь посмотрит…
Она не докончила мысли, так как со своей верой в сверхъестественные причины ничуть не думала, что от врача будет толк. Тем не менее Агата поспешила за доктором, тот пришел, расспросил мадемуазель де Ферьоль, но из ее ответов мало что мог заключить. Она сказала, что в ней как будто что-то обломилось и она чувствует непреодолимую слабость и смертельное отвращение ко всему.
– Даже к богу? – спросила мать с горестной иронией.
Мадам де Ферьоль не могла удержаться, – так она негодовала на дочь за ее давешний отказ причаститься. Ластения, которая никогда не жаловалась, без тени недовольства выдержала и этот удар, но словно нависшую над собой угрозу она почувствовала, что материнская набожность, – а Ластения всегда находила ее суровой, – может однажды обернуться к ней своей жестокой стороной.
Была ли Агата права в своих рассуждениях? Так или иначе, если врач и разобрался в причинах болезни мадемуазель де Ферьоль, матери он это никак не показал. Ничего определенного о состоянии Ластении он не сказал. Мадам де Ферьоль, которая сама никогда не хворала („Взамен счастья меня наградили крепким здоровьем“, – говорила она иногда), едва знала этого врача: она обращалась к нему, лишь когда Ластения, тогда еще совсем маленькая, болела детскими болезнями. Он уже десять лет пользовал в этой дыре, как презрительно выражалась Агата, что, впрочем, ничего плохого не говорило о его врачебном искусстве. В отличие от людей, нуждающихся в широких подмостках, чтобы проявить свои таланты и даже свой гений, врач может спокойно без всего этого обойтись. Разве не везде сыщется для него медицинская практика? Самый лучший, может быть, практикующий врач девятнадцатого века, Рокаше всю жизнь прожил в глухом провинциальном городке, в Арманьяке, где в течение пятидесяти лет показывал чудеса исцеления. Правда, врач из Фореза не походил на Рокаше. Это был здравомыслящий человек, обладавший некоторым опытом, – он предпочитал занимать выжидательную позицию и не насиловать природу, которая, однако, будучи женщиной, не прочь иногда, чтобы ее изнасиловали. Может, симптомы болезни были слишком неопределенными, и он, даже если и предвидел что-то серьезное, решил не высказывать своих мыслей? В общем, если что-то и вызвало его тревогу, он это скрыл, предпочитая лучше подождать, чем делиться с мадам де Ферьоль своими опасениями: по выражению ее черных глаз он понял, какая она строгая мать. Врач упомянул одно из расстройств, общих для девушек этого возраста, когда их органы при превращении девушки в женщину еще не могут достичь должного равновесия, и предписал не столько принимать лекарства, сколько выполнять гигиенические требования. Но только он вышел за дверь, как Агата решительно заявила:
– Все это как мертвому припарки. Такой ерундой мадемуазель не вылечить.
И действительно, никакого улучшения у Ластении, по-прежнему чахнувшей от странной хвори, не наблюдалось. Ее щеки стали свинцовосерыми, тоска давила еще крепче, отвращение усиливалось.
– Хотите знать, что я думаю, мадам? – сказала как-то Агата, когда они с мадам де Ферьоль были одни.
Обед подходил к концу, из-за еды, казавшейся ей тошнотворной, Ластению мутило, и она поднялась к себе в комнату немного полежать.
– Врач уже месяц сюда шляется, и все без толку, – сказала Агата и с горячностью добавила. – Последний раз был три дня назад. Так вот, я думаю, мадам, бедная девочка больше нуждается в священнике, который изгонит из нее злого духа, чем во враче, который не лечит.
Мадам де Ферьоль посмотрела на старую Агату так, словно у той были не все дома.
– Да, мадам, – продолжила преданная служанка, не боявшаяся осуждающего взора мадам де Ферьоль, которая смотрела на нее, выпучив глаза, – в священнике, который разрушит дьявольские козни капуцина.
Глаза мадам де Ферьоль сверкнули мрачным светом.
– Как, Агата, – произнесла она, – вы осмеливаетесь думать…
– Да, мадам, – отважно ответила Агата, – я думаю, что здесь побывал сатана, и он оставил следы, какие оставляет везде, где проходит. Когда он не может погубить душу, он отыгрывается на плоти.
Мадам де Ферьоль не ответила. Она обхватила лицо руками и так сидела, опершись локтями о стол, с которого Агата сняла скатерть. Мадам де Ферьоль размышляла о том, что с таким глубоким убеждением утверждала старая служанка, чьи слова, подобно клинку, проникали в ее душу, такую же набожную и даже много более набожную, чем у Агаты.
– Оставьте меня на минуту, Агата, – сказала она, подняв озадаченное лицо и снова прикрыв его руками.
Агата вышла из комнаты пятясь, чтобы дольше можно было наблюдать, в какое состояние привела ее речь хозяйку, которая сидела словно пораженная молнией.
– Ах, Святая Агата, – прошептала она, выходя, – пришлось выложить все начистоту, раз она сама в упор ничего не видит.
Мадам де Ферьоль вовсе не была суеверная – по понятиям толпы, ничего не смыслящей в сверхъестественном, – не была она мистически настроена и в христианском смысле слова, но веровала она глубоко. Сказанное Агатой должно было произвести на нее впечатление. Ей не пристало отрицать физическое вмешательство и видимое влияние того, кого святое писание называет духом лукавым. Она свято в это верила. Несмотря на свою рассудочность верила она в Сатану спокойно, в строгом соответствии с христианскими догматами и насколько позволяла церковь, мать всякого благоразумия и противница всякого легкомыслия. Мысль Агаты поразила ее, но с меньшей силой чем поразила бы более созерцательную, более экзальтированную натуру. И в то же время в этой мысли было для нее откровение, какого не было для Агаты. Благодаря своей женской интуиции мадам де Ферьоль, которая любила, которая уже пятнадцать лет пыталась успокоить свои чувства, угаснуть, но продолжала гореть и куриться неодолимой страстью к мужу, понимала то, что Агате, всю жизнь прожившей в сердечном целомудрии и безмолвии чувств, мешала понять ее душевная чистота.
Как и простодушная Агата, мадам де Ферьоль верила, что Сатана способен принимать ужасные обличья, но на собственном опыте она знала то, чего не знала Агата: страшнее всего, когда он принимает обличье любви. Молнией пронеслось в мозгу мадам де Ферьоль: „Что, если она любила его, что, если именно любовь – причина ее болезни?“ Она сидела, обхватив лицо руками, подавленная, но ее внутренний взор – тот, которым мы заглядываем в сумрак своих душ, – был направлен на эту внезапную мысль: „Могла ли Ластения полюбить?“ В жалком городишке, где живут лишь мелкие буржуа, где нет приличного общества, нет благовоспитанных молодых людей, где они с дочерью жили, как в Феваиде, в недрах пустынного особняка, возникает вдруг в сумраке души образ загадочного капуцина, который промелькнул в их жизни и исчез, как видение, образ тем более волнительный для женского воображения, что они так и не смогли разгадать его тайну.
Разве ужас – или то подобие ужаса, – который Ластения всегда выказывала при виде этого грозного сфинкса в рясе, сорок дней жившего рядом и оставшегося тем не менее для них загадкой, не свидетельствовал о том, что Ластения отнюдь не воспылала к нему любовью? Нет, наоборот, это как раз и подтверждало ее страстную любовь. Женщина в таких вещах разбирается. Даже если женский инстинкт не подсказал бы мадам де Ферьоль, подсказала бы ее собственная страсть. Сколь часто началом любви служит страх или ненависть, а ужас как раз и есть сочетание страха и ненависти, доведенных во взбунтовавшихся робких душах до неистовой силы. „Вы действуете на нее как паук“, – сказала как-то одна мать человеку, любившему ее дочь, а через два месяца после таких резких оскорбительных слов она уже воочию видела, с какой тайной болезненной жаждой счастья дочь извивается в мохнатых лапах паука, позволяя до последней девственной капли высасывать кровь из своего сердца.
Ластения трепетала перед таинственным капуцином, от которого веяло холодом. Но если мужчина не вызвал у женщины трепет, она его никогда не полюбит. Гордая мадам де Ферьоль должна была тоже трепетать перед неотразимым офицером в белой форме, который похитил ее, как Борей – Оритию. Мадам де Ферьоль стоило лишь вызвать в памяти былые годы, чтобы начать страшиться за дочь. „Если Ластения и понимает, что с ней, – подумала мадам де Ферьоль, – она не говорит, таится. Зло проникло глубоко“. Она вспомнила, как сама скрывала свою любовь. Пугливость и целомудрие так легко превращают любовь в ложь, в самую постыдную в своем сладострастии ложь. С какой безумной радостью напяливают маску вранья на горящее страстью лицо, но она сжигает маску, скоро обращает ее в пепел, и тогда уже страсть нельзя скрыть ничем.
Когда мадам де Ферьоль подняла голову, черты ее лица были спокойны, – она приняла решение: ей надо во что бы то ни стало узнать, что с дочерью. Врач теперь был ни к чему. „Я сама, – сказала себе мадам де Ферьоль, – должна во всем убедиться“. Она еще раз попрекнула себя грехом всей своей жизни, – тем, что она всегда была больше женой, чем матерью. Бог продолжал наказывать ее за это и поступал правильно. Так ей и надо. Когда Ластения, еле волоча ноги, вновь спустилась вниз и уселась у окна, где они работали, она бы, может, ужаснулась, если бы обратила внимание на выражение глаз мадам де Ферьоль, но на мать Ластения не посмотрела. Даже не пыталась. Она никогда не видела в этих глазах ласку, – а ведь Ластения по справедливости вызывала у всех нежность, – а от недобрых чувств она хотела себя оградить.
– Как ты себя чувствуешь? – после некоторого молчания спросила мадам де Ферьоль, откладывая белье в сторону.
– Лучше, – ответила Ластения, не поднимая головы и продолжая шить, но из ее опущенных глаз прямо на руки, на белье в ее руках упали отвесно две крупные слезинки. С иглой в поднятой руке мадам де Ферьоль наблюдала за падением этих, а затем и двух других слезинок, крупнее и тяжелее.
– Почему же тогда ты плачешь, а ведь ты плачешь? – спросила мать таким тоном, словно в чем-то упрекала или обвиняла дочь.
Смутившись, Ластения вытерла глаза тыльной стороной ладони. Ее лицо было бледнее пепла ее волос.
– Не знаю, мама, – ответила она, – это как-то само собой.
– И я думаю, что само собой, – отчеканивая слова, произнесла мадам де Ферьоль. – А то с чего бы тебе плакать? С чего горевать? Быть несчастной?
Она замолкла. Ее черные глаза, блестя, глядели в светлые глаза дочери, еще влажные от слез, казалось, высушивая их своим жаром.
Слезы высохли, и две иглы в тишине заработали вновь. Сцена была короткая, но чувствовалось, что надвигается гроза. Обе они заглянули в разделявшую их пропасть взаимного недоверия. Больше в этот день мать с дочерью не обмолвились ни словом. Жестокая тишина продолжала нагнетаться.
Эта тишина словно застывала между ними. А что может быть более печальным, более зловещим, чем когда живущие рядом не разговаривают друг с другом. Несмотря на всю ее решимость, боязнь удостовериться в своей правоте удерживала мадам де Ферьоль, и прошло еще несколько безмолвных дней. Наконец, в одну из бессонных ночей, размышляя о молчании, унижавшем их обеих, о гнетущем беспокойстве, порождавшем страх, мадам де Ферьоль устыдилась своей слабости. „Ластения пусть трусит, это ее дело, а я трусить не буду“, – и мадам де Ферьоль вскочила с кровати и схватила со стола лампу, которую она всегда держала зажженной, чтобы, когда не спится, видеть у себя в алькове распятие и, глядя на него, молиться с большим усердием. Но в этот раз она не созерцала распятие с молитвой на устах, она сорвала его со стены и в отчаянии понесла с собой, надеясь на его помощь в беде, готовой на нее обрушиться, – ведь навстречу ей и шла мадам де Ферьоль. Надо было сию минуту покончить со снедавшим ее мучительным беспокойством. Она вошла к дочери с лампой в одной руке, с распятием в другой, в белом ночном одеянии, словно страшный призрак. К счастью, никто не мог ее видеть, никого она не испугала, хотя сама была настоящим воплощением ужаса. Что ей теперь делать? Ластения спала, едва дыша, без сновидений, тем безжизненным сном, похожим на смерть, в который по ночам проваливаются люди, днем много страдавшие. Мадам де Ферьоль подняла дрожавшую в ее руке лампу и осветила лицо дочери; потом поводила лампой вокруг спящей Ластении, как бы пытаясь, воспользовавшись ее беззащитностью, проникнуть в тайну ее недуга.
– О, – выдохнула она с неподдельным страхом, – я была права, я угадала. У нее на лице маска.
Полное трагического смысла слово, обозначавшее для нее нечто ужасное, – слово, которое целомудренная Ластения просто не поняла, если бы услыхала.
Положив лампу на ночной столик, мадам де Ферьоль не сводила с Ластении глаз.
– Да, у нее маска! – сказала она себе и, внезапно придя в ярость, словно молотком, замахнулась распятием, чтобы разбить маску на лице дочери. Но это была лишь секундная вспышка. Тяжелое распятие не обрушилось на безмятежно спящую дочь, но – о ужас! – теперь против себя обернула гнев мадам де Ферьоль и ударила распятием по своему лицу. Ударила со всем ожесточением, в неистовом раскаянии, на которое обрек мадам де Ферьоль ее ярый фанатизм. Хлынула кровь, и звук удара разбудил Ластении», которая закричала, увидев неожиданный свет, текущую по лицу кровь и мать, бьющую себя распятием.
– Ах, ты еще кричишь, кричишь! – со зловещей язвительностью проговорила мадам де Ферьоль. – Когда надо было кричать, не кричала! А сейчас кричишь!
Она замолкла, ощетинившись, испугавшись своих же слов и возмутившись своими же мыслями.
– Притвора, лицемерка, как все здорово утаила, скрыла, и концы в воду. Ты не закричала, но твое преступление вопиет, и не только я, все кругом услышат. Ты не знала, что бывают маски, которые никого не обманывают, на которых все написано, – вот и на тебе сейчас такая маска, она тебя же и обвиняет.
Удивленная, испуганная, Ластения не понимала, о чем говорит мать; страшное видение, внезапно ее разбудившее, свело бы ее с ума, но от безумия спас обморок. Ничуть не сжалившись над дочерью, потерявшей из-за нее сознание, неумолимая мадам де Ферьоль, оставив дочь в беспамятстве, упала на колени и, вцепившись обеими руками в крест, которым себя только что била, целуя его подножие, раня губы о гвозди, воскликнула:
– О господи, прости меня, прости ее преступление, в котором есть и моя вина, потому что я плохо за ней смотрела. Я заснула, как твои неблагодарные ученики в Гефсиманском саду, и, пока я спала, пришел предавший тебя. Господи, возьми мою кровь во искупление нашего с ней преступления.
И она с новой силой обрушивала удары на свои окровавленные грудь и лицо.
– Пусть твой крест терзает меня, Боже крепкий.
Обессиленная, потерянная, подавленная мыслью о своем грехе и вечном осуждении, она рухнула на пол перед непреклонным Христом, который не простер руки с любовью, чтобы обнять спасенный мир, а протянул их к Отцу, как бы взыскуя справедливости. Мадам де Ферьоль, как эти руки, душою влеклась к небесам, не обращая внимания на безжизненно распростертое тело дочери.
VI
Когда Ластения пришла в себя, ее мать в изнеможении лежала на полу, уткнувшись лицом в крест. Но стоило очнувшейся девушке пошевелиться и жалобно вздохнуть, как мадам де Ферьоль, встрепенувшись, поднялась, и ее окровавленный лоб навис над Ластенией.
– Ты все мне скажешь, несчастная, – властно произнесла мадам де Ферьоль. – Я желаю все знать! Я желаю знать, кому ты отдалась тут, в этой глуши, где мы живем затворницами и где для тебя заведомо нет подходящей пары.
Ластения вскрикнула, но, не имея сил ответить, лишь растерянно, ошарашенно взглянула на мать.
– Говори сейчас же, перестань ломать комедию, хватит делать удивленные глаза и строить из себя дурочку, – продолжила суровая мамаша, которая из матери превратилась в судью, причем в судью, готового взять на себя заодно и палаческие функции.
– Но, мама, что вы хотите, чтобы я сказала? – воскликнула оскорбленная в своей невинности бедная девочка и перед такой жестокостью, перед такой слепой несправедливостью в гневе и тревоге разразилась рыданиями. – Что вы на меня нападаете? Я не понимаю, что вы говорите, но это ужасно – непонятно и ужасно. Вы меня убьете, я с ума сойду, и вы не в себе, раз такие страшные вещи говорите, и потом, у вас кровь течет.
– Пусть себе течет, – перебила ее мадам де Ферьоль и резким движением вытерла тыльной стороной руки лоб. – Знай только, что это из-за тебя, несчастная. И не говори, что не понимаешь! Не лги! Ты прекрасно понимаешь, что с тобой. Все женщины такое понимают. Им для этого достаточно взглянуть на себя. Я теперь не удивляюсь, что ты тогда не захотела идти исповедоваться.
– Ах, мамочка! – в отчаянии сказала Ластения, которая на этот раз догадалась, какие гнусные подозрения пришли матери в голову. – Вам самой должно быть ясно, что это невозможно. Я больна, мне плохо, но моя болезнь – вовсе не та страшная вещь, какая вы думаете. Кроме вас с Агатой я никого и не вижу. Я всегда с вами.
– Но ты одна ходишь гулять в горы, – глубокомысленно парировала жестокая мать.
– Зачем вы меня мучаете? – воскликнула оскорбленная девушка. – Ангелы небесные, сжальтесь надо мной! Вы ведь знаете, что я не такая!
– Не призывай ангелов, порочная дочь, они отвернулись от тебя, они больше тебя не слышат, – возразила мадам де Ферьоль, в слепоте своей не верившая целомудрию дочери, которое с такой безнадежной искренностью свидетельствовало о себе. Еще более озлобляясь, она закричала. – Мало тебе лгать, еще и святотатствуешь, – и тут с ее уст сорвалось страшное в своей обыденности слово. – Ты беременная, ты пала, ты обесчещена. Отрицай теперь, не отрицай – какая разница. Лги дальше, но появится ребенок и изобличит тебя. Погибшее, бесчестное создание! Но я желаю знать, кто твой сообщник, кто тебя обесчестил! Сейчас же говори, кто! Кто! Кто! – повторяла она и, схватив дочь за плечи, встряхнула ее изо всей силы, так что Ластения откинулась на подушку, белая, как сама подушка.