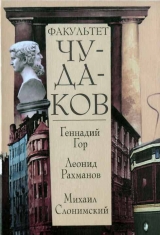
Текст книги "Факультет чудаков"
Автор книги: Геннадий Гор
Соавторы: Леонид Рахманов,Михаил Слонимский
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц)
– Постой! Постой! Погоди! Зря идешь. Теперь в колхоз не берут. Поздно.
– Меня возьмут, – отвечает Катерина. И идет дальше.
– Постой! Постой! – догоняет ее муж. – Обожди! Вперед нужно написать заявление. Разве ты не знаешь, что без заявления не берут. Обожди!
– Нечего ждать, – отвечает ему Катерина, – мне там напишут. Люди грамотные.
И она идет дальше.
– Постой! Постой! – догоняет ее муж. – Куда торопиться? Обожди до завтра. Завтра пойдешь. Завтра и день лучше. Сегодня понедельник. Плохая примета. Старики говорят. Они знают, не ходи.
– Мы с тобой не старики, – отвечает Катерина. – Пускай старики сидят. А я пойду.
И идет.
– Постой! Постой! – догоняет ее муж. – Обожди! Мне надо тебя спросить… всего одно слово…
– Спрашивай, – говорит Катерина.
– Я тебя бил? – спрашивает муж.
– Нет, не бил.
– За волосы таскал?
– Нет, не таскал.
– Пьяным приходил?
– Нет, не приходил.
– Почему же ты от меня уходишь? – спрашивает муж.
– Я от тебя не ухожу, – отвечает Катерина.
– Как же ты не уходишь, когда ты уходишь в колхоз?
– И ты тоже иди.
– Я не могу, – говорит муж, – мне Петухов коня обещал, только чтоб в колхоз не ходил. «Будешь хозяином», сказал он. Буду хозяином. Ни разу не был хозяином. А ты хозяйкой.
– Ну, и живи хозяином у себя, – говорит Катерина. – У тебя будет один конь. А у нас триста. У тебя будет одна корова, а у нас пятьсот. Прощай. Я пойду.
И идет дальше.
– Постой! Постой! – догоняет ее муж. – Обожди! Ты говоришь – триста, так они не твои, они общие. А то мой.
– Мои или не мои, – отвечает Катерина, – а работать на них буду и я. И не на кулака, а на себя и на общество. Ну, я пойду, а то опоздаю. Увидимся. Я иду.
И она идет дальше.
– Постой! Постой! – догоняет ее муж. – Погоди. Ты и вправду идешь?
– Вправду, – отвечает Катерина.
– А как же ты идешь? – спрашивает он.
– Вот так, – говорит Катерина и показывает, как она идет, то есть идет.
– Да так и я могу, – смеется муж и тоже идет. – Постой! Постой! – догоняет он ее, – погоди!
– Нечего мне ждать, – говорит Катерина. – Я уже пришла. Видишь, контора.
– Так, значит, и я пришел? – догоняет ее муж.
– И ты пришел! – отвечает Катерина. И открывает дверь в контору.
– Постой! Постой! – останавливает ее муж. – Как быть? И хочется и боязно. Хуже не было бы.
– Не будет.
– Так, значит, и мне… записаться?
– И ты запишись.
– А меня примут?
– Примут.
– Так черт с ним с кулаком, – говорит муж, – с его работой и с его кобылой! Записывай и меня!
Они входят в контору колхоза, ожидая увидеть контору. Но вместо конторы в конторе они видят не только контору, но и просто комнату. Но эта комната была не только веселой, но и деловой, комнатой нового дела, конторой коллективизации, доказательством того, что дело – бумага и перья, исходящие и вводящие – может быть не скучным и сухим, как пыль, но веселым, как эта улыбка этого председателя, добродушным, как круглые щеки румяной девушки, делающей подсчет с тем видом, с каким собирают ягоды. И вся обстановка этой конторы говорит новым языком, похожим на язык контор не больше, чем объяснение комсомольца на ответ бюрократа. Никакого бюрократизма, так же как никакой пыли. Ни пыли, ни бюрократизма. Потому что признаком всякого бюрократизма бывает пыль, казенный воздух, сухие стены, пыльные лица, сухие перья и ответы, похожие на вопросы и слова, слова, похожие на закрытую дверь. Ни закрытых дверей, все двери открыты, как лица, ни столов, на которых можно только писать. Все столы похожи на столы, на них можно не только писать, но и читать, пить чай, играть в шахматы, разумеется, в свободное время, иногда немного мечтать о необыкновенной пшенице, о свекле больше всех свекл, о свиньях, не похожих на свиней, и даже о любви.
На этих стульях удобно сидеть, на этом полу удобно стоять, с этими людьми приятно разговаривать. И, к довершению всего, на средине комнаты обыкновенная кровать, с серым одеялом и измятой подушкой, подтверждающей, что эта контора не только контора, но и комната, просто комната. Войдя сюда, Катерина и ее муж почувствовали, как будто они пришли к себе домой. Их точно ждали. И они сели пить чай вместе с товарищем Молодцовым, отпустив куриц клевать крошки.
– А я вас ждал, – говорит Молодцов. – Вчера ко мне приходила целая делегация от наших пионеров. Рассказали о вашей корове. Я им ответил – посмотрим. Возможно, что вы и не придете. Всякое бывает. Они рассердились. «Не ожидали, – говорят они мне, – от вас такого бюрократизма. Что за недоверие». И, когда уходили, хлопнули дверью. Вот как обиделись. Так были уверены, что вы придете. А я посмеиваюсь, нарочно выражаю сомнение. Ну, хорошо. Хорошо. Я позову Чашкина и Конькова. Они вам покажут наши достижения и недостатки, а кстати и порадуются вашему приходу. Заявление ваше будет рассматриваться вечером. Но вы можете уже считать себя принятыми.
Так они сидят и разговаривают. Весело рассуждают и пьют чай. Молодцов неумело ласкает куриц Катерины, как собак. Кажется, что вся обстановка смеется с ними и вместе с ними пьет чай.
Но вот люди меняются. И кажется, что меняется даже обстановка. Никто не смеется. И все принимают деловой вид, строгий, но отнюдь не бюрократический. В комнату входит кулак. Он входит тихо, согнутыми шагами, с полунасмешливой улыбкой на полуиспуганном лице, держа подобострастную шапку в руке, готовый ко всему, умеющий погладить и ударить. Но вот кулак свирепеет. Он меняет выражение лица, как меняют рубаху, с подобострастного на нахальный, и вот он уже не идет, он топает и кричит, он машет руками и кричит, он машет руками, точно хочет полететь, и вот всем кажется, что он летит.
– Я – Петухов, – кричит он, хотя все знают, что он Петухов.
– Но вы не петух, – говорит ему Молодцов. – Зачем же вы так кричите и машете крыльями? Не махайте руками.
– Буду, – кричит кулак, – махать руками, – он машет руками, – потому что нет такого распоряжения, чтобы мое изображение вешать в огороде. Я вам не пугало.
– Нет такого распоряжения, – подтверждает товарищ Молодцов.
– Раз нет, – кричит Петухов, – так сию минуту снимите.
– Но снимать тоже нет распоряжения, – говорит улыбаясь товарищ Молодцов, – нет распоряжения, чтобы снимать.
– Как нет такого распоряжения? А вешать есть распоряжение?
– Ни вешать, ни снимать.
– Тогда я сам сниму, – говорит кулак.
– Если сумеете, – отвечает Молодцов, – но вы не сумеете.
И вот кулак снова меняется. Он не машет руками и не кричит. Наоборот, он даже улыбается, И вот он даже смеется.
– Пусть висит, – говорит он.
– Что висит? – спрашивает Молодцов.
– Да мое-то изображение. Вашим ребятам на удовольствие, вашему огороду на пользу.
– Так, так, – говорит Молодцов, – так. А еще что скажете?
– Оно даже мне приятно, что висит. Хочу – пожалуюсь, не хочу – не пожалуюсь. В городе последнее время разные художества не одобряют. Загибами их называют. А это какой будет – правый или левый? Да что о пустяках говорить-то. Я к вам насчет налогу поговорить пришел. Сбавить надо. Я обиду долго в себе держать умею. Но благодарить, товарищ Молодцов, тоже еще не разучился. Так, так.
– Как так?
– Да так, – говорит Молодцов, – платить надо. Сколько наложено, столько и платить.
– В дурном настроении, вижу вы, – говорит кулак. – Ну, я еще зайду. Побеседуем.
И уходит.
– Вот сволочь-то, – говорит Молодцов, – того гляди, и взятку предложит. Ну, я ему предложу.
В это время приходят Коньков и Чашкин и уводят Катерину и ее мужа осматривать достижения.
– Бой-баба, – говорит Молодцов, – вот муж ни то, ни се. Видели, как перетрусил Петухова? Чуть под стол не залез.
А Катерина и ее муж осматривают достижения и недостатки. Окруженные толпой колхозных ребятишек, они переходят из свинарника в овчарник, из овчарника в парники, из парников в огород, из огорода в маслобойню, из маслобойни в сад. И везде Катерина открывает недостатки. Там не понравилась морковь. Здесь у овец очень грязная шерсть. Телята лежат там, где им не нужно лежать. Свиньи стоят там, где им не нужно стоять. В маслобойне проливают очень много молока. Сепаратор не вычищен. В амбаре водятся крысы.
Чашкин и Коньков уже начинают опасаться.
– Зачем ты повел ее сюда? Надо было сначала показать достижения, наши поля и наших лошадей. Наши машины.
– Ну, конечно. Это ведь не я, а ты привел ее сюда. Дурак этакий. Теперь она уйдет. Она порвет заявление, непременно уйдет и все из-за тебя.
– Нет, из-за тебя она уйдет.
– Нет, из-за тебя.
Они уже готовы пустить в ход кулаки. И вот они уже дерутся и кричат, позабыв, что их может услышать Катерина.
– Она уйдет из-за тебя, – удар по голове.
– Нет, из-за тебя, – удар по шее и в грудь.
– Да никуда я не уйду, дурни этакие, – разнимает их Катерина.
Они смотрят на нее и видят: она смеется. Ну, конечно, они ее плохо знают. Недостатки – где их нет – способны только усилить ее энергию, усилить ее желание работать.
– Какие мы остолопы, конечно, она останется.
И они смеются. В огороде они смеются над изображением кулака. Петухов, увеличенный в три раза. И руки, приделанные позади к спине, руки в виде крыльев, ветряной мельницы, машут, как руки Петухова, пугая птиц.
– Недостатки, – говорит Катерина, – это ничего, если их можно исправить. А у вас такие недостатки, которые легко будет исправить. А я опасалась, что у вас гладко, как на бумаге. И мне нечего будет делать.
– Ну и женщина, – удивляются Коньков и Чашкин, – ну и баба. Первый раз видим такую женщину.
Срисовальными принадлежностями в руках, неуклюжий и смешной, я догоняю их в саду.
Я рисую их, как могу, мои руки торопятся и не успевают.
Вот – Коньков с разорванной штаниной, с высоким загорелым телом и смеющимся ртом. Вот Чашкин, низенький, с узкими, чуть хитроватыми глазами на совершенно круглом лице. Вот другие ребята. Вот Катерина, обыкновенная женщина, рябая, с узким лицом. Не получается. Похоже на фотографию и потому неверно. И рву рисунок.
Прежде всего они не стоят, а ходят. И ходят хотя все вместе, но каждый по-своему. И мне кажется, что они знают, что я не умею изображать людей. И я чувствую, что они смеются надо мной. И, чтобы окончательно не сесть в галошу, привычной рукой я рисую сад.
Деревья, на которых пышно произрастают ветви, сталкиваясь одна с другой, листья, которые переплетаются, плоды, которые сцепляются, цветы, которые обнимают друг друга. Я отдельно изображаю широкую сосну, вокруг которой крутится плющ. Цветы своими яркими красками напоминают птиц. И тут меня прерывает Катерина.
– Я забыла про птичник, – говорит она, – покажите ваших птиц.
И они идут в птичник. А я за ними, в надежде на то, что мне удастся изобразить не только цветущий луг птичьих перьев, но людей, что труднее всего, людей. И тут я слышу, как разговаривают Чашкин и Коньков.
– А знаешь, чем мы отомстили кулаку Петухову? – спрашивает Чашкин.
– Знаю, – говорит Коньков, – чучелом.
– Нет, не знаешь, – возражает Чашкин, – кулак плюет на чучело. Мы отомстили кулаку тем, что вовлекли в колхоз его батрака, Катерининого мужа, и его батрачку – Катерину.
– А это правильно, – соглашается Коньков. Это правильно.
Изображение деревьевТри дерева на берегу реки и человек, прицеливающийся из ружья в белку, – так выглядела местность.
Когда из-за горы выбежали рога и олень возвращающегося Шелоткана поравнялся с охотником, тот уже выстрелил. Ни линия падающей с дерева белки, ни короткое, как выстрел, приветствие, не заставило охотника нарушить молчание.
Шелоткан двинулся. Его быстрые сани то поднимались на круглые бугры, то падали. Фигура оленя, точно вырезанного из доски, бежала на двух плоских ногах, по крайней мере так казалось со стороны.
Ночью он приехал. Брат, открывший ему дверь, и мать, поставившая для него чайник, были его братом и матерью, а долгое отсутствие не превратило его в того наблюдателя, каких раньше поставляли города, любующегося на лес и рассматривающего глазами постороннего убогую утварь тунгусской юрты.
Ложась спать, он уже видел себя встающим. Над ним синий круг неровно вырезанного неба; ему ли не знакомо это первобытное окно, служившее одновременно и отверстием для дыма. Вот он надевает свою старую одежду и, взяв топор, идет выбирать место. Здесь он срубит первое дерево…
Когда он подходил к лесу, находившемуся на расстоянии версты от юрты, он услышал за собой крик и обернулся: его догонял брат.
Там они долго стояли, показывая то на лес, то на белую полоску реки, то на оленей, уменьшенных расстоянием, отчего они казались орехами кедра, рассыпанными по белой шкурке, то на юрты соседей, казалось, потому стоявших на одном месте, чтобы их можно было отличить от медленно, но все же передвигавшихся животных. Вот брат поднял два пальца, как бы призывая их в свидетели. Кто знает, не были ли эти два поднятых им пальца символом тех двух религий, христианской и языческой, к которым он принадлежал, но они могли означать также два времени, охоту и отдых, зиму и лето, на которые тунгусы делят свой год, отбросив весну и осень. Шелоткан громко захохотал. Это и был его ответ брату. Тот сердитым удалялся, махнув рукой. Он уходил, медленный и широкий, расставляя ноги, точно на лыжах. И все же он вернулся, чтобы помочь Шелоткану. Сосна, срубленная ими, была тем деревом, под которым они любили играть когда-то, красное, оно пахло смолой, и не оно ли заставило Шелоткана вспомнить первую рыбу, пойманную им в реке, первого зайца, им подстреленного, и, наконец, реку. Где та девушка, у которой имя, как у реки? Он не решился спросить об этом у брата. Тот молчал. Стараясь не отставать, Шелоткан шел по следам его проворного топора. Одинаковые, одинаково одетые, склонясь над двумя разными сторонами одного и того же бревна, они подвигались, машущие топорами, окруженные стаей летающих щепок.
Дятел тайги стучал над ними и долбил дерево, изображая их работу. Вдруг тени машущих всадников показались на опушке. Люди оленей приближались к ним, приветствуя издали. Перетянутые ремнями, они походили на те мешки, которые, перевязанными посредине, свешиваются по обеим сторонам их седел. Одна фраза: «мы с вами», произнесенная на разный лад несколькими голосами, напоминала лозунг МОПРа, она-то и запомнилась Шелоткану.
– Будемте работать, – отвечал он им.
И что же, работа быстро подвигалась – шумная работа, освещаемая вечерними кострами и веселыми рассказами. Длинные трубки и кожаный кисет, переходивший из рук в руки, с вышитым изображением тунгусской охоты, казалось, были выражением того коллективного отдыха, который следует за временами добровольной работы.
Неизменным персонажем всех их рассказов был шаман, живший на другой стороне реки. Высокий хозяин луны, он обладал и снегом, и засухой, и шкурками соболя, распоряжаясь своим телом, как вы – деревом. Рассказывали про него, как он, разведя костер зимы, раздевался, бросая в огонь свою одежду, рубашку и унты, руки и ноги, потом живот, и, оставшись при одной голове с одинокой косой за костлявой спиной, он снова собирал их, вытаскивая прямо из костра, примеривая и надевая, прилаживая руку к руке, ногу к ноге, живот к туловищу так же быстро и ловко, как немногие из вас приладят слетевшее в поле колесо к телеге.
– Враки, – говорили иные, чтобы угодить Шелоткану, и не смеялись, верный признак того, что они боялись и верили.
Не прошло и двух недель, как школа была готова, построенная многими топорами.
– До города далеко, необходимые принадлежности прибудут не скоро, а мы пока что начнем, – говорил Шелоткан.
И только олени маленьких тунгусов показались, он открыл школу, говоря:
– Все готово. Печка вытоплена.
А белая доска и древесный уголь, предназначенный заменять мел, украшали бедность далекой школы.
«Построим социализм» – вот что было написано на стене. Прибывшие ученики, проворные ребята, умели курить, они сумели бы и выследить горностая, поймать осетра или подстрелить убегающего сохатого и снять, не повредив, его дорогие рога и уже не доверяли старикам и богатым. Привязав лошадей, они побежали к источнику, туда, где стоит камень реки. Освещенные белым солнцем зимы, они крались, изгибаясь, шли один за другим, ногами индейца, стараясь попасть в следы идущего впереди. Так играют их сверстники, пионеры городов, еще не виданные здесь. Но вот показался камень реки, каменное изображение быка, вырубленного тайгой. Над ним росло дерево, которое по преданию разговаривает только с теми, кто, придя раз, понравится реке, на языке того, с кем оно заговорит.
Тайга раскрылась, показав им их лица отраженными в круглом зеркале незамерзающего источника. А кругом скалы и снег. Ребята шепчутся и, погрузив руки в источник, горячий, как чай, стремительно вытаскивают их обратно, вместе с песком достав со дна серебряные кружки денег. Их покрасневшие, ошпаренные пальцы – цена денег, пойманных в воде, как рыба. Они возвращались, посмеиваясь над взрослыми, наивная вера которых заставила бросать в источник деньги – благодарность за исцеление. Но достаточно было показаться коршуну, летевшему над ними, маша угрожающими крыльями, чтобы прекратить их насмешки. Кто из них мог поручиться, что это коршун, а не сам шаман, переодетый в одежду птицы.
Угольные буквы на белой доске, темные спины учеников, склонившихся над книгой, тихий голос Шелоткана да длинные его шаги взад и вперед по комнате были выражением их ежедневной учебы.
Они пожелали знать все. Какие реки омывают те берега? Какие звери их населяют? Громоподобный слон поразил их воображение меньше, чем слоноподобный паровоз, дыхание воды которого, управляемой человеком, было сильнее сотни запряженных оленей. Не странно ли, что, не веря в существование паровоза, они поверили в существование слона. Впрочем, может быть, причиной этого были кости мамонта, которые они находили не раз. Достаточно было сказать название какой-нибудь машины, как они уже спрашивали, как называются ее части, и быстро запоминали их, не веря в существование самой машины. Наступающая техника была по их мнению уловкой отступающих рек и тайги, ловкостью шамана, в волшебство которого они не верили с тех пор, как поступили в школу. Они поверили бы в удивительное существование машин только тогда, когда бы увидели их. Виной их неверия был сам Шелоткан, пока что еще не сумевший как следует объяснить.
«Африка» – вот слово, обрадовавшее их не меньше, чем слово «верблюд».
– Верблюд, верблюд, – закивали они головами, точно это слово было давно им знакомо.
– Пальмы – это деревья, – продолжал Шелоткан.
И вот деревья Африки и деревни Африки приближаются. Пальмы, сопровождаемые соснами, слоны, окруженные оленями, голые люди, шагающие черными ногами по белому снегу навстречу людям, закутанным в белые меха.
– Да это Интернационал, – сказали ученики. Они, оказывается, уже знали слово «Интернационал».
А вдали возвышались горы с вершинами голубыми, как лоб бога, высеченного из голубого камня.
Ученики слушали. Незнакомые понятия радовали их, как новое ружье, а новые слова, как вода незнакомых озер, ласкали их уши.
– Балалайка, – неизвестно для чего, сообщил Шелоткан это ненужное им слово.
– Байкал, – продолжал он, – самое глубокое озеро.
Расстояние, которое раньше казалось им огромным, теперь кажется им маленьким, так как они узнали, что существуют миллионы верст: расстояние от них до солнца.
– Бойкот, – продолжал Шелоткан, не зная, как объяснить им это слово, понятие которого казалось ему не менее далеким от молодых тунгусов, чем слово «банкир».
– Бойкот, бойкот, – кивали они уже головами. Откуда они могли знать это слово?
– Бойкот – это Дароткан, – говорили они.
– При чем тут Дароткан? – спросил Шелоткан.
Тогда один из учеников нарисовал на доске углем три дерева на берегу реки и человека, прицеливающегося из ружья в белку.
По ширине ли высоких плеч или по манере стоять, откинув ногу, но Шелоткан сразу узнал молчаливого охотника.
– Это Дароткан, – сказал рисовавший. Остальные пояснили. Дароткан и есть тот длинный тунгус, который несколько лет тому назад спас отряд белобандитов, преследуемый красноармейцами, показав им путь, известный только тунгусам. Убегая, белобандиты перепороли бедняков и отобрали у них оленей, оставив взамен своих загнанных, издыхающих лошадей. И потому нет ничего удивительного в том, что тунгусы, в большинстве бедняки, отвернулись от предавшего их охотника.
– Теперь я знаю, что такое бойкот, – сказал Шелоткан смеясь.
Глядя на рисунок, он радовался не только пробуждающемуся классовому самосознанию, но тому методу, который ему подсказывал ученик. Рисунок поможет ему рассказать то, чего не сумеют передать слова. Он был в этом уверен.
Как-то раз, когда он объяснял им выгоду земледелия перед охотой, первобытным занятием, где еще управляют удача и неудача, а люди подчиняются тайге, в школу вошел зловещий старик. Как мертвая рыба, он шелушился, приближаясь, и распространял запах реки.
– Учишь? – спросил он водяным голосом. – Это что? А ты лучше покажи, куда убежала белка. Горностай исчез. Сохатого нету. Ответь же, где гуляет весь соболь? – И ушел. Это и был шаман. Его голос, казалось, был предвестником продолжающегося несчастья: последние две зимы были годами неудачной охоты.
Между тем тунгусы уже собрались. Костер, осветивший многоугольное лицо толпы, показал и шамана, прыгающего на одной ноге. Порывистым движением ветерка, он выхватил из костра пылающий уголь и, перебрасывая его с одной руки в другую и дуя, он положил его в рот. Как дым, шаман поднимался над костром и скакал, стуча в бубен. Толпа увеличивалась. Вот показались молодые тунгусы, ученики Шелоткана, посмеиваясь и щелкая орехи.
– Это что, – сказали они, припомнив фразу шамана, сказанную им Шелоткану. – Это и мы умеем. А ты вот брось в костер свою руку или ногу. Брось, что тебе стоит. Брось. Брось, – дразнили они его.
И что же, он вытащил одну ногу и, прыгая на правой, бросил левую в костер. Ветер трепал его пустую гачу, как флаг смерти. Нога с треском горела на костре, а тунгусы, объятые ужасом, пятились от костра, пока не наткнулись на привязанных оленей, не вскочили на них и не взмахнули бичами. Только их и видели.
Школьники вернулись в школу. А торжествующий шаман заковылял к реке.
– Я упираюсь в облака, – сказал он.
– Что это означает? – спросила Река, так звали его дочь.
– Я оставил свою ногу догорать, – сказал он. – Учитель посрамлен. Тунгусы уверены. Ученики убеждены.
– Смотри, он тебя разоблачит, – сказала Река.
– Соболь ходит в тайге, – сказал шаман. – Соболь обманул дураков. Где Дароткан?
– Дароткан здесь, – сказал Дароткан. И они ушли.
Через несколько дней Шелоткан созван тунгусов.
– Нужно изменить занятие, – сказал он, – пахать и сеять нас научат наши товарищи, русские крестьяне. На первых порах они нам помогут. Охота заставляла нас бездельничать и голодать летом. Теперь мы все будем заняты, летом – земледелием, зимой и осенью – охотой.
Тунгусы молчали. Старики мотали головами в знак того, что они были не согласны. Один из них встал и сказал:
– Шаман против. Шаман рассердился. Он сказал, что белка вернется. Сеять не надо. Пахать не на чем будет. Олени не привыкли. Мы не привыкли. Шаман против. И мы против.
– Я знаю, что шаман против, – сказал Шелоткан, – и против богачи Им не хочется работать. Хлеб они купят у крестьян. А на охоту пошлют голодных тунгусов, заплатив им гроши. Если мы пожелаем перейти на земледелие, город нам поможет. Пришлют машины. Трактор.
– Шаман против, – возразили богатые тунгусы. – Шаман бросил ногу. Удача будет.
– Она у него деревянная, – сказал Шелоткан. – Он ее в городе купил.
– Мы видели, – возразили тунгусы. – Такую из дерева не сделаешь. Не ври.
– Хорошо, – сказал Шелоткан, – я выпишу на города вам ногу. Привезут. Увидите.
– Зачем врешь! – закричали богатые тунгусы. – Зачем народ обманываешь!
– Обманывает народ шаман, – сказал Шелоткан. – Привезут ногу. Вы тогда убедитесь.
– Если привезут, тогда и поверим, – сказали тунгусы. – Тогда и пахать можно будет. Только не привезут. Где это видано, чтобы ногу из дерева делали.
А зима уже таяла. А лед уже шел. Шелоткан ждал ногу. Он закрыл школу, распустил учеников и пошел к реке посмотреть воду. Дерево стояло возле него, а он вспоминал город. Вдруг кто-то позвал его:
– Я плыву. Жди.
– Это голос Реки, – сказал Шелоткан. – Я узнал. Жду.
Лодка с высокими краями показалась на середине. В ней была Река. Так звали дочь шамана. Она прыгнула на берег, обшитая бисером и сверкая.
– Лови, – крикнула она Шелоткану, ударив его по плечу, и побежала, ускользая. Бегая вокруг дерева и дразня его, она крикнула: – Учитель.
Шелоткан побежал за ней, позабыв, что он учитель, и вспомнив детство. Утомленный кружением вокруг дерева, тяжело дыша, он сказал:
– Стар стал. Стал неловок. Где мне тебя поймать.
– Стар стал. Стал неловок, – передразнила его Река. – Купи себе ногу. В городе продают. Тогда поймаешь.
И, обшитая бисером и сверкая, прыгнула обратно в лодку, уплывая и смеясь над Шелотканом.
Каждое утро Шелоткан выходил встречать ногу. Но ноги не было.
Однажды он решил ее изобразить. На доске углем он нарисовал искусственную ногу, с мастерством, которое не знакомо европейским художникам. Казалось, что это было не изображение искусственной ноги, а сама искусственная нога, которая стояла, которая шла. Тунгусы уже верили Шелоткану. Один из них, столяр и кузнец одновременно, заявил, что он сделает ногу по рисунку. И что же, не прошло и двух дней, как он возвратился с ногой. Нога была сделана из дерева, кожи и железной пружины. Она сгибалась в колене. Нога была как нога. Тунгусы осматривали ее со всех сторон, ощупывали и, позвав безногого бурята, примерили ему ногу. И вдруг нога пошла, потому что пришлась буряту впору. И, приехав на одной ноге, он уехал домой на двух.
Так был разоблачен шаман. Была организована первая сельскохозяйственная артель тунгусов. Целый край менял свое занятие. Тунгусы учили оленей труду, учась сами, казалось, меняла занятие сама тайга, менялась сама тайга, и солнце новой весны поднималось над гольцами, весны коллективного земледелия.
Так, полезный, появился в тайге трактор. Стадо оленей окружило его в тайге, враждебное стадо удивленных оленей обнюхивало его и лизало железо, как оно лижет соль на солончаках.
Тунгусы бросились искать Шелоткана. Но его не было ни в школе, ни в поле, ни дома.
Только через несколько дней они нашли его в лесу, с простреленной грудью. Его принесли в школу и положили на стол.
Над ним висела доска. И тут все увидели давно забытый рисунок: три дерева на берегу реки и человека, прицеливающегося из ружья в белку.
И все догадались, кто убил Шелоткана.








