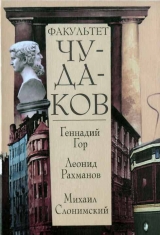
Текст книги "Факультет чудаков"
Автор книги: Геннадий Гор
Соавторы: Леонид Рахманов,Михаил Слонимский
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 30 страниц)
Прошло два дня.
Базиль успел окончательно утвердиться в мысли, что искусство требует жертв, как и сама жизнь. Случай с задавленным способствовал укреплению этой мысли. По правде сказать, ему было жалко беднягу, лежавшего с раздавленной грудью в своей пропотевшей, как у всех у них, рубахе. «Но кто сказал, что поступь искусства легка? – думал Базиль. – Архитектура для своего воплощения нуждается в непосредственной тяжести материала, требует камня, а камень давит людей. Таков закон архитектурного искусства, и я готов ему подчиниться».
Через два дня вернулся Шихин. Базиль не успел сказать ему и двух слов: Шихин, лишь только приехав, принялся с лихорадочной спешкой готовиться к приему важных гостей. В самое ближайшее время, может быть завтра, на остров должен прибыть господин главный архитектор в почетной компании с прусским генералом, пожелавшим взглянуть на редкое зрелище.
Кроме того, что нужно было все приготовить к ревизии, Шихин хотел поразить гостей неожиданным эффектом: откалываемый монолит должен был отвалиться от скалы в присутствии гостей, ни раньше, ни позже! А для того надлежало расширить трещину возможно больше, но до известного предела.
Базиль был посвящен в приготовления. Он волновался, сомневаясь в успехе затеи, не зная, как можно предугадать разлом.
Впрочем, не желая встречаться с Монфераном, он не собирался присутствовать при торжестве. Он все еще был в обиде, а по правде сказать, и завидовал – его брала досада, что Монферан живет в созданной им самим для себя эпохе исступленного титанического величия, о которой мечтал Базиль. Этот человек заставляет многие сотни и тысячи рабочих людей ломать и ворочать каменные горы для удовлетворения своей честолюбивой фантазии. Базиль был уверен, что полнощекий француз обуреваем манией величия.
По приезде Шихина работа шла день и ночь, с трехчасовым перерывом на самое темное время белой финской ночи. Наутро всех здешних рабочих перевели во вторую каменоломню, расположенную на дальней оконечности острова: там они станут продолжать работать, там сегодня менее ответственный участок, а сюда перевели оттуда свежие силы, попросту говоря – выспавшихся людей.
Было все приготовлено к разлому: клинья забиты как только возможно глубоко, меж клиньев, в ту же щель, вставлены длинные прочные рычаги, к рычагам прикреплены канаты, тянущиеся к шпилям. В решительный момент шпили начнут действовать, – их с силой завертят люди, – канаты натянутся, рычаги напрягутся, кувалды ударят по клиньям в последний раз, порода застонет – и расколется.
Монферан прибыл в десять часов утра на пароходе, принадлежавшем Берду. Мистер Чарльз Берд, выходец из Англии, был владельцем большого механического и литейного завода в Петербурге и основателем первого пароходства на Неве. Первый пароход его представлял пока диковинку для Петербурга, но этим же летом комиссия по построению Исаакиевского собора наняла у Берда другой его, новый небольшой пароход для буксирования барж с колоннами.
Мистер Берд с супругой и дочерьми, Монферан с женой, приближенными и строительными помощниками и прусский генерал со свитой вышли на берег, представляя в своем лице три нации, а также три отрасли современного производства: металлическую промышленность, строительное искусство и военное дело. Жена и две дочери мистера Берда являли со своей стороны румяные образцы шотландского здоровья.
Впрочем, Базиль не разглядывал все это важное шествие, он ушел в глубь острова, хотя ему было и жаль лишать себя предстоящего зрелища.
Базиль вернулся после полудня, предполагая, что все уже кончено. Действительно, все увенчалось полным успехом. Узкий и длинный обломок скалы, обещавший со временем превратиться в блистательную колонну исаакиевского портика, уж лежал, отваленный на заранее подсунутые бревна. По этим бревнам его перекатят люди, куда захотят. Не беда, что кого-то задавит при этом, все-таки люди поступят по-своему.
Базиль изменил своему прежнему намерению, он подошел к высокопоставленной группе. Он встал, с таким расчетом примостившись у скалы, чтобы ему было слышно и видно, а его бы не видели. Этак вышло, пожалуй, еще оскорбительнее для его гордости, – он будто подслушивал и подглядывал, – но почему-то об этом Базиль не подумал.
Беседа заканчивалась, общее восхищение было выражено всеми способами, какие только допускает светское приличие, и Монферан пожелал сказать в заключение:
– В древности для расколки камня применяли силу небольшого, но непременного расширения деревянных клиньев, обливаемых кипятком. Эти деревянные клинья были вбиты в отверстия, продолбленные в камне. Но я, – Монферан победоносно огляделся, интересничая перед дамами, – я предпочел этому испытанному, но крайне медленному средству физическую силу русского работника, природной сметливости, ловкости и разумному покорству которого я неоднократно отдавал должное.
Монферан еще раз победоносно поглядел туда и сюда, взбил петушиный кок.
Дамы захлопали в ладоши. Мужчины любезно их поддержали. Прусский генерал, натянуто улыбаясь, несколько раз приложил одну к другой свои блистательно белые перчатки, в которых, казалось, не было рук: настолько вялы и безжизненны были их движения.
В это время рабочие закричали «ура». Шихин удачно распорядился, догадавшись, что Монферан хвалил себя и попутно – русских рабочих.
Осмотрев в течение дня остальные работы, гости уехали к вечеру. Перед самым их отъездом специальнао для дам был устроен – под видом технического взрыва в каменоломне – фейерверк. Дам уверили, что каждый технический взрыв непременно сопровождается у них на острове блестящим фейерверком, и нарочно повели посмотреть на последствия якобы взрыва – на заранее разбросанные в каменоломне гранитные обломки.
Дамам понравилась веселая работа в каменоломнях.
ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВАТотчас же после отъезда гостей Шихин подошел к Базилю и очень серьезно, даже с нахмуренными бровями, сказал:
– Хвалю, что не торчал перед глазами Монферана. Пока еще рановато. А потом, может, сам попрошу возле него тереться.
– Разве он… – начал было Базиль.
– Знаю, что хочешь сказать. О службе у него. Так я тебе скажу: об этом и не мечтай. Монферан получил все надлежащие сведения о тебе, так что не захочет взять. Знает, что из-за тебя с помещиком хлопот не оберешься. Да и без того бы не взял, заносчив он, брат.
– Я это знаю, – отвечал Базиль с деланным спокойствием.
– И хорошо, коли знаешь. А знаешь, так зачем ушел от Павла Сергеевича? Он ведь не прежний, приструнит тебя за побег. Бежал от него – на что надеялся?
Допрашивая, он пронзительно из-под рыжих бровей – смотрел на Базиля.
Не устранись его глаз, Базиль нашел в себе смелости прямо ответить:
– На вас надеялся.
Лицо Шихина сразу подобрело.
– Молодец, так и надо было ответить. Значит, поверил в мою заруку. Ну, раз уж ты такой молодец, так хочешь, молодец, у меня служить?
Почти выкрикнув последнюю фразу, Шихин снова уставился взглядом.
Предложение не было уж столь неожиданным, и Базиль не затруднился ответить.
– Да, – сказал он, – хочу. Но… – он захотел сразу все выяснить, – вы скажите, во-первых, в качестве кого мне служить, во-вторых, как вам удастся выручить меня от Павла Сергеевича?
Шихин посмеивался, очевидно, несколько удивленный решительностью ответа Базиля и деловитостью его вопросов.
– Ну-ну, молодец. Прежде скажу, как выручу, о другом-то дальше разговор будет. Очень просто выручу. Выкуплю, да и все тут.
– Что?! – Базиль не поверил ушам, да и возможно ли было поверить в такое счастье?
– И все тут, – подтвердил купец, похлопав себя по карману. – Мое почтение, за любезные денежки.
Базиль в радости не знал, что сказать.
– Вдруг не отпустит…
– Отпустит. У меня с ним свои дела. Да ему и надоело уж с тобой возиться, видит, что толку мало, а теперь уж и вовсе. Метода его для тебя самая неподходящая…
– Но как мне благодарить вас – восторженно перебил Базиль, хватая Шихина за руку.
– Сочтемся. Ты послушай, что я тебе предложу, может, и служить не захочешь, завтра же поворотишь с повинной к Павлу Сергеевичу…
– Никогда!
– Погоди, погоди. Вот я вижу, на тебе одежа приказчичья. У меня ты, смотри, тоже приказчиком будешь, не думай, что больше. Из приказчиков, значит, в приказчики.
– Я знаю, – тихо сказал Базиль.
– Хорошо, что знаешь. А это ты знаешь, чт о я тебя заставлю делать?
На лице Базиля выразилось недоумение.
– Я тебя взыскивать заставлю. Взы-ски-вать, – с расстановкой повторил купец, вглядываясь в лицо Базилю.
– Взыскивать? – Базиль уже догадался.
– Оно самое. Максимыч, приказчик мой, слаб, мало взыскивает. Потому как не ради дела, а ради денег служит, не за совесть старается. А на тебя я надеюсь, я тебя давно присмотрел, с первого раза. Ты ради дела, за совесть будешь служить, потому как ты молодой и увлеченный…Людей не будешь жалеть, а уж искусству своему послужишь. Так ли?
– Послужу, – покорно отозвался Базиль.
– Согласен?
– Согласен.
– По рукам, стало быть. А в свободное время прожекты свои рисуй, не запрещаю. Даже сам пойду хлопотать, если путные будут. Меня везде уважают. А теперь вот что скажи мне… – Шихин сменил торжественный тон на секретный, доверительный: – чего Монферан говорил напоследок? К месту ли я велел ура кричать?
Базиль перевел с французского почти дословно последние слова Монферана. Шихину очень понравился конец фразы, и он попросил повторить. Базиль повторил. Эти слова ему самому понравились и запомнились:
– «Испытанному, но медленному средству я предпочел физическую силу русского работника, природной сметливости, ловкости и разумному покорству которого отдаю должное».
Купец закрутил свою бороду с видом крайнего восхищения.
– Вот человек! Учись у него, Васек. Этот для своего искусства не пожалеет работника. Слышишь, покорства требует.
И опять доверительным тоном Шихин сказал Базилю, во второй раз называя его непривычным именем:
– Вот видишь, Васек… Ты мне этим еще пригодишься – по-французски знаешь. Я это тоже ведь рассчитал, когда о тебе думал. Ладно, догадался я, когда надо ура кричать, точно меня осенило, а ведь мог маху дать. В другой раз ты слушай, чего они говорят, да мне и переводи потихоньку. И будет у меня собственный переводчик. В Питере это ой как нам пригодится. Всю конкуренцию вокруг пальца обведу. Ну, пойдем спать, пора.
ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВАТрудно рассчитать вернее, чем рассчитал Шихин. Он подстрекнул Базиля как раз тем, чем подстрекал себя сам Базиль. Увлеченный искусством и почти равнодушный ко всему остальному, Базиль целое лето живет на острове Питерлак, помогая Шихину, в отсутствие замещая его, усердно исполняя все поручения, и ни разу ему не пришло в голову спросить Шихина о тех обстоятельствах, при которых началась перестройка собора. Правда, кое-что Шихин не знал сам, но все же о многом мог рассказать, потому что был умен, сообразителен, всем интересовался. Чуя во всем возможность выгоды, он подкупал чиновников, чтобы проникнуть в казенные тайны. Наибольшая полнота осведомленности – таков был девиз Шихина. Не беда, что многие сведения лежали в его памяти мертвым, как бы ненужным грузом: если сами они не приносили явной выгоды, все же они научали его разбираться в людях, событиях, знать, что к чему, увеличивали житейский опыт.
Шихин мог рассказать интересную и скандальную историю начальной поры перестройки собора.
От своего родственника, церковного старосты купца Игнатия Горбунова, Архип Шихин знал все подробности ссор двух причтов.
Если Базилю бы привелось узнать о такой кровной заинтересованности соборного духовенства в свечных и кошельковых доходах, то он произнес бы любимое презрительное словцо прежнего Павла Сергеевича: «Меркантильные интересы!» И ни в чем бы не разочаровался, даже в голову бы ему не пришло, что услышанные подробности могут находиться в какой-то связи с самой идеей постройки его здания.
Действительно, Базилю почти удалось убедить себя в том, что строится егоздание, по проекту его, Базиля, а не какого-то Монферана, которого он и знать не хочет.
Впрочем, иной раз он рассуждал, довольно здраво. Стоя на берегу, он говорил себе: «Теперь я добываю колонны для чужогосооружения, это нужно признать. Когда мне понадобятся колонны для своего,тогда уж я не смогу заняться всецело этой работой, потому что главный архитектор должен быть занят общим руководством и не может уделять отдельным работам много времени. Надо пользоваться случаем! Представим себе, что я заготовляю сейчас монолиты впрок – для своих будущих сооружений. А они, несомненно, будут, я так молод еще и в своей жизни успею построить что захочу… Пока же – стану жить в моем каменном мире…»
– Меньше думай, а больше делай, – сказал Шихин однажды, подкравшись сзади. – Знай, что я тобою доволен, но был бы доволен и того пуще, если бы ты меньше думал, да больше делал. На-ка прочти вот бумагу.
Базиль принял из рук Шихина договор, в котором шихинским ногтем был отчеркнут 2-й пункт.
Поставленным на сем основании рабочим людям работать в продолжение всего года ежедневно, не исключая и праздничных дней, кроме воскресных, с утра до вечера, столько, сколько в каждое время года действительно возможно будет, и состоять во всем, что до работы относится, в совершенном повиновении и послушании.
– Ну, и что? – сказал Базиль, прочитав отчеркнутый пункт. – Я это раньше читал.
– Ну, и то, – сказал Шихин, – прочитай вот теперь мой рапорт.
В руках Базиля очутилась другая бумага, написанная не без щегольства самим Шихиным.
В комиссию, составленную по высочайшей воле, для окончательной перестройки Исаакиевского собора
От санкт-петербургского купца Архипа Шихина
Рапорт
На предложение оной комиссии от 31-го минувшего июля за № 180, последовавшее по поводу желательного изменения пункта 2-го нашего договора с комиссией, честь имею донести следующее. Ежели комиссии будет угодно, то мое решение таково, что каменотесцы и в воскресные дни должны на работу выходить безотговорочно, но только с тем, чтобы за каждый воскресный день, в который происходит работа, комиссия должна производить мне плату за рабочих людей вдвое против обыкновенной.
Купец Архип Шихин.Сентября 7 дня 1826 года.
Базиль прочел рапорт и молча отдал его купцу.
– Ну? – сказал тот и самодовольно усмехнулся. – Ловко написано?
– Ловко, – подтвердил Базиль без особого восхищения.
– Мне чужих грамотеев не для чего нанимать, – продолжал Шихин с тем же самодовольством. – Слышишь – не для чего!
Базиль с опаской поглядел на рапорт и вдруг обмолвился резким словом:
– Это же несправедливость!
Шихин нахмурился.
– Ишь, выскочил! А и только себе хуже сделал, больше-то никому не повредил, не помог. Я хотел тебя в Питер с этой бумагой послать, а теперь не пошлю.
– Не пошлешь? – опять вырвалось у Базиля.
Шихин язвительно усмехнулся.
– Не пошлю. Думаешь, заявленьице в нужник брошу? Нет, брат, сам отвезу. Слышишь? А ты здесь останешься. Тебе весело будет здесь… заранее говорю.
Базиль все еще не понимал, что от него хочет Шихин. Тот продолжал дразнить, не договаривая до конца. Потом, вдоволь натешившись, Шихин сказал очень серьезно:
– Все, что прикажу тебе, исполнять обещался?
– Да, – Базиль совсем присмирел.
– Какой завтра день?
– Воскресенье. – Базиль начал смутно догадываться.
– Так вот, я приказываю тебе вывести завтра всех на работу.
Базиль растерялся.
– Как? Я их должен заставить?
– Сумей. Останешься один, я сейчас уезжаю. Чтобы завтра в обычное время работали все. До свиданьица.
Шихин ушел в помещение. Оттуда он спустится на берег к лодкам и кликнет двоих рабочих. На лодке он доберется до Фридрихсгама, из Фридрихсгама с попутным судном отправится в Петербург.
Базиль остался стоять, как стоял. Такое поручение его подавило. Но он уже не знал теперь, чем подавило оно – несправедливостью к рабочим или тем, что его трудно выполнить?
Базиль стоял в каменной лощине. Солнце уже село, рабочие, поужинав, ложились спать в своих бараках. Вокруг Базиля, стоявшего в одиночестве, был его каменный мир. Спускались осенние сумерки.
В первый раз этот огромный гранит, цвета запекшейся крови, показался Базилю страшным. Вокруг были темные впадины, ямы, пещеры. Днем они жили, там работали люди. Сейчас они были мертвы, как могилы, а тишина – как после землетрясения. Каменная порода, развороченная до основания, успокоилась, словно навсегда.
– И чего только ты, Василий Иванович, тут поделываешь? Неужто за малой нуждой сюда из дому вылез?
То был веселый голос бурильщика, первого знакомца Базиля на острове. Несмотря на то, что Базилю не раз приходилось его штрафовать (бурильщик подчас был рассеян, терял инструменты), он оставался, как в первый день, расположен к Базилю, не помня зла, был всегда добродушен и весел. Веселость была присуща его походке, его разговору; улыбка не сходила с его лица.
Базиль с болью подумал сейчас, как он станет завтра приказывать этому человеку работать, когда неугомонные ноги того хотят завтра плясать… Он готовит уже балалайку и новые лапти, он предвкушает радость: завтра он будет плясать, сам себе подыгрывая…
Странно звали его – дядя Корень (настоящее имя его было Корней). Эта кличка не подходила к его подвижности, к оторванности его от земли. Какой же он корень?
Базиль хмуро спросил, сопротивляясь жалости:
– А ты зачем сюда? Почему не спишь?
– Спать – пусть Ванька спит, – был ответ, – а я погуляю лучше. Архип Евсеич прислал. Уезжает, хочет с тобой видеться.
– Я не пойду, – сердито сказал Базиль. – А ты иди себе, не мешай.
– Чего не мешай-то? Чего у тебя такое в котелке варится?
– Пошел! – закричал Базиль со слезами в голосе. – Пошел, спи!
Дядя Корень неодобрительно покачал головой, однако послушался и убежал, притопывая лаптями.
Базиль снова остался один со своими мыслями. К ним прибавился еще стыд за грубое обращение с дядей Корнем, не помнящим зла. Базиль не хотел признаться себе, что у него всегда было особое чувство к Корню, какое-то родственное, чуть не сыновнее, напоминающее то братское чувство, какое он испытал, расставаясь со своим ямщиком Мишей.
Базиль сел на камень, у самой стенки расщелины, привалился и не заметил, как задремал. Заснул, как наказанный мальчик.
Когда он пробудился, была ночь. Звездное небо, шум моря, голоса ночных птиц, свежесть воздуха – все было так не похоже на бледные сумерки, чт о до сна окружали Базиля.
Базиль пробудился значительно ободренный. Он увидел во сне, что Шихин еще раз пришел к нему и сказал лукаво: «Искусство забыл? Не хочешь ему послужить?» На это будто Базиль сказал: «Хочу, но как?» Шихин улыбнулся еще лукавее, чем наяву, и шепнул на ухо: «Посулим чего-нибудь райского. Что для них и самого рая лучше и бога дороже…»
Окончательно пробудившись, Базиль вдруг вспомнил: Шихин однажды и наяву, в разговоре с ним, употребил то же самое выражение. Неужели прибегнуть к такому средству?
ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВАВ четыре часа утра Базиль приказал бить побудку.
В мутный сентябрьский предрассветный час неистово зазвонил колокол. Люди высыпали из бараков, как были – полуодетые, заспанные, не понимая, зачем будят в праздник. Их было около тысячи. Половину нужно отправить немедленно в северную каменоломню, половину оставить в южной.
Но как объявить об этом?
Став на крыльце шихинской светелки, Базиль в растерянности смотрел на великое полчище, галдевшее подле бараков. Он рассчитывал заговорить, как только они немного утихнут. В первый момент он самым настоящим образом струсил: он не различал в толпе ни одного знакомого лица, он боялся всей массы в целом. Но если бы он и увидел в толпе хоть того же, например, дядю Корня, то не испытал бы сейчас стыдливой неловкости перед ним и подавно не испытал жалости, Базиль чувствовал, что толпа заранее настроена против того, что он ей сообщит. Базиль ощущал себя отчужденным и потому сам был настроен враждебно. Неестественно было лишь то, что Базиль терпеливо ждал, когда люди утихнут и приготовятся слушать его, а люди все продолжали шуметь. Шум был нечленораздельный – казалось ему.
«Как я им скажу, – с отчаяньем думал Базиль, – когда они не хотят меня слушать?»
Он не понимал, что люди шумели как раз оттого, что он не приступал к делу, не объявлял прямо и коротко, зачем их подняли. Люди требовали, чтобы он говорил, а он не различал в общем шуме ни одного человеческого слова, он был занят только собой и своим волнением.
Наконец недоразумение разрешилось. Разрешилось, как началось, – столь же непредвиденным образом. Шум все усиливался, и Базиль, отчаявшись наконец, как-то непроизвольно, по-детски открыл рот. В ту же секунду шум стих (так зорко они следили за Базилем). Изумившись, Базиль шагнул вперед, к самому краю крыльца. Его встретила полная тишина. Несмотря на крайнюю свою растерянность, Базиль все же не упустил возможности заговорить.
– Братцы, – сказал он как можно громче и резче и затем во всеуслышанье провозгласил все, что требовалось.
Договаривал он уже торопливо, почти механически и в то же время с облегчением думал: «Как хорошо, что они молчат! Значит, приняли с покорностью».
Базиль хотел было конец сказать очень бодро: «Что ж, по местам, за работу, братцы!» – как вдруг передний ряд зашевелился (все так же молча) и пропустил на площадку перед крыльцом дядю Корня.
На ногах дяди Корня были новые лапти, в одной руке он держал балалайку за гриф. Балалайка блестела, лапти поскрипывали.
Дядя Корень подошел к крыльцу, неспешно поднялся на две ступеньки и скромно подал Базилю свою драгоценную балалайку.
– На, позабавься, парень, а мы поработаем в свое удовольствие, – сказал дядя Корень обычным своим шутовским голосом; лицо его было тоже обычно, в веселых морщинках.
Базиль улыбнулся и доверчиво протянул руку за балалайкой, желая поддержать шутку. В ту же секунду он ясно увидел, как незнакомо перекосилось лицо дяди Корня: веселые морщинки слились в одну злобную, дядя Корень взмахнул балалайкой… Базиль отдернул руку, но было уже поздно: ладонь постыдно горела. Балалайка сделала свое дело. Шутка Корня на этот раз была злой. Да и вряд ли шутил дядя Корень: он стоял перед Базилем, дрожа от желания еще раз ударить.
– Чтобы я, – пробормотал дядя Корень, – чтобы мы сегодня. Вот я тебе, поскудыш!..
Толпа между тем уже опять ревела в один трубный голос, и трудно было понять – хохот это или гнев. Все равно, Базиль чувствовал, что то и другое направлено на его голову. Он чувствовал также, что сам смелеет и проникается злым желанием покорить толпу. И, словно обрадовавшись подоспевшей решимости, поторопился запальчиво крикнуть (скорее взвизгнул, чем крикнул).
– Se taire!
Что означало по-русски: молчать!
Но никто не обратил внимания на смешную французскую его запальчивость. Тогда Базиль сошел с крыльца, подошел к дяде Корню, кричавшему в первых рядах, и молча вытянул его за плечо из толпы. Дядя Корень позволил увести себя в хозяйскую светелку, а там Базиль объявил ему:
– Можешь сказать всем, что Шихин выкатит бочку вина за то, что станете работать в праздник. Иди и скажи. А теперь уходи, пожалуйста… До свиданьица! – добавил Базиль плачущим голосом и сел на лавку.
У него разрывалась голова от боли, от насильственных слов и мыслей, какие сегодня приходилось придумывать. Он не смотрел на Корня и ждал только, скоро ли тот уйдет. Он знал, что теперь может быть «спокоен», рабочие поймут, здраво рассудят, что их и так, и без бочки, не сегодня, так в следующее воскресенье заставили бы работать, ну а бочка все-таки подсластит им оброк.
Это и было райское средство.
Дядя Корень переступил с ноги на ногу и сказал тихо и уже опять шутливо:
– На, парень, побереги ее, махонькую.
– Положи тут на стол, после работы возьмешь, – ответил Базиль, не оборачиваясь.
Как-то особенно кротко улыбаясь, дядя Корень положил на край стола заветную свою музыку. Базиль уронил голову рядом с ней и закрыл глаза. Все так же жалостно улыбаясь, дядя Корень осторожно погладил красивые волосы Базиля, и проговорил мягко:
– Слаб ты, парень. Да и я, знаешь, слаб. Ну, да Шихин нас с тобой выучит. И ты будешь без жалости, и я когда-нибудь буром тебя зашибу.








