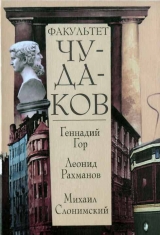
Текст книги "Факультет чудаков"
Автор книги: Геннадий Гор
Соавторы: Леонид Рахманов,Михаил Слонимский
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 30 страниц)
На углу проспекта 25-го Октября и проспекта Володарского Масютин для скорости сел в трамвай. И новые названия, которые выкликал кондуктор на остановках, не вызывали усмешки, а успокаивали его на этот раз. На улице Герцена он сошел. Идя по ней в противоположную от арки сторону, он продолжал оглядывать и осматривать все вокруг, чтобы убедиться в силе следователя. Проходя мимо разрушенного дома, опять взволновался: вот рухнет так все вместе с вывесками, и тогда расстреляют его за то, что он выдал контрабандистов. И почему нельзя торговать заграничным товаром? Ведь своего не хватает – зачем же тогда запрещать ввоз? И тут Масютин понял, что дело контрабандистов понятней и ближе ему, чем дело следователя и тех, кто с ним. Он сам не контрабандист, но контрабандисты для него все же свои люди, а следователь – чужой ему человек и даже враг.
Следователь принял его не сразу.
Но вот наконец Масютин вошел в его комнату.
Следователь спросил:
– Что вы имеете сообщить? Я вас слушаю.
Масютин снял фуражку, положил ее на стол, вынул из кармана штанов грязноватый платок, отер им лицо, особенно тщательно почистил над верхней губой и опустился на стул. Он не знал, как начать объяснение. Положил ногу на ногу, запустил руку в правый карман черного кителя, вынул портсигар, раскрыл, зацепил папиросу, постучал ею о крышку портсигара.
– Я за советом, товарищ Широков, – сказал он. – Не знаю, как все это обернется. Впоследствии это для меня неясно. Теперь ясно, а впоследствии…
И он замер в недоумевающей позе: в левой руке – портсигар, правая, с папироской между указательным и средним пальцами, слегка откинута, голова наклонена задумчиво к правому плечу.
Максим (он вел дело Масютина) сразу понял, что означало это «впоследствии». Он спросил резко:
– Итак, что вас беспокоит?
Но Масютин уже ничего не хотел говорить следователю о своих сомнениях: опасно. Он видел с ясностью, что выгоднее всего сейчас выдать контрабандистов, а о будущем пока не думать. В будущем объяснение всегда найдется: сказать, например, что его пытали, мучили и только таким путем добились того, что он выдал, или просто отрицать, или еще выдумать что-нибудь.
– Беспокоит меня, как обернется, – отвечал он, и в голосе его появились давно забытые крестьянские певучие ноты. – Завтра хочу я одного поймать, сговориться надо.
– Давайте сговариваться, – сказал Максим.
Когда торговец ушел, Максим задумался о себе. «Впоследствии» Масютина вызвало в нем рой привычных мыслей. Ведь главная-то разница между ним и, например, этим торговцем, может быть, и заключается именно в этом «впоследствии».
Он вспомнил то время, когда он сам не знал, какое «впоследствии» лучше. Это было не так давно. Потому что ведь до четырнадцати лет он рос при отцовском лабазе на Васильевском острове. Отец, правда, разорился, даже нищенствовал одно время, и Максим должен был приняться за работу, чтобы не погибнуть. Но все же детские воспоминания и привычки остались у него, и даже долгие годы совсем иной, полуголодной жизни не вполне вытравили их. Даже теперь во многом – ну хотя бы в делах с женщинами – сказывается его василеостровская жизнь. И до сих пор он любит Васильевский остров и не может равнодушно пройти мимо Румянцевского сквера, куда некогда бегал он, чтобы поиграть в палочку-воровочку и в казаки-разбойники. А городское училище, в котором он обучался, на углу Седьмой линии и Среднего проспекта! А Малый проспект, где он жил! С людьми, вышедшими оттуда – с Малых и Средних проспектов Петебурга, – приходилось ему теперь иметь дело, но уже в качестве следователя, а не товарища детских игр. Он знал и понимал этих людей, и это очень помогало ему при допросах в разборе дел, которые он вел. И теперь он спокойно уже арестовывал людей, среди которых, может быть, были и те, с кем он некогда катался вместе на коньках, устраивал битвы во дворах Васильевского острова, приучался, тайком от родителей, курить и гулять с девицами. И то «впоследствии», ради которого он работал сейчас и жил, служило для него в деле мерилом, указанием и оправданием.
VIII
Павлуша явился к Масютину в понедельник вечером. Он не застал торговца дома: тот как раз в это время уговаривался со следователем о том, как словить контрабандистов. Вера, всхлипывая, рассказывала Павлуше, в каком сумасшедшем виде вернулся муж со Шпалерной и как без всяких объяснений убежал вдруг неизвестно куда. Она, впрочем, не забыла накормить Павлушу обедом, дать ему немного денег и запихать в карманы его пальто бутерброды с ветчиной.
Павлуша, узнав, что Масютин освобожден из-под ареста, сразу же успокоился: значит, его помощь уже не нужна, от него ничего не требуют. Поедая все, что няня ставила на стол, он говорил ни к чему не обязывающие успокаивающие слова. Потом отправился домой. Темное окно его комнаты больше не страшило его: ведь он уже не одинок, ведь в комнате Лиды – свет. Павлуша, не постучавшись, отворил дверь Лидиной комнаты и остановился в недоумении.
Комната Лиды не похожа была на Павлушину: она – короче и шире. Это – почти квадратная комната в два окна. Тут все в чистоте: на полу разостлан ковер, из которого Лида сама еженедельно выбивала на дворе пыль; справа – ширма, скрывающая кровать и туалетный столик; на ширме этой зеленые пятна лепестков, белые и красные цветы, основной желтый фон и разглядеть трудно; слева – буфет, а ближе к окну – красная узкая коротенькая кушетка; над кушеткой, на стене – большая олеография, изображающая исповедь полководца перед битвой: полководец стоит на коленях перед ксендзом, а ксендз простер над ним руки; картина эта принадлежала кисти польского мастера и называлась «Spowiedz przed bitwa»; она осталась на стене от прежнего жильца – поляка, расстрелянного за шпионаж. Меж окон, против двери – стол, по бокам его – два стула и кресло. На одном из стульев сидела Лида, на другом (стул повернут был спиной к стене) – незнакомый человек в костюмной тройке. Он заложил ногу на ногу, показывая над лакированными, с замшей, ботинками полоски зеленых, со стрелками, шелковых носков. Завидев Павлушу, он быстро сунул правую руку в карман брюк и поднялся со стула. Павлуша понял, что рука его, задержавшаяся в кармане, сжала рукоятку револьвера.
– Не бойся, – сказала Лида незнакомцу, – это мой муж.
И обернулась к Павлуше:
– Знакомься с моим братом Мишей.
– Я не боюсь, – промолвил Миша и вынул руку из кармана. Видно было, что слова Лиды оскорбили его; он явно был чувствителен сверх меры ко всему, что могло хоть как-нибудь унизить его. – Я не боюсь, – повторил он, и лицо у него потемнело.
Он обратился к Лиде:
– Очень рад, что ты замужем. Меня всегда беспокоило, что ты…
И он с совершенным спокойствием не кончил фразы. Не замялся, а просто поставил точку там, где не следовало. Он был невысок ростом, худощав; штатский костюм не мог скрыть принадлежность его к военному сословию: гость держался прямо, убирая плечи назад, – и эта повадка была естественна и непринужденна. Стоя против Павлуши, он не прямо глядел на него, а, чуть влево повернув голову, слегка косил черным, как и волосы его, глазом.
Пожав руку Павлуши, он опустился на стул.
Лида торопилась показать Павлуше подарок, который привез ей из Гельсингфорса брат. Павлуша увидел изящнейшую, широкую, почти квадратную голубую коробочку. Лида потянула кверху голубую, с золотом, кисточку, – из упаковки медленно стал вылезать флакон тончайшего стекла. Павлуша прочел на флаконе: «Coty» – и пониже марки: «Paris». Он взял коробочку с флаконом, рассмотрел рисунок на ней: река, мост, на берегу – дворец; в небо, во всю длину коробочки, летели, скрещиваясь на пути, две золотые стрелы фейерверка. Повернув коробочку другой стороной, Павлуша читал вслух, радостно вспоминая, что ведь он очень неплохо владеет французским языком: «Cette specialite et ces accessoires ont ete crees par moi…»
Но тут Лида отобрала у него драгоценный подарок.
– Разобьешь еще. Настоящие «Коти» Пари. Таких духов тут и не достанешь.
– Вы из-за границы? – осведомился Павлуша у гостя.
Почтительный тон, которым был задан этот вопрос, польстил Лидиному брату. Он ответил небрежно:
– Да. Сегодня днем приехал.
Лида сказала:
– Ты можешь Павлуше вполне довериться. Он тебя не подведет.
Заграничный гость сердито сдвинул брови:
– Ятебя прошу, Лида, не указывать мне. Я сам знаю, что делать.
И обратился к Павлуше:
– Сегодня я ночую в вашей комнате.
– Пожалуйста, – отвечал Павлуша. – И будьте покойны…
– Покажите мне, где вы живете, – перебил Миша.
Павлуша повел его к себе.
Мише очень не понравилась Павлушина комната. Он брезгливо морщился и говорил:
– Как можно жить в такой грязи! Это что за пакость? – он указывал на пружинный матрац, торчавший меж кроватью и стеной. – Это выбросить надо. И вообще…
Он, не кончив ругаться, поставил точку, замолк и, отворив окно, принялся приводить комнату в порядок. Павлуша поражался быстроте и четкости его движений. Прежде всего Миша вытащил матрац в прихожую. Потом, увязав в один узел простыню, одеяло, наволочку и все, что лежало на кровати и возле нее, заявил кратко:
– Эту дрянь надо сжечь или в помойку.
Затем, взяв у Лиды веник, подмел комнату. Не успокоился до тех пор, пока сор, пыль и паутина не исчезли отовсюду. Тогда он перетащил к Павлуше свой чемодан и ремни с одеялом и подушкой. Павлушина комната совершенно изменила свой прежний вид. А на кровати согласился бы поспать чистоплотнейший человек в мире: одеяло, простыня, наволочка – все было теперь вне всяких подозрений. Миша объяснял Павлуше:
– Я проведу тут дней пять. Потом уеду, а это все оставлю вам. Только имейте в виду, что белье надо отдавать в стирку, стирать. Поняли?
И, вынув из чемодана две толстые бутылки, он пошел к Лиде.
– Настоящий английский коньяк, – сообщил он, ставя бутылки на стол. – Дай штопор, Лида. А муж твой в грязи живет. Это нехорошо. Надо быть чистоплотным.
Стол был уже накрыт: три прибора – на белоснежной скатерти. И у Павлуши рот наполнился слюной: обед у няни нисколько не уменьшил его аппетита – он мог проглотить хоть пять обедов подряд. От себя он присоединил к пиршеству бутерброды с ветчиной, полученные от няни.
Запивая бифштекс коньяком, Миша рассказывал Павлуше о себе. Он любил говорить о себе, особенно когда собеседник был почтителен, а коньяк горячил кровь.
Жизнь Мишина была не совсем обыкновенной. Он из университета пошел добровольцем на фронт; дослужился до чина штабс-капитана; получил все ордена, включительно до Владимира с мечами и бантом; он был тяжело ранен. Оправившись от раны, он на фронт не вернулся. Он был назначен в один из полков петербургского гарнизона. В семнадцатом году он стал командиром полка. После Октября он пошел в Красную Армию. Он был снова ранен, но, вылечившись, на этот раз не остался в тылу, а вернулся на фронт.
Все это Миша сообщил Павлуше без всяких объяснений, ставя один факт после другого, как в рапорте. Объяснения можно было найти только в голосе его, в иронических интонациях, в усмешке, в полном отсутствии жестикуляции. Но он изменился, и в голосе его зазвучали такие интонации, каких не было до сих пор, когда перешел к рассказу о работе своей по окончании войны в одном из петербургских учреждений. Он даже встал и зашагал по комнате. Потом остановился перед Павлушей и, глядя не на него, а поверх его головы, продолжал:
– Я вам скажу (и, взглянув на Павлушу, он подумал, что этот мальчишка – дурак, мразь, грязное животное и не стоит вообще с ним разговаривать)… я вам скажу, – повторил он (и тут с ясностью понял, что мог со спокойной иронией говорить о той части своей жизни, в которой он был несомненным героем, – он был достаточно умен для того, чтобы о собственном героизме рассказывать насмешливо: все равно факты оставались неизменными; но о последних, сомнительных годах своей жизни он не мог говорить легко, передавая одни только факты, – тут требовались подробнейшие разъяснения, чтобы не показалось собеседнику, что Михаил Щеголев стал самым обыкновенным неудачником, сбившимся с верного пути по слабости воли и ума). – Я вам скажу! – произнес Миша, вместо запятой ставя на этот раз восклицательный знак после этих трех слов, и замолк, вновь зашагав по комнате.
Потом, овладев собой и с ненавистью поглядывая на Павлушу, продолжал уже не устную свою речь, а течение своих мыслей:
– Революция загнала всю эту пакость в подполье, теперь они повылазили из своих нор. Если б повторить семнадцатый год! И вот теперь я, член коммунистической партии с восемнадцатого до двадцать второго года, теперь я – контрабандист, – неожиданно закончил Миша и еще неожиданнее добавил: – Спокойной ночи.
Он вышел из комнаты, оставив Павлушу в испуге и растерянности. Павлуша поверил Мишиному рассказу. Но – штабс-капитан, потом коммунист, теперь контрабандист, – чем объяснить такие резкие перемены? Дичь! Совершенная дичь! Но эта дичь убедила Павлушу в одном: в том, что Миша – преступник, и если его обнаружат у Павлуши в комнате, то Павлуше придется плохо. И Павлуша думал уже о том, как бы поскорее выгнать опасного гостя. Но в то же время Мишин рассказ доставил Павлуше большое удовлетворение. Ведь все, что проделал брат Лиды, было именно то, от чего Павлуша до сих пор уклонялся. Ведь это и есть та настоящая жизнь, которую Павлуша упустил, о которой так тосковал в ту ночь, когда нашел Лиду. И вот к чему приводит такая жизнь – к полному разочарованию. Стоило ли биться на фронте, чтобы теперь торговать духами «Коти» и скрываться от милиции? Нет, уж лучше жить тихо и спокойно.
«И, наконец, – с неожиданной ясностью подумал Павлуша, – я не рабочий, а что дед был крестьянин, так это дед, а не я. Какого черта мне заботиться обо всем этом?» Тут же он испугался этой простой и четкой мысли. Это была опасная мысль, и он загнал ее тотчас же на самое дно сознания.
Лида, выпив чрезмерное количество коньяка, легла на кровать и задремала еще в середине Мишиного рассказа. Павлуша доел все, что осталось на столе, и пошел к ней за ширму.
А в соседней комнате на кровати сидел Миша. Наедине с самим собой он не был ни горд, ни самоуверен. Он сидел опустив голову, недвижно глядя себе под ноги, как тяжелобольной. Только чрезвычайная сила воли помогала ему не обнаруживать на людях того, что мучило его, держать себя гордо и независимо. Но и сила воли стала изменять ему в последнее время: сегодняшний вечер лишний раз показал это.
– Ну и пусть, – бормотал он. – К черту! К черту все!
Он был измучен. Он не видел теперь в жизни ничего привлекательного. Только новая война – новое движение, которое окончательно разрушило бы вновь устанавливающийся мирный быт, – могла бы спасти его. Ему отчаянно захотелось бить и швырять все, что попадется под руку. Или, например, стрелять из окна в прохожих. Или еще что-нибудь в этом роде. Но он сдержался. Вынул из кармана брюк револьвер и положил его под подушку. Медленно стал раздеваться. Аккуратно распялил на спинке стула пиджак; на пиджак повесил жилет; сложил ровно, по складке, брюки, концы вложил в зажималку, повесил на гвоздь, развязал галстук, отцепил воротничок, снял сорочку, кальсоны, носки. Голый сидел на кровати, перебирая пальцами черную шерсть на груди. Взглянул на свои мохнатые, по-мужски красивые ноги и вспомнил о женщинах, к которым можно было бы пойти (их было у него несколько в Ленинграде, и все ждали от него заграничных подарков). Брезгливо поморщился. Обтер тело одеколоном, надел светло-коричневую пижаму и забрался под одеяло. Спать не хотелось. Начиналась обычная бессонница. Миша спустил ноги на пол, надел туфли и встал, чтобы взять из чемодана «Джунгли» Киплинга. Но тут же упал обратно на кровать, – круглая земля, вращаясь, со свистом неслась в пространство, и равновесие удержать при такой скорости было трудно. Миша, уронив голову на подушку, закрыл глаза. Головокружение прошло. Миша вынул книгу из чемодана, улегся и при свете шестнадцатисвечовой лампочки стал читать.
IX
Масютин держал постоянную связь со следователем и агентами, но десять дней подряд все усилия его захватить поставщиков-контрабандистов вместе с товаром пропадали зря. Самый процесс купли и продажи был слишком краток: берешь товар – давай деньги и уходи, не берешь – и через минуту нет уже товара в квартире, упрятан так, что и не сыщешь. А если Масютин подошлет агентов в назначенное для сделки время, а сам не придет, то – это Масютин знал – товара в квартире не окажется, товар появится из укромных мест только для Масютина и только на то время, какое пробудет он в квартире, ни минутой больше. Прийти же вместе с агентами – это значит выдать себя. Выдать торговца было и не в интересах следователя: Максим рассчитывал на его помощь и в будущем.
На одиннадцатый день Масютин решил пойти на риск: заплатил за товар и не взял его. Он заплатил из своих денег, получив твердое обещание Максима, что деньги эти будут ему возвращены. Он сам не заметил при этом, до чего сжился с неожиданной ролью ловца контрабандистов; он уже вкладывал в это дело капитал. Но ведь – так полагал он – он спасал этим свой ларек.
За товаром он пошел в сопровождении агентов. Агенты остались ждать у ворот. Условлено было так: Масютин предложит поставщикам спрыснуть сделку и, оставив товар на кухне, отправится якобы за водкой, а сам пошлет агентов арестовывать контрабандистов. Но план этот был сорван: когда Масютин явился к поставщикам, кутеж у них был уже в полном разгаре. Один поставщик – Эдуард Розенберг, лысый, в бархатном жилете, в синих штанах без пиджака, – сидел в стороне от стола на диване с девицей на коленях и блаженствовал. Он закричал Масютину:
– Такой разгул!..
Но тут девица захлопнула ему слюнявый рот ладонью.
Другой поставщик – Гаврила Михайлович Щепетильников, в раскрытой на груди рубахе (грудь была широкая, белая, безволосая), – молча наполнил чайный стакан водкой и поднес Масютину. Потом опустил руку на голову брюнетки, пожиравшей рядом с ним сига, и потянул ее за волосы. Брюнетка непристойно выругалась и звонко хлопнула его по лицу. Щепетильников оттолкнул ее и принялся за соседку слева: взял ее за нос и попытался свернуть этот орган в сторону. Девица притворно запищала.
Масютин опустился на стул рядом с брюнеткой и опорожнил поднесенный ему купцом стакан. А вскоре из соседней комнаты появилась еще одна женщина, скучающей походкой направилась к столу, зевнула и, неожиданным жестом схватив бутылку вина, плеснула из нее на голову Щепетильникова.
– Но! Барыня! – не оборачиваясь, сказал купец. – Иди, откуда вышла.
Это была его жена.
Обратившись к Масютину, он предложил:
– Хочешь? Ляжь с ней. Красивая баба.
Стакан водки уже помутил торговцу мозг. Он боялся, что если еще будет пить, то и совсем опьянеет и забудет о том, что агенты ждут его у ворот. Он видел, что товар сейчас требовать невозможно. Так уж лучше заняться женой Щепетильникова, чем водкой, – безопасней: память по крайней мере не отшибет.
Работа агентов требовала терпения, и поэтому, когда прошел час, а Масютина все еще не было, главный агент не удивился: ведь если водка оказалась на квартире, уловка торговца сорвалась. Снесясь с Максимом по телефону, главный агент решил ждать до утра.
Масютин появился у ворот в шестом часу. Он был не один, а с женой Щепетильникова. Он шатался – не от водки, а от чрезвычайного напряжения. Лицо его было багрово.
– Бери!
И он замахал руками на агентов:
– Хватай их всех! Живо!
И через минуту Розенберг был уже выхвачен из объятий испуганной девицы. Толстое лицо его побелело, как у клубного арапа, пойманного с поличным. Но вдруг он весь оживился и, закрасневшись, затопав ногами, закричал, тряся обращенной к Щепетильникову рукой:
– Это сделала твоя Клава! Я знаю!
Щепетильников, поглядывая на крепко державших его агентов, вдруг ласково улыбнулся:
– А ведь верно – Югава. Ну и черт с ней. Ивана-то увела – понравился, видно.
Он широко вздохнул и вымолвил:
– Ну и пущай их живут, пока не словили.
Товар, найденный Масютиным с помощью Клавы, был сложен в соседней комнате: отвертеться контрабандистам было невозможно. А Масютину эта ночь показала новые возможности в жизни. Клава – это не старая, покорная Вера. Эта женщина помогла бы ему превратить ларек в большой магазин, в целый ряд богатых шикарных магазинов. Но Клава отказалась идти на квартиру к Масютину.
– Сначала жену прогони, – сказала она. – А у меня-то, где ночевать да обедать место, – весь Питер. Своих людей много.
Никогда еще Вера не видела своего мужа таким страшным, каким он вернулся к ней в это утро. Он кинул шапку на стол и сказал:
– Ну, зажилась – пора и со двора вон.
Вера смолчала. Она думала, что муж, как всегда, подравшись немного, успокоится. Но он не начинал драться. Он продолжал убедительно:
– Ты уже старуха. Ты мне и не нужна. Не в твою пользу дело обернулось. Молодая мне интересней будет.
Вера думала о том только, чтоб не заплакать. Если она заплачет – все кончено: Масютин совсем озлится и прогонит немедленно. Она упорно молчала.
Масютин тоже приумолк. Он сообразил, что по новым законам Вера, пожалуй, имеет право на половину его имущества. А надо бы так выгнать Веру, чтобы весь товар и всю обстановку оставить себе. Значит, надо сначала все это перевести на имя Клавы. Ему уже ясно было, что сейчас Веру гнать нельзя, приходится подождать, потерпеть. Это разозлило его. Зачем жена не умерла до сих пор? Зачем живет еще, стоит старуха поперек дороги?
Он медленно приближался к Вере. Глаза его теряли человеческое выражение, становились пустыми и страшными. Вера отскочила за стол. И тогда Масютин ринулся за ней.
Вера бегала от мужа вокруг стола, подкидывая ему под ноги стулья. Она никак не успевала выскочить за дверь в соседнюю комнату, чтобы оттуда через кухню выпрыгнуть на лестницу. И пока бегала, думала с отчаянием, что выходная дверь в квартире закрыта на крюк, на цепочку и еще на ключ. Пока отворишь дверь, Масютин догонит и убьет. Но вот она выскользнула в соседнюю комнату, оставив в пальцах мужа оторванный рукав кофты. Захлопнула дверь, кинулась на кухню и, споткнувшись, упала. Она больно стукнулась головой об пол и, не удерживаясь больше, заплакала: все равно – смерть. Она плакала молча, для себя, для своего горя. И когда муж ногой ударил ее в бок, она только еще больше сжалась, желая одного: чтобы он скорее убил ее, не мучил бы перед последним ударом. Но Масютин не торопился: жена была теперь в его власти, и он обдумывал: опасно ее убить или нет. Если убить – то, пожалуй, следователь не защитит. Убить надо так, чтобы на него подозрений не было. Он, нагнувшись, схватил жену под мышки, с силой поднял ее и поставил на ноги. Вера не понимала, что теперь хочет делать с ней муж. А тому пришла вдруг в голову блестящая мысль.
– Я тебя гнать не стану, – сказал он, – это я пошутил. Ты у нас с Клавой в прислугах будешь жить. Ты – старуха, она – молодая, мне с ней интересней будет. А ты – прислугой.
И Вера, чтобы только уберечься сейчас от побоев и смертного страха, отвечала тихо:
– Хорошо.
Масютин для верности прибавил:
– Ты мои дела теперешние знаешь. В курсе. Так мне это следователь приказал.
Вытащив из кармана своей серой суконной куртки книжечку, он помахал ею для пущей важности:
– Вот тут у меня и адрес следователя, и все. Он приказал.
И, успокоенный, лег спать, решив завтра же к вечеру поселить у себя Клаву и с ней посоветоваться о том, как убрать Веру совсем из квартиры.
Вера собиралась было поставить самовар, чтобы хоть чайку попить, но все валилось у нее из рук. И даже пить расхотелось. Она села в кухне на табурет и, положив руки на колени, задумалась. Потом пошла посмотреть, спит ли муж. Масютин спал крепко, не храпел даже.
«Как мертвый», – подумала Вера, и холод прошел у ней от живота к сердцу. Ведь ничего не стоит взять сейчас с кухни топор и убить мужа. Но Вера неспособна была на это. И мысль эта, возникнув, тотчас же исчезла у нее.
Масютин лежал на кровати в штанах и сапогах, только куртку снял. Вера подошла к стулу, на который повешена была куртка, и, поглядывая на мужа (не проснулся бы!), протянула руку к карману, в котором книжечка с адресом следователя.
Потом решила действовать иначе. Смело взяла куртку и понесла на кухню: ведь она теперь не жена, а прислуга и обязана чистить господское платье.
На кухне она просмотрела всю книжечку. Тут было много разных адресов. Какой из них адрес следователя, Вера не могли разобрать. Она сунула книжечку обратно в карман, почистила куртку и принесла на прежнее место.
Масютин спал, отдыхая после одиннадцати дней непривычной работы.
X
Розенберг очень волновался на допросе:
– Что? Я, может быть, похож на страшного преступника? Нет. Я не похож. Но мне надо кушать. Если у вас, гражданин следователь, есть семья, то вы должны служить и получать жалованье. А если у меня есть семья, то что мне делать? Что? Я торговал. Каждый человек хочет кушать. И не я устроил, что без денег человеку жить нельзя. Без денег я бы умер. Вы получаете деньги за свою службу, я получаю деньги за товар. Я вас не обвиняю, хорошо! Служите! Но и вы мне дайте свободу кушать свой хлеб. Я ведь верно говорю! – воскликнул он радостно, оборачиваясь к помощнику Максима. – Ведь верно же!
Помощник был одет по моде девятнадцатого года: кожаная куртка, синие кавалерийские штаны и высокие сапоги. Он был громадного роста, худощав и задумчив. Он понимал, что Максим не прерывает болтовню Розенберга, надеясь на то, что торговец выболтает что-нибудь существенное. На обращение к нему контрабандиста он только строго кашлянул. Розенберг, пройдясь взглядом по кожанке, испугался, пригнул плечи и переменил тон.
– Я – это так себе. Что? Я – маленький человек. Ну, торговал, ну, контрабанда – хорошо. А кто мне товар давал? Кто границу переходил? Что? Вот кого вам надо, а вы меня обвиняете.
Максиму именно этот вопрос и был важен. Через Масютина добыв Розенберга и Щепетильникова, он чувствовал, что за этими поставщиками стоит главная сила, может быть, центр организации. Мелочь, скупавшая товар, интересовала его меньше, хотя и ее следовало переловить.
Максим кивнул головой:
– Нам все известно. Но мы ждем от вас подтверждения того, что мы знаем.
– Я подтверждаю, – отвечал Розенберг. – Это ваш брат – коммунист. Тот самый.
Он вынул платок и начал отирать лицо. Ему было очень жалко себя, и от жалости этой он готов был заплакать.
Известие о коммунисте было неожиданным для Максима. Он нахмурился, пугая торговца внезапной переменой: только что перед Розенбергом улыбалось милое, славное лицо – и вдруг губы сжались, складка легла меж бровей – лицо стало жестким и непреклонным.
– Кто такой этот коммунист? Фамилия? – отрывисто спросил Максим.
– Не знаю, – сорвавшимся голосом отвечал Розенберг, и руки у него вспотели.
– Где он служит? Где живет?
Розенбергу стало жутко. Он не выносил таких прямых вопросов, от которых никак невозможно было увильнуть. Он проговорился и теперь должен был расплачиваться за это.
«Соврать надо», – подумал он, задрожал мелкой дрожью и стал задыхаться. Сердце у него было здоровое, но его отец на глазах сына умер от разрыва сердца, и с того дня Розенберга преследовала навязчивая идея, что он умрет точно так же. И сейчас он боялся, что случится с ним сердечный припадок. Если же он соврет, то после этого так разволнуется, что разрыва сердца не избежать. И он назвал фамилию правильно.
– Щеголев, – сказал он, и дрожь оставила его. – Михаил Щеголев, – повторил он, отдышался и, держа левую руку на сердце, прибавил жалобно: – Я все скажу, только не сердитесь, гражданин следователь.
Он указал всех, кто доставлял ему от Щеголева товар. Но про Щеголева ничего существенного сообщить не мог. Только два раза за полтора года он и видел Щеголева. Тот всегда почти жил за границей, а когда приезжал сюда, то никому не говорил, где и у кого останавливается.
Щепетильников выдержал допрос совершенно спокойно. Вины своей не отрицал, а на вопрос о сообщниках пожал плечами:
– За себя все отвечу, а за других – не знаю.
Поглядев на Максима, прибавил:
– Русский вы человек, а против своих идете.
И покачал укоризненно головой.
После допроса Максим посовещался со своим помощником. Он поручил ему в самом срочном порядке навести справки о коммунисте или бывшем коммунисте Михаиле Щеголеве.
Помощник любил поговорить. Намолчавшись во время допроса, он сейчас дал волю языку.
– Экономическая контрреволюция, – с удовольствием выговаривая эти слова, заявил он и, тыча указательным пальцем левой руки в стол, продолжал: – Беспартийные все контрабандисты. Только боятся. А дай им волю – весь Париж через границу перетащат. А если наш коммунист сюда ввязался, так его, сукина сына, уничтожить надо. Да.
И он поглядел на Максима так, как будто тот торговал духами «Коти». Максим знал склонность своего помощника к пышной риторике и за краткое время работы в Ленинграде уже привык к его речам, как к его кожанке. Он знал также, что исполнительность и аккуратность этого ритора – необыкновенны. Он уверен был, что не позже завтрашнего утра получит подробнейшую справку о Михаиле Щеголеве.
А помощник ораторствовал, шагая по кабинету:
– Какая разница между нами и этими людьми? Та, что мы сознательно строим счастливое будущее человечества. А для них нет будущего – у них нет веры. Они думают только о себе, они только свое будущее и умеют и хотят строить. Жалкие, тупоголовые мещане!
Бас помощника величественно гремел, руки ходили по воздуху, закрепляя анафему всем неверующим. Максим не выдержал и усмехнулся: сходство помощника с дьяконом поразило его. Но в то же время он подумал, что именно эти мысли, сейчас высказанные помощником, не раз посещали и его. Именно эти мысли промелькнули в его мозгу тогда, например, когда Масютин усомнился в том, что будет «впоследствии».
Помощник обиделся и замолк. Но ненадолго.
– Напрасно ты смеешься, Максим, – продолжал он. – Если я сказал, что все беспартийные – контрабандисты, то, может быть, я и передернул. Я на этом не настаиваю. Но нельзя смеяться над классовой борьбой. Особенно теперь, когда борьба ушла вглубь, в быт, и бурлит там, вихрями вырываясь на поверхность.
Помощник снова увлекся. Он окончательно угомонился только тогда, когда Максим, взяв портфель и шапку, протянул ему руку. Тут деловое настроение вернулось к нему. Он пожал руку Максиму и проговорил:
– Будьте спокойны. Все будет сделано. Я уже знаю, что это за Щеголев. Должно быть, тот и есть. Словим.
Максим пошел домой окольным путем. Свернул влево по Казанской улице; пройдя скверик перед Казанским собором, двинулся вправо по проспекту. Он вел свой велосипед около тротуара, не желая садиться на него: ему хотелось погулять, потолкаться в вечерней толпе. В людской гуще он всегда чувствовал себя прекрасно. Одиночества не любил.








