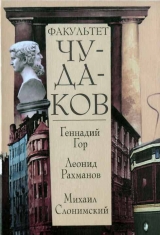
Текст книги "Факультет чудаков"
Автор книги: Геннадий Гор
Соавторы: Леонид Рахманов,Михаил Слонимский
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 30 страниц)
– Итак, товарищ Замирайлов, – спросила Зоя после непродолжительного молчания, – как тебе американские горы?
– Затрудняюсь ответить. – Замирайлов взглянул вверх. Асфальтовые горы чем-то напоминали ему постройки ацтеков, виденные им в какой-то книге. – Я люблю сильные ощущения. (Кто их не любит?). После них приливает энергия, которой у меня, по твоему мнению, так мало, – закончил он с улыбкой.
– А ты не притворяешься? Знаешь, есть люди, которые не любят сильных ощущений, но притворяются, что любят. Они прячут свою трусость. Ты меня извини: мне кажется, что и ты тоже. Я наблюдала за тобой.
– А я – за тобой.
Они шли по центральной аллее. Деревья, лишенные сучьев и листьев, напоминали трамвайные столбы. Стояли киоски с пирожками и бутылками. Нарядно одетые продавщицы, высунувшись, безмолвно заманивали. Пыхтел и свистел игрушечный паровозик. Советские служащие с важными лицами, покачиваясь в вагончиках, совершали путешествие вокруг сада.
– Идиотское занятие, – заметил Замирайлов.
– Зачем, – вступилась Зоя, – так резко!
Подошли к знаменитым зеркалам. Уткин уже был там. Он рассматривал себя в зеркало. Они, взглянув туда же, увидели араба с тульским носом: он забыл снять повязку. Он походил на отражение в самоваре: круглое, как блюдце, лицо, поразительно короткие руки и ноги.
Затем он подошел к другому зеркалу. Они направились за ним и увидели его хилым гигантом: руки вытянулись, сузились ноги, даже пуговицы на пальто изменили форму.
Вдруг Замирайлов вспомнил о себе.
Он изощрялся в ловкости: осторожно заходил сбоку или прятался за спиной Уткина, боясь, чтобы Зоя не увидела его уродливым. Но все его старания быть невидимым оканчивались тем, что Зоя, смеясь, показывала на его лицо: то широкое и плоское, то узкое и длинное, то круглое и выпуклое, как шар. Она отошла к соседнему зеркалу. Замирайлов последовал за ней – посмеяться на ее отражение. В зеркале Зои не оказалось. Там, широко расставив ноги, выпятив груди и отвратительно улыбаясь, в Зоиной одежде стояла – не может быть – Ниночка, торговка яблоками, у которой он снимал комнату в продолжение двух лет, за которой ухаживал в эротические минуты.
Замирайлов с ужасом отпрянул от зеркала.
* * *
Новенький темно-красный трамвай остановился возле университета. Из второго вагона вышел не старый человек с черной бородкой. На нем была красноармейская шинель. В левой руке у него был новый портфель. Солнце играло на носках его новых ботинок. Он щурился. Он улыбался.
Открыв дверь канцелярии по студенческим делам, он весело поздоровался с дежурившим сторожем. Тот лениво кивнул головой. Он открыл старую дверь. Его укусила дверная ручка. Затем он свернул в темный коридорчик и остановился возле кабинета с цифрой «6». Черная дощечка белыми буквами предупреждала неопытных: «Ректор».
Он решительно вошел в кабинет и обратился к сидевшей в первой комнате старушке-секретарше:
– Могу ли я видеть проректора?
Старушка, как ему показалось, подозрительно покосилась на него и пробурчала под нос что-то невнятное.
– Можно ли, – повторил он, – мне видеть проректора? – И отошел от стола.
Старушка взглянула на него с молчаливым презрением. Потом она обидчиво сложила губы (гневные морщины выступили на ее подбородке) и уткнулась в лежавшие на столе бумаги.
– Мне необходимо видеть проректора.
Тогда старушка проворно, как девушка, вскочила с места.
– Сколько раз я вам буду говорить? Проректор принимает с часу до двух. Эти новички не дают мне покоя.
– Вы не волнуйтесь, – сказал он и медленно стал снимать с себя шинель, ища глазами гвоздь, чтобы повесить.
«Он пьяный, – подумала старушка, – он ненормальный». Она застыла. Из ее раскрытого рта удивленно выглядывал одинокий зуб.
– Вы не волнуйтесь. Проректор не принимает, но все равно мне нужно его видеть.
Держа в руке шинель, он подошел к дальней стене – рассмотреть портрет. Затем он снял портрет с гвоздя, а на гвоздь повесил шинель.
«Он пьяный, – еще раз подумала старушка, – он сумасшедший».
– Если не ошибаюсь, это Милюков? – сказал он и повернул портрет лицом к стенке. – Ему здесь не место.
– Какое вы имеете право? Какое вы имеете право? – Хлопнув дверью, старушка выбежала позвать сторожа, но дверь оказалась слишком стремительной: прищемила старушке платье. Он подошел, помог старушке освободиться.
Когда она вернулась (с ней пришли сразу три сторожа), его уже не было. На гвозде висела шинель. Приоткрыв дверь второй комнаты, она увидела его за столом с проректором. Они жали друг другу руки и разговаривали.
Старушка обомлела: «Боже мой». Со старушкой чуть не случился удар. Теперь она поняла, в чем дело. Отослав сторожей, предварительно поправив волосы, она почтительно вошла в кабинет ректора, сделала реверанс.
– Простите, – сказал она. – Простите ради бога. Простите, я вас не узнала. Простите.
– Это ничего. – Он насмешливо посмотрел на старушку. В синем платье она напоминала ему институтку. По всей вероятности она и была когда-то институткой. – Не беспокойтесь. Ошибаются все.
Сделав вторичный реверанс, старушка повернулась и на цыпочках вышла из комнаты. За спиной ее, как у институтки, болтались две косы. Косы были седые.
«Боже мой, – старушка села на прежнее место. – Бог мой. Что я наделала? И кто мог подумать: профессор. Бог мой. Я не узнала нового ректора. Бог мой!»
* * *
Лузин сидел в фундаментальной библиотеке у окна. Внизу двигались, казавшиеся игрушечными, люди. Он отвернулся от окна. Над ним били часы. Перед ним лежала раскрытая книга. Он дошел до Бисмарка, объявившего войну Франции. Интерес его возрастал с каждой прочитанной страницей. Парижская коммуна появлялась перед ним героическая, как Октябрь. Париж представлялся ему Петроградом, войска Тьера – восставшими юнкерами. Он сам когда-то брал Владимирское училище, он сам когда-то…
– Лузин, нам пора, – склонился над ним Кац. – Сегодня разбирается вопрос о ремонте общежития.
– Кац, подожди пять минут.
– Лузин, идем.
– Пять минут. Ты воображаешь, они придут вовремя? По обыкновению опоздают.
«Книги не отпускают меня», – подумал он. Ему, как никогда, не хотелось уходить из библиотеки. Непреодолимое желание учиться, внезапно возникшее в нем, непреодолимое желание напоминало ему утренний сон, когда будят на работу.
– Пять минут, Кац. Еще пять минут. Я дочитаю только до конца главы.
Он замечал: библиотека имеет свой запах. Этот запах был приятен ему. И тишина. Тишина приятна. Били часы. Хрипели. Били. Затем он услышал звон часов из другой комнаты, соседней. Их звон был другой, непохожий. Он видел шкафы. Книги, казалось ему, его дразнили. «Ты читал, – укоряли книги, – слишком мало. Ты почти ничего не читал!» В углу за столиком, склонившись, сидела библиотекарша. Она читала. Рядом с Лузиным, впереди его, позади его сидели студенты. Они читали. Прозрачный полдень трепетал в комнате. Шкафы блестели стеклами. «Читай же, – шептали книги, как дети, – читай нас. Читай нас. Мы интересные».
Лузина тряс кто-то за плечо. То был Кац.
– Ты, – говорил он, отнимая у него книгу, – начал манкировать своими общественными обязанностями. Что с тобой?
Кац смеялся.
Они вышли из библиотеки, спустились в канцелярию по студенческим делам. В небольшой комнате с портретом Ленина на стене, с бюстом Маркса на столике (столик был покрыт красной материей) собрались члены хозяйственной комиссии. Лузин ошибся – они пришли вовремя.
– У нас на повестке, – открыл заседание Кац, – стоит вопрос о ремонте Мытнинского общежития. Разрешите информировать?
Он информировал. Оказывается, в этом учебном году была принята тысяча новых стипендиатов. Они находились в затруднительном положении. В очень затруднительном положении. Не хватало комнат. Негде было расселить и половину желающих. Общежитие требовало срочного ремонта. Коммуна разваливалась. Многие из старых ее членов окончили университет, иные переселились на частные квартиры. Большинство стипендиатов было недовольны постановкой дела. В самом деле: кормили из рук вон плохо. Они – студенты нового приема, в большинстве своем рабфаковцы – ушли с производства на учебу. Они еще не привыкли к студенческой жизни. Кац резюмировал: одно из двух – или они должны были отказаться и распустить коммуну, а все средства бросить на ремонт общежития или же, наоборот, отказаться от ремонта и все средства использовать для реорганизации и улучшения коммуны. Одно из двух! Лично Кац считал, что они должны распустить коммуну, так как реорганизовать ее, по его мнению, они все равно бы не сумели. Они должны были принять какие-то срочные меры.
– Не какие-то, а совершенно определенные меры, – взял слово Лузин. – Считаю мнение Каца – распустить коммуну – ошибочным. Ремонт флигеля, в котором находится коммуна… Поможет ее укреплению, – Лузин вспомнил о Парижской коммуне и сказал с несвойственным ему пафосом: – Мы должны бороться за нашу коммуну!
* * *
Утро дребезжит и рассыпается звонками первых трамваев.
В огромном здании Мытни одно за другим озаряются окна. Мытня плавает в Неве, колышется, отраженные этажи кажутся бесчисленными. В утренних коридорах общежития шатается мрак. Открывается дверь. Показывается студент с полотенцем. Он кричит: «Восемь часов». Выбегают студенты с чайниками. Бегут вниз, в кипятильню. На полу валяется сор. В умывальной выстраивается очередь: студентки, студенты с полотенцами и зубными щетками. Между двух окон, выходящих во двор, качается на веревочке крыса. На груди крысы записка, написанная четким, разборчивым почерком:
«В своей смерти прошу никого не винить. Причина самоубийства: несчастная любовь».
Очередь у кипятильного куба разрастается. Стоящие впереди – жены служащих и рабочих университета – подставляют под кран ведра. Кипяток иссякает. Он течет тоненькой струйкой. И вот его нет совсем. Уборщица подбрасывает дрова. Очередь разрастается. Студенты, студентки с чайниками, кувшинами, кружками, ожидают, пока вскипит вода. Очередь разрастается.
– Значит, нашей коммуне будут ассигнованы специальные средства, – говорит рыжеволосый студент в черных обмотках.
– Думаю, что да, – отвечает его сосед с раздвоенным подбородком на длинной шее, – думаю, что да. На днях хозяйственная комиссия обсуждала это. Решение мне неизвестно.
Уборщица подбрасывает дрова. В грелке шевелится пламя. Оно неправдоподобно. Лицо уборщицы блестит как медь. Пламя гудит.
– У всех такое мнение: ты не пьешь, – говорит студент в синем галифе с гладко зачесанными волосами, обращаясь к своему сутулому соседу. – Вчера я тебя встретил на лестнице пьяным вдрызг. Притворяешься? Для какой же цели?
– Брось-ка ты! Это я не пью? Да пьет ли кто в Мытне больше меня? – отвечает сутулый сосед. – Я пью умело. Так, что меня никто не видит. А вчера – я сам не знаю, как это случилось. Вот вы пьете на грош, а шумите…
– «Шумим, брат, шумим». Без шуму и жить скучно. Это как-то не по-русски. Да, вот коммуна скоро разваливается. Держусь того мнения – туда ей и дорога. Не те времена. Сейчас не военный коммунизм.
– Я знаю. Только я смотрю на это иначе.
– У профессора Фортунова? Ни в коем случае! – Хорошенькая студентка в коротенькой юбке, с белокурыми волосиками, кокетливо выдающимися из-под кепки, смотрится в никелированный чайник. Физиономия отражается сплющенной, с узенькими глазками, с широкими скулами. Студентка делает гримаску и брякает чайником о чайник соседки. – Ты сама не знаешь, что говоришь. Профессор Фортунов? Да он же старик с противными усами. У него усы седые и топорщатся как у кота. К тому же он плохой марксист. Он режет на зачетах. У него? Ни в коем случае! Я посещаю лекции профессора Валерьяна Валерьяновича. Он, кажется, настоящий марксист. Прекрасно декламирует стихи. Пролетарские поэты, утверждает он, во многом не уступают Надсону. Разве не правда? Как он декламирует стихи! Я слышала – расформировывают коммуну.
– Во всяком случае это еще неизвестно. Будет очень жаль. Мы столько положили работы и вдруг…
– Вот тоже нашла удовольствие – жить в коммуне.
Очередь разрастается.
* * *
– Поговорим о политике. Поговорим о философии. Скажите, какого вы мнения о Троцком? Сегодня у нас нет лекции? Прекрасно – поговорим об искусстве. Вы новый человек в нашей комнате. Приятно побеседовать с новым человеком. Мы плохо знаем друг друга. Моя фамилия – Брук. Ваша?
– Великанов.
Великанов – студент среднего роста – лежал, подложив ладони под голову. Его ноги в охотничьих сапогах были закинуты за спинку кровати.
Брук сидел за столом. Перед ним стоял стакан с остывающим чаем.
– Поговорим о философии. Поговорим о литературе. Лев Давыдович, одну минутку. Я о литературе, Лев Давыдович написал прекрасную книгу: «Литература и революция». Вы читали?
– Да, – вяло ответил Великанов, – прекрасная книга. Я ее…
– Ставите в один ряд с Плехановым, – хотите вы сказать, – прервал его Брук, – считаете лучшим вкладом в марксистскую критику.
– Я ее… – продолжал Великанов – видите, в чем дело… По правде говоря, я ее еще не читал. Я многого еще не читал, – добавил он, как бы извиняясь. – Мы, физматовцы, ужасный народ в этом отношении. Вот правовики – те следят за литературой.
– То-то. Значит, вы не знакомы с Львом Давыдовичем критиком? Ай-ай-ай. Нехорошо. Ну, ладно. Поговорим о стратегии. Поговорим о тактике, о Красной армии, о поражениях и победах. Лев Давыдович до революции, как нам с вами известно, не занимался военными науками специально. Вы не удивляетесь, как в такое короткое время он стал знатоком и военным вождем? Даже враги – Врангель, Деникин, Май-Маевский – признавали его гениальность. В короткое время Лев Давыдович…
Великанов протянул руку, чтобы взять книгу. Он начал ее перелистывать.
«Неужели так каждый день, – думал он, – он мне не даст заниматься?»
– Может быть, вас не интересует военное дело? Хорошо. Поговорим об истории. Лев Давыдович и в этой области сделал много. Его теория о происхождении самодержавия, которую так неудачно пытался опровергнуть тов. Покровский… Теория Льва Давыдовича есть самое блестящее, что мы имеем в нашем историеведении. Какого вы мнения о Льве Давыдовиче как об историке?
– Я вам уже говорил – я биолог. Биологи – народ весьма слабо осведомленный в истории. Я хотел вас спросить о другом. Я хотел вас спросить относительно коммуны. Ходят слухи, что она будет реорганизована. С другой стороны, говорят, что ее распустят. Вы не слышали?
– Как же! Слышал. Слышал. О нашей коммуне? Поговорим о нашей коммуне. Поговорим о политике. Я давно чувствовал, что вы хотите поговорить о политике. Лев Давыдович…
Топилась плита. Стоял котел огромный, похожий на те, в каких варят белье. Три медных котла поменьше стояли рядом. В полураскрытые дверцы било желтое пламя. Дневной свет мешал ему стать красным.
Одни из них – их было пятеро – возились около плиты. Другие чистили картошку и разговаривали. Горы картошки валялись на полу.
– По-моему – он прав. Ты вообще против всяких новшеств.
– Ты смеешься? Если он прав, бросим книги. Сожжем книги в плите. Не будем посещать лекций, только семинарии и лаборатории, и из нас непременно выйдут, не правда ли, профессора. Сожжем же книги в плите.
– Ты говоришь про то, чего нет. Ты выдумал себе врага и бьешь. Он вовсе не говорил этого. Он считает книги…
– Про кого вы говорите? – вмешался третий студент. Он чистил рыбу. Липкая чешуя покрывала его руки, передник. Чешуйки были даже на его лице.
– Он совсем не отрицает учебника, – продолжал первый студент. – Он считает лабораторию и семинарий важнее учебника. Его система – практические занятия прежде всего. А книга на втором плане.
– Про кого это вы? – переспросил студент, чистивший рыбу.
– Что ты мне говоришь! Что я не знаю! Он свел на нет лекцию. Его метод приведет к тому, что профессора откажутся читать лекции. Затем, я думаю, ты не будешь отрицать – учебник сокращал время. Теперь же целый год придется не выходить из лаборатории благодаря ему.
– Ну, конечно. Я с тобой согласен. Его система бьет по ленивым студентам. Лень будет невозможна. Учебник располагал к лени. Весь год можно было ничего не делать, посидеть несколько ночей и сдать все зачеты. Не думаю, что ты принадлежишь к породе ленивых.
– При чем тут ленивые. Я просто защищаю учебник, книгу, лекцию.
– Ага, – догадался студент, чистивший рыбу, – вы говорите про Великанова. Так бы и сказали. Действительно, он чудак. Совершенно не читает книг. Не хочет читать. Про него мне передавал Брук. «Поселился, – говорит он, – в нашей комнате студент. Принципиальный противник литературы».
Студенты громко захохотали.
– Нам это нравится.
На котлах, стоявших на плите, заколыхались крышки. Удивительные котлы: они как будто сговорились закипеть трем котлам в одно время. Студент, бросив рыбу, кинулся к плите – снимать крышки. Он попробовал суп. Его лицо стало красным, как у кухарки. В белом переднике, с круглым безбородым лицом, он походил на женщину. Он был важен. Он снял с гвоздя кулек, чтобы насыпать в котлы соли. Он кидал соль пригоршнями, как воду. Постепенно пламя меняло цвет – желтый на красный.
Студенты хохотали.
– Нам это нравится. Великанов! Хо-хо! Великанов. Вот именно – Великанов.
– Великанов – оригинальная фамилия. Тот, про кого мы говорили, тоже Великанов. Кроме того, он ректор. Наш новый ректор.
– Ха-ха! Понимаешь ли ты: «главный повар». Мы говорили про ректора. А ты подсунул нам какого-то Великанова.
«Главный повар» снова чистил рыбу. Чешуйки, как брызги, разметались в разные стороны. «Главный повар» был важен.
– Вы ничего не слышали, – спросил он, – о коммуне? Говорят крышка.
– Ну, не думаю. Не в последний раз варим мы наш коммунальный суп.
– И я того же мнения: не последний. Хотя наше следующее дежурство не раньше чем через три месяца.
* * *
Уткин поставил горшок на стол. Он снял крышку. Пар взметнулся к потолку, заволок его лицо. Он достал с полки тарелку, вытер деревянную ложку тряпкой, налил суп в тарелку, гостеприимным движением подвинул тарелку к Ручейку.
– Да, – сказал Уткин, – была у нас коммуна. Вместе пили, ели. А сейчас – нет. В самом деле, может ли тысяча студентов (нас в Мытне не меньше тысячи), может ли тысяча человек есть за одним столом? В нормальных условиях – да, в ненормальных – нет. Я рассуждаю как профессор. Произошла ошибка. Ошиблись мы. Пока нас было шестьдесят (что же ты не ешь?), все шло хорошо. Когда нас стало больше, коммуна развалилась. Коммуна погибла! Как красиво это сказано. Одни обедают в столовке. Другие – дома. В числе их – я. Я перешел на индивидуальное хозяйство. Я купил примус. Я завел горшок. Приобрел чашки, ложки. Я – частный владелец. Я – индивидуалист. Я смеюсь, конечно! Ешь: остынет суп. Я – кулак. Мне не нравятся обеды в столовке. И тебе, я в этом уверен, они не понравятся. Ты поэт. Тебе надо вкусного. Ты поешь мой суп и скажи, нравится ли. Ешь. Что же ты не ешь? Ешь!
Уткин зажег висевшую над столом лампочку. Он весь был воплощением беспокойства. Он спросил:
– Ну, как тебе мой суп?
– Ты мне напоминаешь автора, – пошутил Ручеек. – Хотя ты и есть автор. Автор супа, я хочу сказать. Отзыв о своем произведении ты получишь немедля.
Затем Уткин вышел. Он не хотел мешать Ручейку есть. Он ожидал в коридорчике: понравится ли?
Ручеек взял деревянную ложку. Он не ел. Когда Уткин вышел из комнаты, Ручеек поспешно вытер ложку носовым платком и взглянул в тарелку. На поверхности супа, освещенного лампочкой, плавали капли жира, крупные и помельче. В каждой капле жира отражалась лампочка. Сотни электрических лампочек плавали в тарелке.
«Мой новый рассказ, – подумал Ручеек, – будет начинаться: В тарелке супа, предложенной ему пролетарским студентом Гусевым, отраженная каждой каплей жира, плавала электрическая лампочка».
Ручеек зачерпнул суп в ложку. Заметив горшок, он брезгливо отодвинул тарелку, выронил ложку. Он рассмотрел: перед ним на освещенном краю стола стоял глиняный – не показалось ли ему – ночной горшок. Перед ним стоял ночной горшок с супом.
Вошел Уткин.
– Нравится ли тебе мой суп?
IV
Главный коридор освещен маленькими лампочками. Они привешаны к потолку. В коридоре полутемно. В окне биологического кабинета стоит скелет. Он растет в окне, как цветок. Тень скелета возникает на полу. Осторожно, стараясь не наступить на скелет, по коридору идет Замирайлов. У открытых дверей девятой аудитории толпятся студенты. Они ждут, когда кончится перерыв.
Замирайлов подходит к витрине общих объявлений. Небрежно написанные буквы разбегаются от него в разные стороны: «Обязательная экскурсия в Зоологический музей». Перерыв кончился. Студенты плетутся в аудиторию. Докуривая папиросу, спешит профессор. Замирайлов заходит. Садится у окна.
Профессор стоит на кафедре. Его тень появляется на стене.
– На предыдущей лекции, – тень заносит гигантскую руку над аудиторией, – мы остановились на рыбах. Ваше знакомство с рыбами в большинстве случаев исчерпывается ухой – когда вы обедаете. Однако рыбы заслуживают большого с нашей стороны к ним внимания.
Аудитория спускается к ногам профессора. Задние ряды под потолком, передние у его ног. Над профессором висит географическая карта.
«Из всех стран, – мечтает Замирайлов, – я люблю Мексику. А почему – не знаю».
– Какими специфическими особенностями, – продолжает профессор, – обладает скелет рыбы…
Студенты записывают.
– Скелет рыбы, – продолжает профессор, – разумеется, не всякой – обладает чрезвычайно длинным позвоночником. В детстве (дети более наблюдательны, чем взрослые) вам, наверное, приходилось играть позвонками съеденной рыбы. Нанизывать их на ниточку, точно бусы, или как-нибудь иначе.
«К черту! К черту! – думает Замирайлов. – А дома у меня лежит такая интересная книга».
– В детстве, – продолжает профессор, – наверное, вам приходилось ловить рыбу удочкой. Приятное время. Сидишь где-нибудь над рекой, спустив ноги. В руках удочка. Поплавок чуть колышется. Вокруг – стрекозы. Кстати, что вы помните о стрекозах?
Студенты оживляются. Им вспоминается детство, они сидят на траве, над ними светит солнце.
«К черту! К черту, – думает Замирайлов. – Я не люблю деревню. И рыбную ловлю также. К черту!»
На него падает тень. Он оглядывается. По коридору идет она.
– Стрекозы, как вам известно…
Замирайлов выбегает из аудитории, не закрыв за собой двери. «Догнать! Догнать!» – он вылетел из аудитории, как стрекоза.
– Зоя!
Она – какое счастье – остановилась.
– Зоя!
– В чем дело? – Она оборачивается к нему. На минуту перед ним возникает ее лицо, большие глаза, коротко остриженные волосы.
– В чем дело?
«Ты покинула меня, – придумывает он, что сказать, – как Беатриче – Данте. Не то! Не то!»
Он хочет сказать ей. Он чувствует, что потерял голос. Робость и нерешительность, страх становятся вдруг доминирующими его чувствами. Некоторое время они стоят молча. Затем она медленно повертывается, идет прочь. Он делает шаг – догонять. Раздумывает и возвращается обратно. Возле объявления «Завтра обязательная экскурсия в Зоологический музей» стоит Уткин. Он, чудится Замирайлову, насмешливо улыбается. Дверь аудитории полуоткрыта. Виднеется спина профессора. Спина продолжает читать лекцию.
* * *
Крапивин поднялся по просторной лестнице библиотеки Академии наук. В его дырявых галошах хлопала вода. В дверях журнального отдела Крапивина остановила женщина.
– Мне на одну минутку. Я – не читать. Мне просто нужно вызвать приятеля. Возможно, он даже не в этом отделе.
– Снимите галоши, – сказала женщина. – Снимите пальто. Снимите ваш головной убор.
Крапивин, озлобленный, спустился в раздевальню. Он стеснялся снять пальто. Он считал себя не одетым – на нем не было обычной студенческой куртки. Просто косоворотка. Он стеснялся косоворотки: в библиотеке могли быть профессора. Неохотно сдав пальто – ему показалось, что швейцар с презрением покосился на его галоши – получив взамен картонный номер, он снова поднялся в журнальный отдел.
Там почти никого не было. Посередине зала стоял одинокий, как кафедра, библиотекарь.
«Не меньше, – подумал Крапивин, – как научный сотрудник. С меньшим сюда не поставят».
Он увидел: склонившись над грудой желтых газет, сидел его приятель. Крапивин тихо подошел, почти подкрался к нему.
– Как у вас, – спугнул он его, – в ваших Западных Европах?
Тот вздрогнул. Они пожали друг другу руки. Приятель с улыбочкой показал на раскрытый номер газеты.
– Совершенно исключительный экземпляр. Орган партии социалистов-революционеров.
– Значит сокращенно: эсэров, – сказал Крапивин, для того чтобы что-нибудь сказать, и без интереса наклонился над газетой. На него глянули:
«Большевики враги свободы и русского народа».
«Ленин – родственник генерала Людендорфа по женской линии…»
«Коммунисты, которые заодно с помещиками».
Крапивин выпрямился. Он зевнул, стараясь скрыть от приятеля зевок ладонью.
– С каких пор вы ударились в политику. С тех пор, как я вас помню, вы были аполитичны.
– Кто вам сказал, что я ударился в политику. Просто я интересуюсь некоторыми вещами. Совершенно исключительный материал. Не правда ли? Статьи, разоблачающие рабоче-крестьянский режим.
– И ничего они не разоблачают, ваши статьи. – Крапивин зевнул вторично, на этот раз явно. – И никого и ничего. Это «арабские сказки». И, как всякие сказки, их забавно читать.
– Я ничего не могу понять, – удивился приятель. – Как же так? Выходит – мы поменялись местами. Вы – за. Я против.
– Ха-ха! – Крапивин громко захохотал бутафорским смехом. – Хо-хо! Я – за них. Я – за большевиков. Я – комсомолец. Крапивин, видите ли, член комсомола с 1915 года. Хо-хо-хо! Вы, коллега, высказываете иногда остроумные вещи. Хо! Однако хватит. Я пришел к вам сообщить одну интересную… Хо-хо! Нет, скажите правду – вы серьезно меня приняли за этого, как их, за сменившего вехи. Хо! Хо! Я вам расскажу одну историю.
Внезапно над ними нависли рыжие усы длинного библиотекаря. Раздался каркающий голос.
– Гражданин, здесь нельзя ни шуметь, ни разговаривать.
– В читальне никого, кроме нас и вас, нет. Кому мы мешаем?
– Гражданин, здесь нельзя разговаривать и шуметь.
– Я охотно вам верю, – сказал Крапивин и нахально прищурился. – Но я одного не могу понять. Будьте любезны объяснить.
– Что?
– Кто вас сделал?
– Как так? – удивился библиотекарь.
– Для чего, – повторил Крапивин, – и зачем?
– Знаете, гражданин, – наконец понял тот, – вы нахал.
– Здесь нельзя ни шуметь, ни разговаривать – передразнили они его и вышли из читальни.
– Я хочу вам сообщить, – начал Крапивин, – нечто такое, что повернет нашу жизнь. Мы снова будем подниматься (до сих пор мы спускались) по лестнице. По лестнице судьбы. Я сообщил, и раскаиваюсь, свою мысль Замирайлову. Он отказался. Разумеется, он поступил как трус и семит. Я не сомневаюсь, что он еврей, этот Замирайлов. Видите ли, его восстановили в правах студента. Он учится. Мне рассказывали – ему помогла… эта, с которой он одно время крутил… Ну знаете, этакая стриженая комсомолочка.
– Да, ведь они же все стриженые, как овцы.
– Хвалю за сравнение. Я хочу вам сказать… Впрочем, ответьте вперед – как вы относитесь к физической работе.
– С детства, – ответил «приятель», надевая пальто, – с детства я занимаюсь по утрам гимнастикой.
– Оставьте вы себе свою гимнастику. Я вас спрашиваю о настоящей физической работе. Дрова рубить, например.
– Короче – я отношусь к физической работе, – сказал «приятель», – как всякий интеллигент. Уверен, также относитесь к ней и вы. Замирайлов, другой, третий. Я только не понимаю, зачем это вам? Вы хотели что-то мне рассказать относительно лестницы, кажется.
– Лестницы судьбы. Нет, сначала вы ответьте, – настаивал Крапивин с непонятным упрямством, – как вы относитесь к физической работе?
– Я уже вам ответил: никак.
Они дошли до ворот университета. Висели объявления: «Все в смычку». «Все в Мопр». «Студентам Арапову и Никитину предлагается получить ордера на кожаные подошвы». «Студентам Великанову и Незабудкину – заплатить членский взнос в кассу взаимопомощи». Студенты Кисель и Киссельман уведомлялись, что они исключены из университета.
– Итак, вы не желаете отвечать на мой вопрос. В таком случае мне нечего вам сообщить.
– Нет, почему же. Я отвечу, если вы так настаиваете. Я отношусь к физической работе двояко: с одной стороны, положительно. С другой – отрицательно. Скорее положительно. Без физической работы немыслимо существование человеческого общества. Не так ли?
Он не знал, какой из двух ответов требовался Крапивину. Он ждал. Он читал объявления.
Студент Пахомов искал себе компаньона по комнате. Студентка Задова искала себе компаньонку по комнате. Студент Пашковский находился в затруднительном положении: нашедших просил возвратить свой портфель. Студент Петров посылался на курорт. Студент Левоневский приглашался на бюро ячейки – получить выговор за непосещение собраний. Студент Геннадий Гор…
– Вы мне ответьте, – сердито прохрипел Крапивин, – как вы относитесь: отрицательно или положительно. Ответьте, не виляя.
Студент Останин получал ссуду – три рубля. Студент Теплов – ссуду в два рубля.
Приятель рискнул. Положительно, он попал в точку.
– Хорошо, – произнес Крапивин. – Очень хорошо.
Студентке Рыковой предлагалось в трехдневный срок возвратить книги в библиотеку. Студенту…
– Я готов слушать.
…Студенту Геннадию Гор предлагалось зайти к доктору – за очками.
– Вы помните, – начал Крапивин, – совет, который дал мне Лузин: «рубить дрова». Это в качестве эпиграфа к тому, что я скажу. Не пугайтесь. Я нашел средство к восстановлению нас в правах студента. Для этого необходимо поступить на работу. Получить рабочий стаж. И перед нами открыта дорога в вуз. Вы слушаете? Я нашел два места: для себя и для вас. Выбирайте: трамвайный парк или металлическая фабрика?
– Только? – ответил приятель. – И всего? В таком случае вы напрасно отвлекли меня от ежедневных моих занятий в библиотеке. Ваш путь в вуз слишком изъезжен. Меня ждут газеты. До свиданья.
* * *
Коля Незабудкин стоял под часами. Он рассматривал какую-то книжку. К нему подошел Ручеек.
– Гуд-бай – поздоровался он. – Я только что начал изучать английский язык.
– А, Ручеек? Давно не видел. Ну как, Ручеек, все течешь, истекаешь рифмами, ямбами?
– Откуда такое? Я же не поэт. Стихов не пишу.
– Разве не пишешь?
– Пишу только прозу. В настоящее время изучаю любопытный материал. Имею доступ в подвалы нашей фундаментальной библиотеки. В недалеком будущем закончу исторический роман из быта студентов восьмидесятых годов.
– Вот как? – сказал Незабудкин. – Интересно. Давай-ка лучше сдавать зачет. Сегодня исключительный день – принимают сразу два профессора.
– Я не готов.
– Не важно. Я тоже еще не занимался. В нашем распоряжении целый час. У меня с собой энциклопедический словарь. Всего не успеем, но кое-что… Оба они экзаменуют очень легко.








