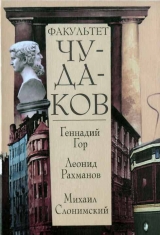
Текст книги "Факультет чудаков"
Автор книги: Геннадий Гор
Соавторы: Леонид Рахманов,Михаил Слонимский
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 30 страниц)
– Вот спасибо-то! Это вы на полу нашли? Я, товарищ, литературку везу…
– Другой раз не теряйте билета, – резко оборвал его человек в кепи и пошел к своему месту в соседнем купе.
– Верно, – обрадовался избач, идя вслед за ним. – Растяпа я и есть. Я свои ошибки всегда признаю. Я, например, как в село ехал, со станции лошадь взял, барином заявился. И сразу признал: ошибка. Какое у крестьян доверие будет, если я зря полтину истратил? У меня ошибок в моей жизни очень много. А за билет и правильно, если арестуют. Потерял или не потерял – это контролера не касается. Скажите, пожалуйста, – этак всякий безбилетный заяц скажет, что потерял! Нет, надо под штраф таких, под арест!
– И очень жалко, что не арестовали, – согласился человек в кепи.
– Верно, – подтвердил избач теперь, когда билет уже был у него в кармане, – очень жалко. А, товарищ, скажите, как фамилия вам? Ведь без вас упекли бы меня. Как будто я нарочно. Ведь тут разбирать надо, кто нарочно, а кто просто так потерял. А они всех в одну кучу. Я литературку везу, портреты вождей, а они вот хватают ни за что, – говорил избач, не замечая, что он говорит совершенно противоположное тому, что говорил минуту тому назад. – Вы, товарищ, обязательно назовитесь.
– Максим Широков, – отвечал человек в кепи, чтобы отделаться от болтливого собеседника.
– А живете где?
Максим сказал и адрес.
Избач, вынув записную книжку и огрызок карандаша, тут же, в полной темноте, записал все.
– Так вы из Ленинграда! – радовался он, готовый болтать хоть до утра. – У меня там отец в Ленинграде, только я не помню его, какой он из себя. Он мать мою давно бросил, я тогда еще совсем малый был. Не встречали его? Масютин Иван! Такой смелый человек, гордый, – наверно, знаете? Он там с новой женой живет. Вы ему передайте…
– Я вашего отца не знаю, – перебил Максим, – и…
Избач не дал ему договорить:
– А к вам я, как буду в Ленинграде – а я очень скоро буду, отец меня вызывает, и уж я так устрою, что обязательно в Ленинград попаду, я в Ленинград всю жизнь мечтаю, – так вот, как буду в Ленинграде, уж обязательно к вам зайду, еще раз спасибо скажу. Вы уж будьте уверены, что зайду.
Максим отнюдь не был обрадован этим обещанием.
– Ночь уже, – сказал он. – Спать надо.
– Да, конечно, – огорчился избач, – спать надо. Ужасно я люблю поговорить с пользой. Да все кругом заняты. А у нас на селе так и говорить-то не с кем. Со мной говорить приходят. Авторитетишко у нас, у комсомольцев, хоть и небольшой…
– Спокойной ночи, – прервал его Максим, растянулся на скамье, положив под голову чемоданчик, и надвинул кепку на нос.
Избач, отойдя к окну, вынул из кармана билет, чтобы еще раз удостовериться, поднес к глазам, разглядывал долго. Потом порылся в штанах, нашел спички, зажег одну и посмотрел при ее свете билет. Прочел название станции назначения и удивился. Зажег вторую спичку, прочел второй раз: то же самое.
Он повернулся к Максиму.
– Товарищ, – сказал он, – да это не мой билет. Этот билет – до Архангельска. Да и не из Ленинграда-то я еду, а из Вологды.
Максим отвечал медленно и раздельно:
– С этим билетом вы не обязательно должны ехать до Архангельска. Вы можете сойти и раньше.
– Но это, значит, не мой билет! – удивлялся избач.
– Спокойной ночи, – отвечал Максим и повернулся к нему спиной.
Избач постоял над ним в недоумении, потом испугался: если приставать с расспросами, то и этого билета лишишься. Через пять минут он уже сладко спал у себя на верхней полке, положив голову на пакет с литературой. Портреты вождей лежали рядом.
Максим покачивался в такт ходу вагона, и в мозгу его стучало, как пишущая машина: «Так тебе, так тебе, так тебе…» Когда он проснулся, северное утро плыло за окном и пассажир, сидевший против него, уже пил чай, закусывая белой булкой. Избач давно уже сошел на своей станции. Максим, вынув из портфеля полотенце и мыло, пошел в уборную. Тонкие сосенки дрожали за окнами: так зыбка тут почва, что достаточно обыкновенного поезда для землетрясения.
К двенадцати часам поезд был в Архангельске. Вокзал маленький, захудалый. Большой вокзал сгорел в гражданскую войну и не отстроен до сих пор. Моста в городе нет, надо торопиться к пристани. Пароход «Москва» перевез Максима через Северную Двину.
Максим направился по знакомым улицам к домику, где жил его отец, где сам он жил два года подряд.
IV
У входа в помещение Интернационального клуба моряков и речников однорукий сторож проверял членские билеты. На него наскакивал маленький человечишка, у которого вся правая сторона – от виска до щиколотки – была как у людей, а левая – черна от грязи. Человечек доказывал убедительно:
– Да я ж с «Гудка»! С «Гудка» я, товарищ, – рази можно? Кочегар я! Меня нельзя не пущать.
Высокий человек в драповом пальто, проходя, оттеснил сторожа плечом и, взглянув на кочегара, заявил категорически:
– Это заведующий морским домом.
Сторож обалдел на миг, вполне достаточный для того, чтобы кочегар проскочил в клуб. Высокий человек пошатнулся только тогда, когда сторож уже не видел его. Он был совершенно пьян и зашел в клуб водников неожиданно для самого себя: никогда в жизни не был он ни матросом, ни кочегаром, ни тем более штурманом.
На некоторое время сторож забыл о проверке: он увидел давнего приятеля.
– Владимир Георгиевич! – воскликнул сторож. – Да откуда же ты? А куда в командировку ездил? А суточные получил? Ишь ты! А радио слушал? Нет? Вот и услышишь сегодня! У нас сегодня механик на радио играет. Из центра музыка будет. Верно, верно, Владимир Георгиевич! Вот только заседание кончится.
Максим пришел в клуб, когда заседание конференции водников уже кончилось. Живя в Архангельске, он часто бывал тут. Вошел в залу. Над эстрадой, в конце залы, – «Привет культработникам северных рек и морей».
Распорядители зорко оглядывали зал, заставляя снимать пальто и шляпы. Пьяных, схватив сзади за локти, выводили. Маленький кочегар еле успел притвориться трезвым. Прямо на него шла девица с распорядительской красной повязкой на рукаве. Поглядела на него и пошла дальше. А высокий человек попался. Его выбросили, хотя он очень убедительно говорил неумолимому распорядителю в серой тройке и с пенсне на носу:
– Не будьте такая идиотка!.. Не будьте такая идиотка!..
И, стоя внизу, на скользком дощатом тротуаре, у освещенной двери клуба, он долго и длинно ругался, не представляя, куда бы ему теперь повернуть? И пропал в архангельской мокрой тьме.
На эстраде уже установлен был радиоприемник, и вокруг него ходил механик. Русая бородка и вздернутый нос выдавали в нем архангельца, но механик считал, что лицо у него самое что ни на есть английское. И поэтому в ответ на нетерпеливые возгласы водников он даже не хмурился; лицо со вздернутым носом оставалось холодным и неподвижным. Представитель клуба стоял тут же, на эстраде, и задумчиво жевал французскую булку. Но вот стихло в зале. Механик, сделав все, что нужно, отошел. И все услышали явственный писк, который шел из рупора.
– Здорово! – сказал маленький кочегар соседу.
Но тот презрительно отвернулся и обратился к девице, руку которой он держал так крепко, словно это была не рука, а полугодовое жалованье:
– Как вы думаете, что это играют?
Девица растерянно молчала.
Механик слушал писк с хладнокровием истинного англичанина. Представитель клуба дожевал булку и, безнадежно махнув рукой, сошел с эстрады.
Первым фыркнул штурман норвежского судна. Он всячески старался сдержаться. Он и сам себе зажимал рот и соседей просил, но смех прорвался, и толстое красное лицо норвежца заходило ходуном.
Механик подошел к радиоприемнику, исправил что-то в проводах, и писк заменился басовым гудением. Водники стойко выдерживали испытание: они в своей жизни видели и не такое. Этот концерт был уже тем хорош, что не угрожал непосредственной смертельной опасностью. А маленький кочегар находил музыку замечательной.
– Это гудок! – восклицал он. – То раньше свисток был: пищало-то. А теперь гудок. Это, значит, из Лондона гудит-то! Аж и выдумают люди!
Приятель сторожа встал и заявил громким голосом:
– Это, товарищи, зачем же издеваются? В клуб приходют люди очень переутомленные. Зачем же гудеть-то зря?
По этому «приходют» Максиму ясно стало, что это тот самый пассажир, который просил избача не трепать зря языком. Владимир Георгиевич пошел прочь из залы – в буфет. Он был искренно возмущен.
– Чего это он? – забеспокоился кочегар. – Это чем же он недоволен?
Но уже двинулись из залы водники. Поднялся шум. Концерт был сорван.
Механик, выключая ток, бормотал презрительно:
– Дикари. Это не Азия – это Африка. Некультурная публика.
И отправился пить пиво в буфет.
В фойе была выставка пароходных стенных газет. Но мало кто осматривал выставку. Большинство, взявшись за руки, парами и тройками ходили вокруг витрин.
Рядом с Максимом стоял и любовался немецкий моряк. Мимо шли три девицы, и одна из них поглядела на немца. Немец повернулся к ней всем своим коротким, плотным телом, улыбка заполонила все его лицо; глаза сузились, он прищелкнул большим и указательным пальцами левой руки, проговорил:
– Кар-тын-ка!
И тут лицо его стало серьезным, даже слегка удивленным, только глаза продолжали сладко улыбаться. И через минуту он уже вел девицу в буфет.
Звонок призвал водников в театральную залу. Драмкружок разыгрывал сегодня пьесу. То есть не пьесу, а феерию. В этой феерии участвовали не только рабочий, крестьянин, красноармеец, но и старец с длинной седой бородой и в черном балахоне, и даже феи, одна из которых топила английскую подводную лодку, а другая спешила на помощь Красной Армии. Старец произносил слова как истый архангелец, но в программе был помечен именем Хроноса. Феи в перерыве между военными подвигами танцевали под звуки самых популярных мелодий.
Когда наконец Советская власть победила и Хронос отворил для нее двери в будущее, водники с грохотом очистили залу и началось такое веселье, что распорядители несколько даже растерялись. Особенно бушевали моряки, речники были скромнее. Куда скромному речному пароходику до морского судна?
К двум часам ночи Максим очутился на улице под руку с какой-то девицей, которая казалась ему необыкновенно красивой. Он ей уже час тому назад объяснился в любви. Девица обдумывала: стоит ли возиться с таким восторженным мужчиной, не слишком ли он пьян? Но он нравился ей, и в том, чего он добивался от нее, она не видела решительно ничего плохого. Напротив: ей было даже лестно. Она служила в портовой конторе, много раз получала замечания за легкомысленное поведение, а сейчас, кроме того, была еще и сильно навеселе.
Широкая, как река, улица уходила в мрак и, казалось, втекала в пустынный океан.
Когда Максим, даже не спросив разрешения, вошел за девицей во двор деревянного двухэтажного дома и дальше – на крыльцо и в квартиру, где она жила, – девица и не подумала протестовать.
Под утро, возвращаясь по улице Павлина Виноградова к себе домой, Максим спокойно и грустно думал о причинах своего безалаберного поведения.
V
Только на пятый день пребывания своего в Архангельске Максим отправился на лесопильный завод, туда, где работала его бывшая жена.
Трамвай в сорок минут доставил его, мимо пустырей и болот, к штабелям готового к отправке леса. Тут, у конечной остановки трамвая, на ограде – дощечка: «Сосновый товар на бирже заложен в Эквитэбль-банке в Лондоне». На арке, кинутой через дорогу, название завода.
Максим вынул из кармана пальто коробку папирос, но, вспомнив, что в районе завода курить нельзя, сунул папиросы обратно. Он, не торопясь, прошел под аркой. Бормотал:
– Эквитэбль-банк в Лондоне.
Ему нравились такие города, в которых торговля мешала в одно все нации. Но в кооперативе, у которого он остановился, иностранцев не было. Приоткрыв дверь, Максим сразу же увидел Таню. Она отпускала толпящимся у прилавка мужчинам и женщинам продукты. Улыбнулась, кивнула Максиму головой и крикнула:
– Погоди! Десять минут еще!
Через десять минут появилась Таня: кооператив закрылся на обеденное время.
Таня крепко жала Максиму руку. Эту женщину Максим знал так же хорошо, как себя; целых три года они жили вместе – и ему странно было, что теперь он не может даже поцеловать ее. Ему на миг жалко стало, что они разошлись.
– Пойдем к мужу, – сказала Таня и, ведя Максима под руку, рассказывала оживленно: – Ужасные очереди! И нисколько мы в этом не виноваты. Все из-за кредитования. От первого до четвертого каждый месяц выдают купоны, и нет того, чтобы подождать. Каждый сразу норовит…
Максим слушал, усмехаясь. Он думал о том, что только женщина способна так волноваться всяким пустяковым делом, которое ей поручено, словно от этого дела зависят судьбы мировой революции. Он вспомнил, что это сначала нравилось, а потом наскучило ему в Тане. Он уже не жалел, что разошелся с этой женщиной. И доволен был за нее, что она успокоилась и встречается с ним теперь просто, по-дружески.
Муж Тани был секретарем ячейки. Это широкий и медлительный малый, который даже улыбается не сразу, а понемногу: медленно расклеиваются губы, обнаруживая два ряда крепких зубов, обозначаются складки на щеках, и наконец улыбка полностью определяется на лице. Максим – живее и торопливее.
Максим хорошо знал таких людей, как муж Тани. Такой человек, поверив во что-нибудь, не отступится уже и, решившись на какой-нибудь поступок, обязательно уж совершит его.
Мужу Тани, в сущности, не улыбаться хотелось, а хмуриться. Но он пересилил себя и пожал протянутую Максимом руку.
Максим говорил:
– Последний раз я в Архангельске. Окончательно назначен в Ленинград. Может быть, больше не увидимся. В общем, плохо я живу.
Последнюю фразу он прибавил из ему самому неясного побуждения задобрить мужа Тани. Но секретарь отнесся к его словам серьезно.
– А чем плохо? Болеете?
Максим уже негодовал на себя за никчемную жалобу. Он отвечал угрюмо:
– Да нет, так.
Таня напрасно звала мужа на обед: тот отговорился работой и остался в конторе. Таня увела Максима.
Они молча шли по двору. В воротах остановились, взглянули друг на друга, и вдруг губы Тани дрогнули.
– Не я виновата, что мы разошлись, – сказала она тихо.
Максим ничего не ответил. Потом протянул ей руку.
– Вот и увидались еще раз. Больше, может быть, не увидимся. На обед не удерживай – я уж поеду. – И, не выпуская ее руки, проговорил: – Не поминай лихом.
У Тани снова дрогнули губы, но она ничего не сказала.
Максим крепко пожал Тане руку и пошел к трамваю. Таня глядела ему вслед, и всякий, кто взглянул бы ей сейчас в лицо, понял бы, что она влюблена в этого человека в клетчатом кепи и демисезонном пальто. Это смутно понимал и сам Максим, который, обернувшись, помахал ей рукой;
Когда трамвай доставил Максима в город, он смог наконец закурить. Он курил с наслаждением, медленно затягиваясь и выпуская дым.
Максим неторопливо шел по набережной.
У «Северолеса» чуть не столкнулся с человеком, который выскочил из ворот. Максим ухватил человека за плечо.
– Врешь – стой! Куда бежишь?
Человек стремительно обернулся и уже вдохнул воздух, чтобы как следует выругаться, но, увидев Максима, только махнул рукой:
– А, это ты! Совсем зарезали меня, замотали! С ума сойдешь! И в стенной еще опять продернули!
Это был управляющий сплавом.
Не так давно и Максим бегал и суетился по Архангельску. Теперь он был тут всего лишь гость. Архангельская жизнь отходила от него навсегда.
Управляющий, крикнув: «Увидимся еще!», уже пустился прочь.
Максим двинулся дальше.
Архангельск – длинный и узкий город. Он жмется к Северной Двине, он живет Северной Двиной, дышит близким Белым морем и насылающим морозы и иностранные суда Ледовитым океаном. И хотя Максим жил почти в самом конце улицы, пересекающей улицу Павлина Виноградова, все же от его дома до набережной было не больше десяти минут ходу.
Дома – отец. Он очень стар. Лицо у него ссохлось, и кожа – это даже не на ощупь ясно – тверда и жестка, как голенище. Пиджак и штаны широкими складками висели на его одряхлевшем теле. Тонкие и длинные седые волосы, как дым, колыхнулись на легком ветру, когда Максим отворил дверь.
Отец не желал ехать в Ленинград. Он считал, что гораздо экономнее ему умереть в Архангельске. И когда Максим начинал убеждать его, он брал карандашик и выводил на клочке бумаги цифры, которые доказывали с ясностью, что оставаться в Архангельске ему выгоднее, чем переезжать в Ленинград. Расчет он вел на год вперед – больше года он не предполагал дышать земным воздухом. Никаких других доводов, кроме цифр, он не признавал.
На следующий день Максим уехал в Ленинград, на новую службу.
VI
Каждое воскресенье Павлуша обедал у няни. Он приходил как бы невзначай в обеденный час, и Масютин обычно приглашал его к столу. В одно из воскресений Павлуша, твердо рассчитывая на вкусную и обильную пищу, явился к няне в пятом часу вечера и хотел уже позвонить, когда увидел, что на двери висит большой зеленого цвета замок.
По воскресеньям няня с мужем не торговали, еще ни разу не случалось, чтобы хоть кого-нибудь из них не было дома в воскресенье, и Павлуша решительно не мог понять, куда они оба могли уйти. Неужели просто в гости? Павлуша решил погулять с полчасика, а потом вернуться – может быть, Вера окажется уже дома. Но и через полчаса замок висел на двери.
Павлуша присел на подоконник и стал ждать. Он мог уйти, отказаться от няниного обеда: он привык по воскресеньям быть вполне сытым. Он прислушивался ко всякому шороху на лестнице, каждый стук и скрип принимая за звук шагов. А когда слышались шаги, он подскакивал к перилам и перегибался, высматривая утоляющую голод няню или ее мужа. Но они не шли. Шаги либо утихали внизу, либо перед Павлушей появлялись и проходили наверх незнакомые люди, уверенные в том, что дома их ждет семья и обед. А Павлушу ничего, кроме рваного пружинного матраца, не ждало дома.
Павлуша решил обмануть судьбу, показать ей, что не слишком ему уж и нужна няня. Он не вставал на звук шагов, нарочно занимал себя посторонними мыслями, но судьба упорствовала. Павлуша глядел во двор. Темнело уже. И когда стало совсем темно и совсем голодно, Павлуша поднялся и двинулся вниз по лестнице. Он шел медленно. Он читал в разных книжках о том, как герой, отчаявшись в чем-нибудь, вдруг получал то, чего добивался. И Павлуша ждал этого «вдруг»; ведь он совсем отчаялся, и должна же судьба наконец сжалиться над ним. Но это «вдруг» так и не случилось. Он вышел за ворота на улицу, а няни не было ни видно, ни слышно. Павлуша дошел до угла и остановился.
Улица, на которой жил Масютин, упиралась в главный проспект города. Если взять пять-шесть домов из тех, что высились перед Павлушей на той стороне проспекта, и прочесть вывески, то окажется, что уместились тут и отделение Госбанка, и отделение банка коммунального, и общество взаимного кредита, и две парикмахерские, и высшие торгово-промышленные курсы, лечебница с постоянными кроватями, три кинематографа, кафе, две пивных, кооперативы, частные магазины, да и мало ли еще что! И все это на таком небольшом пространстве земли, что если бы эта земля была не в городе, а в деревне, то владелец ее, несомненно, получил бы как бедняк прибавочную долю. Но в городе делят не землю, а деньги и труд.
Днем деловой шум заглушает тут шум скандалов. А к вечеру желто-зеленый цвет пивных господствует над всем. Если деловой шум не достиг еще довоенного уровня, то шум скандалов уже давно превысил его. И когда гаснут белые огни кино и все цвета заменяются одним – черным, тогда начинаются самые беспокойные часы для дежурного милиционера и самые прибыльные для ресторана «Яр», открытого до трех часов ночи.
К этому ресторану и свернул Павлуша. Заказал порцию сосисок и бутылку пива. Съел, выпил и, неудовлетворенный, отправился домой. Трамвай довез его до угла Зелениной улицы и Геслеровского проспекта. Тут, на Зелениной улице, жил Павлуша. Вошел во двор. Взглянул наверх, на окно своей комнаты. Окно было, как всегда, темное – никто не ждал Павлушу дома. Павлуша был совершенно одинок. Такая тоска схватила его, какая бывает только перед смертью. Эту тоску знал Павлуша и раньше, но никогда еще не достигала она той силы, как сейчас. Может быть, это просто оттого, что не пришлось ему пообедать сегодня у няни?
Павлуша поднялся по лестнице в третий этаж, толкнул дверь никогда не запиравшейся квартиры и направился по коридору к себе в комнату. Вынул из кармана пальто (пальто год назад подарила ему няня) ключ, сунул в замочную скважину. В это время из соседней комнаты выглянула Лида, девица неопределенной профессии. Она окликнула Павлушу:
– Павел Александрович, к вам тут женщина приходила. Ждала вас, ждала. Вот минут только пятнадцать как ушла. Записку оставила.
Павлуша взял записку.
Он сразу же догадался, что это за женщина приходила к нему. Это, конечно, няня. Значит, пока он ждал ее, она ждала его тут.
У себя в комнате Павлуша зажег свет и прочел записку:
«Милый Павлуша! Масютина забрали с товаром. Я дома не ночую. Нет ли у тебя знакомых коммунистов? Я к тебе завтра приду утром. Вера».
Павлуша сразу же почувствовал прилив энергии. Он схватил фуражку, чтобы бежать в милицию и выручить Масютина так, как он выручил его в девятнадцатом году. Но куда бежать? Куда увели Масютина? Павлуша отбросил фуражку, и новые соображения совсем сбили его с толку. Ведь теперь не девятнадцатый год, а двадцать четвертый. Теперь все размерено и взвешено, и нахрапом ничего не удастся сделать. В этом размеренном и взвешенном мире всему определено свое место и против Уголовного кодекса бороться невозможно. Если Масютин виновен – никто не сможет избавить его от наказания. И если Масютина засудят, то он, Павлуша, погибнет вместе с няней, потому что кто же будет тогда зарабатывать деньги и кормить их?
И вдруг Павлуша почувствовал, что он уже не боится гибели, что желание жить почти совсем умерло в нем. Он помнил то время, когда он ненавидел смерть и болезнь, спасался в деревню к дяде, потом рванулся обратно – к няне, добился службы, служил, но последние месяцы, после потери службы, он медленно умирал. Он не жил, а спал. Да и вообще – когда он жил по-настоящему, так, как надо жить человеку? Может быть, и одного дня он не жил так? Ему казалось, что он жил только тогда, когда закутанную в одеяла Маргариту санитары выносили из квартиры; да еще когда припадок возвратного тифа отпустил его и, плача, он призывал и целовал няню и Масютина; да еще тогда, когда он размахивал документами перед милиционером, выручая Масютина. И еще, может быть, два-три момента. А куда провалилось остальное время? Его, может быть, и совсем не было для Павлуши. Он умрет и не оставит никакого следа на земле и в душах людей. За его гробом пойдет одна только няня. Разве это жизнь?
Павлуша шагал из угла в угол. Он ясно видел теперь, что его жизнь решительно ни на чем не держится. То есть держится только на любви к нему няни. Умрет няня – и ему останется тоже только умереть. Ничто и никто не поддержит его. Сам себя он поддерживать не умеет, всю жизнь он опирался на кого-нибудь, и вот ему теперь двадцать четыре года, он никому не нужен, и у него нет никакого дела в жизни. Всю свою энергию он тратил на то, чтобы отстраниться от потрясений, избегнуть опасностей, сохранить жизнь. И вот ему удалось уберечься от всего, что губило и рождало в последние годы. Он сохранил жизнь, а для чего – неизвестно. Вдруг оказалось, что эта жизнь ему решительно не нужна. Теперь он видит, что в тысячу раз лучше было бы погибнуть в бою, чем отчаиваться так, как сейчас.
Если бы время вернулось на семь лет назад – он знал бы теперь, как действовать. Он бы пошел в партию, он бы работал где угодно, и теперь, если б он остался в живых, у него было бы дело в жизни, и, получив от Веры записку, он не растерялся бы так. Эта записка не грозила бы ему гибелью, и он бы обязательно помог Масютину.
Все эти мысли не были совершенно неожиданны для Павлуши. Все это, вытолкнутое теперь запиской няни наружу, давно уже накапливалось в нем и давало о себе знать тоской, которая схватывала его, когда он, возвращаясь домой по вечерам, видел со двора темное окно своей комнаты. Эти же мысли посещали его и раньше, но они не приводили его в такое отчаяние, как сейчас, потому что Масютин и няня жили уверенно и твердо, и еще потому, что неясно ему было – линия какого поведения победит в результате. Это были именно те самые мысли и сомнения, которые мешали Павлуше ходить в баню, убирать комнату и стать официальным помощником Масютина в торговле. Он даже гордился этими сомнениями, которые другим и совсем были незнакомы. Теперь оказалось, что он, Павлуша, побежден, раздавлен, что он вел себя неправильно, что не следовало отстраняться и избегать.
А может быть, еще не поздно исправить дело? Да и вообще, может быть, и до сих пор не ясно, как надо было поступать в прошедшие сумасшедшие годы? Привычная лень уже успокаивала Павлушу, уже он решил отложить обдумывание до утра, а пока что хорошенько выспаться, когда в стену раздался легкий стук и голос Лиды окликнул его:
– Что ходите, Павел Александрович? Можно зайти?
– Пожалуйста, – вежливо отвечал Павлуша.
Лида вошла к нему завернутая в одеяло, как в простыню после купанья, и остановилась у двери.
– Жалко мне вас, – сказала она. – Я уж давно смотрю, как вы нехорошо живете. А сейчас слышу: ходит, ходит человек, мучается. Идем ко мне.
Павлуша забыл обо всем, что волновало его за минуту до того. Он сразу же сообразил, что за утешение предлагает ему Лида. Он, несмотря на свои двадцать четыре года, совсем еще не знал женщин. Он думал о них много и воображал многое, но реальность пугала его. Он стал задыхаться от страха. У него похолодели и затряслись ноги. Он не мог справиться ни с этой дрожью, ни со своим дыханием.
– Идем, – сказала Лида, – не бойтесь.
И он, спотыкаясь, пошел за ней. Он предоставлял ей всю инициативу.
Лида закрыла дверь на ключ, скинула одеяло на кровать, оставшись в одной сорочке, и предложила:
– Поесть хотите сначала?
Но Павлуше было не до еды: его трясло как в малярии. Лида наконец заметила его состояние.
– Да что вы? – удивилась она.
…Через полчаса Павлуша уже сидел за столом и поедал все, что поставила перед ним Лида: колбасу, ветчину, сыр. Все это он запивал пивом.
Потом ему отчаянно захотелось спать. Спать он остался у Лиды. Проснувшись утром, он вспомнил, что должна прийти Вера с известием о Масютине. Но тут же снова заснул. И няня напрасно стучала в его дверь: никто не откликался. Она ушла, не понимая, куда это мог так рано исчезнуть Павлуша, и даже слегка обеспокоившись.
Этот день Павлуша был совершенно сыт. А к вечеру Лида сказала:
– Надо тебе работу выдумать. Нельзя так жить. Деньги надо зарабатывать.
Вчерашняя тоска прошла у Павлуши. Он уже трезво обдумывал свое положение и то, как помочь Масютину. Гибель Масютина и няни уже не грозила лично ему ничем. Он нашел новую опору в жизни: Лиду.
VII
Масютина арестовали на Октябрьском вокзале в то время, как он сдавал в багаж свой товар. Товар отобрали, а его самого агент посадил на извозчика и повез на Шпалерную. Это произошло вечером в субботу, перед отходом поезда, с которым Масютин должен был ехать в Москву. В воскресенье утром Вера получила от мужа записку с известием об аресте. Записку Масютин передал через одного из освобожденных в это утро арестантов. А в понедельник утром он и сам явился к жене: с него взяли расписку о невыезде и отпустили. Так что, когда Павлуша к вечеру пришел к нему, помощь уже не требовалась.
Масютин, вернувшись, ничего не рассказывал жене. Он шагал по квартире, пожимая плечами, останавливался, недоумевающе разводя руками, и меж бровей легла и не сходила у него складка, обозначающая необычную для бывшего чистильщика напряженную умственную работу. Он старался восстановить в памяти весь ход допроса. Он повторял вопросы следователя и свои ответы, переворачивал их, глядя на них со стороны, как человек посторонний, успокаивался, потом снова начинал волноваться, переиначивал свои ответы (выходило гораздо лучше, чем на допросе), опять успокаивался, но вновь то, что он говорил в действительности, прогоняло спокойствие, – и Масютин, шагая по комнатам, пугал жену своим необычным поведением: Вера уверена была, что он сошел с ума.
Масютину предъявлено было обвинение в том, что он торгует контрабандным товаром. Слова «контрабанда» он боялся пуще всего. Это слово грозило полным крахом его делу. И он убедительно доказывал следователю:
– Масютин – честный коммерсант. Масютин контрабандой никогда не торгует. Это злодеи подсунули, гражданин следователь.
И чтобы доказать свою непричастность к делу, он назвал фамилии своих поставщиков. А дальше он никак не мог восстановить в точности: то ли следователь предложил ему помочь словить контрабандистов, то ли сам он вызвался на это. Он хотел себя убедить в том, что следователь под угрозой чуть ли не расстрела заставил его согласиться на это дело, но ему не удавалось отогнать то, что происходило в действительности.
Масютин пытался рассуждать спокойно: ведь он действительно не знал, что товар, полученный от поставщиков, – контрабандный; он – честный коммерсант, он платит налоги, торгует по патенту, а поставщики подвели его и ввязали в грязное и опасное дело. Значит, они – его враги, и он должен изобличить их. Если это так, то почему же он волнуется? Чего он боится? Ведь он же не преступник, он не контрабандист и не желает спасать контрабандистов!
Самое лучшее, конечно, не ссориться ни со следователем, ни с контрабандистами, потому что неясно еще, кто сильнее. Контрабандисты, правда, не будут знать, что он, Масютин, выдал и помог поймать их (это обещал следователь), но ведь неизвестно, что будет впоследствии. Может быть, контрабандисты одержат верх и станут такой же властью, как следователь? Тогда Масютина изобличат по бумагам и расстреляют за теперешний его поступок так, как теперь расстреливают провокаторов. Эта мысль так напугала Масютина, что он схватил фуражку и, не обращая внимания на плачущую Веру, выскочил на лестницу и ринулся вниз – он решил отправиться за советом к следователю.
Масютин шел и все оглядывался и осматривался, ища доказательств крепости Советской власти. Вывески доказывали ему, что власть как будто крепка: вот красный плакат ЦК железнодорожников, черный – Центробумтрест, зеленая вывеска Музпреда, оранжевый Новтрестторг, синий Северокустарь – все это новые слова и учреждения, выдуманные теперешней властью. И люди заходят во все эти места – привыкли. А вот налево – кооператив «Красная заря». Это уже и совсем ясное название, и опять-таки доказывает оно, что власть крепка. Улицы тоже называются по-иному, и никто не протестует, хотя и мало кто говорит вместо «Невский» – «проспект 25-го Октября» или «проспект Володарского» – вместо «Литейный проспект».








