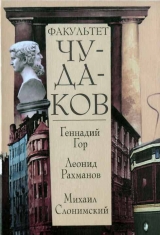
Текст книги "Факультет чудаков"
Автор книги: Геннадий Гор
Соавторы: Леонид Рахманов,Михаил Слонимский
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 30 страниц)
Всего один человек считал себя самым несчастным в день подъема колонн – то был Базиль: он не присутствовал на церемонии. Его не пустили как непричастного к делу. Он был принужден наблюдать операцию издалека, со средины площади. Можно представить, как велико было его горе: Базилю казалось, что оно было велико, как эта площадь.
«Разливанное горе!» – назвал его Шихин с ухмылкой.
Колонны ставились в продолжение полутора лет. Базиль много раз после присутствовал на подъемах, вознаграждая себя за потерянный первый, но должность его оставалась все той же: не то приказчик, не то десятник при шлифовальном сарае. Одно и то же зимою и летом. Это так ему опостылело, что он стал иногда не слишком то ревнительно относиться к своим обязанностям.
Шихин однажды сказал ему:
– Выдохся, парень, ты.
Базиль не хотел отрицать, он лишь сказал убежденным тоном:
– Значит, пришло время в Париж отправляться. Ах, как мне хочется! Ну, ничего, дотяну, скоро уж…
– Скоро, – подтвердил Шихин.
С Базилем он был хорош по-прежнему, часто беседовал с ним, рассказывал обо всем, что случалось в комиссии, в канцелярии, во всех углах самой постройки. Он знал, сколько тысяч рублей Монферан задолжал и просрочил к уплате по векселям своим кредиторам и сколько сотен шпицрутенов получил провинившийся караульный солдат при строении.
Подходил к концу 1829 год. Сорок семь колонн всех четырех портиков несуществующего здания были поставлены, осталось поставить одну последнюю. Так было сделано по приказу царя: сперва колонны, потом здание. «Ать! два!» Сорок восьмая колонна поставлена с точно такою же церемонией в высочайшем присутствии, как и первая. Так же молебен был отслужен перед прибытием государя. Это был сорок восьмой по счету молебен. Получая за каждый молебен по 150 рублей, священники получили за сорок восемь колонн 7200 рублей. Деньги им выдавались из сумм, ассигнованных на канцелярские расходы. (Шихин и это знал!) Когда церемония кончилась и Шихин с Базилем пришли домой пить чай, Шихин сказал:
– Ну, не прав ли я был, когда предвещал себе орден!
Базиль встрепенулся:
– Вас наградили?
– Я награжден, – оказал Шихин торжественно, – совет министров постановил, и мне уже сообщили об этом. А посему… – Базиль ждал, затаив дыхание, – я решил наградить и тебя.
Базиль просиял.
– Я уже хлопотал за тебя, – продолжал Шихин, – я передал по назначению совершенно официальное письмо, в котором хвалю тебя всячески, похвалил и себя заодно, что, мол, я, Архип Шихин, а не кто другой, сумел тебя выучить исполнять любые поручения точно и добросовестно.
Базиль был польщен и в то же время разочарован.
– Вы хотите устроить меня в Петербурге? В Архитектурном комитете? А как же Париж? В другое время я был бы до чрезвычайности рад воспользоваться вашей рекомендацией, но, право, сейчас бы я предпочел Париж любой самой выгодной службе…
Шихин взглянул на него с любопытством и переспросил:
– Любой? Самой выгодной?
– Да, – твердо ответил Базиль.
– Даже службе у Павла Сергеевича?
Базиль засмеялся. Шихин тоже заухмылялся.
– А что, в самом деле, – сказал он полусерьезным тоном, – поезжай-ка к нему, он тебе рад будет. Я бы вас помирил.
Базиль продолжал снисходительно улыбаться затянувшейся шутке, но Шихин уже не смеялся. Он опять с любопытством смотрел на Базиля. Под его взглядом Базиль вдруг затомился, еще улыбаясь, но какой-то уже жалкой улыбкой.
– Полно, – сказал он невнятным голосом, – полно пугать меня…
Шихин заговорил медленно и непреложно:
– Павел Сергеевич готов простить тебя за побег. Я послан ему официальное письмо, в котором, могу повторить, хвалю тебя за исполнительность, а себя за то, что сумел тебя выучить. Ну, а теперь поезжай, вот тебе деньги на дорогу, поезжай с богом.
В ту минуту, когда Шихин вытаскивал свой бумажник, можно было подумать, что происходит талантливая мистификация и кончится она тем, что Шихин, достав свой бумажник, вынет из него деньги на дорогу в Париж.
– На, бери, – сказал Шихин и протянул Базилю тридцать рублей. – На дорогу хватит, а с Павлом Сергеевичем у нас свои счеты. Ямщик заказан, завтра утречком выедешь. Павлу Сергеевичу я обещал, что отпущу тебя ровно через три года, а уж и то опоздал на два месяца.
А теперь вот что: ты на меня не сердись, Васек… Я сказал тебе, что выкуплю тебя от Павла Сергеевича и даже что выкупил уж, так это я, жалеючи, тебя обманывал. Павел Сергеевич разрешил мне только на время тебя арендовать, на три года, надеялся на меня, что я тебя сделаю заправским приказчиком. А я, грешный человек, решил тебя использовать, очень ты мне приглянулся еще до знакомства, еще по рассказам Павла Сергеевича. Он мне письма твои показал, пожаловался, что ты в них только об искусстве одном и пишешь, ради него готов в огонь и в воду. Тогда и запала мне мысль – увлеченность твою использовать. Да вот и использовал, что задумал, то сделал. Ну, спасибо тебе, за честность твою спасибо. Ты верно служил мне. Хоть и скучал иной раз, а все старался потрафить. А больше мне тебя не надо, скажу по правде, а то ты совсем скоро выдохнешься. Не сердись на меня, Васек, поминай добром. Может, еще пригожусь тебе. Жалко мне тебя, ну да ведь знаешь пословицу: «Жаль тебя, да не как себя»… Что могу, сделаю для тебя. Если понадоблюсь – свистни сивку-бурку.
Уезжая утром, Базиль из саней сказал стоявшему на крыльце Шихину – сказал сухо, подчеркнуто деловито, без признаков страдания в голосе:
– Ежели вы действительно имеете какое-нибудь влияние на господина Челищева, если он действительно чем-нибудь вам обязан в делах, то попрошу вас повлиять на него, чтобы он назначил меня в конторщицкой работе, а не приказчичьей. Из того, что я был приказчиком на постройке Исаакиевского собора, вовсе не следует, что я захочу теперь закупать лен и паклю для Павла Сергеевича. Вы сделаете, чт о я прошу?
– Сделаю, – сказал Шихин: ему понравилась выдержка сегодняшнего Базиля. И Шихин сдержал слово.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОШИБКА,или Рассказ о том, как безбедный питерский мещанин в худой час был сочтен за работного человека, и о последовавшей затем плачевной его судьбе.
Очистку отхожих мест при строении Исаакиевского собора откупил в свое время Петр Байбаков, питерский мещанин и домовладелец. Принадлежавший ему ассенизационный обоз должен был в определенные ночи каждого месяца обслужить рабочие казармы, дома для служащих, мастерские, контору, караульню и самую постройку.
Только что перед заключением контракта с Байбаковым там же, в канцелярии строительной комиссии, был заключен неизмеримо важнейший контракт с коммерции советником Жербиным, взявшимся доставлять монолиты-колонны с финляндских гранитных ломок в С.-Петербург, к месту строения собора. Это была большая и дорогая работа. Письменный договор на нее был уже почти оформлен, когда Жербин решился дополнить его одним немаловажным примечанием.
– Особенные верноподданнические чувства, – сказал он растроганно, – велят мне поступить так, а не иначе. Объявляю во всеуслышание, что я сам наложил на себя обязательство уступать в пользу казны четыре процента из стоимости доставки каждой колонны. Господа, прошу занести мое устное обязательство в письменный наш контракт, а еще покорнейше вас прошу, господа, довести об этом до высочайшего сведения государя-императора.
Коммерции советник Жербин был кляузник и тяжбист. Его великодушная уступка легко объяснялась желанием создать себе добрую гражданскую славу, полезную для успешного разрешения многочисленных его судебных процессов. Несколько тысяч, громко пожертвованных им здесь в пользу казны, после помогут ему оттянуть от своих врагов по суду уж никак не меньше ста тысяч. Честолюбие будет также удовлетворено. «Северная пчела» охотно превознесет имя истинно русского человека и бескорыстного патриота, поставив его в пример всем купцам и подрядчикам.
Впрочем, не нужно было далеко ходить за достойными подражателями. В тот же час канцелярия официально засвидетельствовала слова, произнесенные с неменьшим воодушевлением:
– Как я есть верноподданный, уступаю в пользу казны пять процентов из каждой бочки. Прошу довести до любезного сведения государя-императора.
В контракт на очистку нужников было внесено дополнение, под чем мещанин Петр Байбаков согласно приложил руку. А затем молодые чиновники могли наблюдать, как, отойдя от барьера, Байбаков понюхал свои ладони, одну и другую – привычка, свидетельствовавшая о том, что когда-то, прежде чем стать содержателем ночного обоза, он самолично участвовал в промысле, и теперь все казалось ему, что руки еще не отмылись. Сделав такое наблюдение, молодые чиновники сначала хихикнули, затем брезгливо поморщились, а по уходе Байбакова приказали служителю открыть форточки.
Им привелось после с добрый десяток лет открывать форточки в определенный день каждого месяца: Байбаков являлся в присутствие ежемесячно для получения денег, и с наступлением каждого нового хозяйственного года с ним аккуратно перезаключался контракт.
Разумеется, молодые чиновники год от году взрослели, а потом и старели, и уже никаких смешков при появлении или при уходе Байбакова не было и в помине: все обстояло совершенно по-деловому, далее форточку открывали по-деловому.
Наступила зима тысяча восемьсот тридцатого года. Еще ранней осенью была поднята и поставлена последняя колонна восточного портика. Церемония прошла в высочайшем присутствии их императорских величеств государя-императора и государыни-императрицы и их императорских высочеств великой княжны Александры Николаевны и великой княгини Елены Павловны.
Желание государя исполнилось: вопреки принятым в архитектуре правилам, все сорок восемь колонн портиков были установлены раньше возведения храмовых стен и тяжких пилонов для поддержания купола. Государь пренебрег правилами, предотвращающими неравномерную осадку здания, и мир впервые в истории архитектуры мог любоваться зрелищем сорока восьми монолитов-колонн, выстроенных блистательными николаевскими шеренгами вокруг хаотических ям незаконченного фундамента.
Вместе со всем просвещенным населением столицы любовался зрелищем и коммерции советник Жербин, к тому времени выигравший более десятка судебных процессов, но все еще не удовлетворенный своими успехами. Как истинный честолюбец, он не был удовлетворен также и орденом – высочайшей наградой, пожалованной ему за успешною перевозку колонн, из которых была им утоплена лишь одна. С несравненно большею радостью он получил бы вместо нарядного ордена простую медаль, с правом положить ее под основание колонны при торжественном подъеме. Увы, этой чести были достойны только члены августейшей фамилии…
Зимой в России возникла холера. Вокруг столицы немедленно были созданы карантины, не допускавшие болезнь из зараженных местностей. Но меры эти не помогли: судорожные усилия сопротивления незаметным образом перешли в смертные судороги самой болезни – холера явилась в Петербург. Усилившаяся к весне, она представляла уже немалую опасность. Именитые и чиновные горожане всячески избегали общения с вульгарными кварталами, забыв сначала о том, что и в центре со дня на день может открыться рассадник болезни – рабочий городок на Исаакиевской площади.
Правда, городок этот был уединен за забором, но уединение не было еще тогда полным, и несовершенный забор пока оказался полезен лишь тем, что навел на мысли о карантине.
Догадавшись о наличии опасности, градоначальство приняло меры: рабочим при строении Исаакия было объявлено категорическое воспрещение выходить за пределы своей постройки и жилых казарм. Забор был заперт и теперь в самом деле отъединял от мира.
Забор сколотили на славу, почти без щелей, да и в щели все равно б не позволила смотреть стража, в изобилии расставленная на площади.
Начальство, сперва заикнувшееся было о прекращении работ на время эпидемии, было высочайше одернуто: «Ни в коем случае!» – и работы пошли своим ходом. Нанимались все новые артели каменщиков, плотников, кузнецов (из здоровых уездов), и число занятых на постройке рабочих скоро достигло обычной для летнего сезона цифры – трех тысяч людей. Замкнутые в кольцо забора, они были предоставлены своей участи.
Однажды июньским утром по необъятной площади, загроможденной строительным камнем, шел главный архитектор Монферан в сопровождении свиты из двух чертежников, двух приказчиков и личного секретаря-переводчика господина Буржуа.
Монферан в продолжение всего утра хмурился. Его полные щеки кривились и прыгали, выражая крайнее раздражение. Он тряс головой, вспоминая о неприятностях. Вчера в заседании строительной комиссии состоялись крупные дебаты по поводу усиливавшейся эпидемии и чрезвычайных мер борьбы с нею. Все эти споры о том, прямо ли вывозить за город содержимое выгребных ям, опасное в инфекционном отношении, или же предварительно засыпать его в ямах известью, а уж потом вывозить, волновали главного архитектора не своей принципиальной сущностью, а непрерывно повторяющимися словами: болезнь, эпидемия, зараза, холера, инфекция. Попросту говоря, Монферан трусил.
«Это дело всей моей жизни, как я люблю называть его, может теперь принести мне смерть, а ведь только оно удерживает меня в зачумленной России», – трагически думал господин Монферан, шагая по площади и с озлоблением порой взглядывая на строящуюся громаду.
– Господин Монферан!
Монферан сердито оглянулся на секретаря, прервавшего его размышления.
– Господин Монферан, комиссар поручил мне спросить вас, как быть с ассенизационным подрядом.
– Комиссия решила вчера засыпать известью. Что еще ему надо?
– Но, господин Монферан, в контракте, заключенном с подрядчиком, нет пункта о предварительном засыпании известью, следовательно, мы не можем требовать от подрядчика исполнения несуществующего параграфа.
– Можем, – строго сказал архитектор, – это чрезвычайная правительственная мера, он обязан подчиняться.
Путь продолжался в молчании. Шли из полировочных мастерских в главную контору, – путь пролегал через всю площадь. Стоявшие там и сям гвардейские инвалиды брали на караул, завидев главного архитектора, но он не замечал их в своей задумчивости.
– Господин Монферан!
Монферан негодующе вскинул голову, чтобы оборвать надоедливого секретаря, но тут секретарь совершил еще более непочтительный поступок: схватил архитектора за руку и силой удержал его на месте. Впрочем, это бывало и прежде, когда впереди нависала какая-нибудь строительная опасность: грозила, например, развалиться и ушибить огромная клетка небрежно сложенного кирпича. В подобных случаях гнев архитектора обращался против основного виновника катастрофы.
На этот раз было нечто совсем иное. Впереди, в нескольких шагах от них, лежал на строительном мусоре человек без шапки, вниз лицом, руки его были запущены в кучу мусора, сапоги вымазаны глиной, известкой, жидкой грязью. Секунд пять он лежал неподвижно и вдруг закорчился, изгибая спину и вороша руками мусор, в который они зарылись по локти; он рыгал и мелко дрожал задом.
Монферан попятился. Из толпы окружающих приблизился к нему лекарь Доннер, видно, желая сообщить что-то касаемое происшествия, но Монферан попятился и от него.
– Редкий случай сухой холеры или, иначе, молниеносной холеры, господин Монферан. Через полчаса последует смерть.
Секретарь перевел слово в слово.
Монферан, овладев собой, кивнул на больного:
– Зачем вы его положили на кучу?
Секретарь перевел. Доннер забеспокоился.
– Вы хотите знать, господин Монферан, зачем я велел положить его вниз лицом? Это облегчает ему…
– Я хочу знать, – закричал Монферан, не слушая, – зачем вы его оставляете, сударь, лежать здесь, а не у-во-зи-те немедленно?!
Доннер побледнел, готовый упасть на ту же кучу.
– Вы, сударь, – продолжал кричать Монферан вне себя, – так-то вы соблюдаете чрезвычайные меры, которые вчера диктовались вам? Увезите немедленно!
– Увезите немедленно! – провизжал переводчик, зараженный его горячностью.
Человек пять из толпы стремглав кинулись к куче.
– Стой!
Все замерли.
Господин Буржуа с недоумением обернулся к патрону. Щеки того все еще прыгали в приступе бешенства, но глаза слезились, что бывало в минуты, когда его посещала вдохновенная мысль и он сам умилялся перед ее гениальностью.
– Бросай его в яму, – повелительно, но довольно спокойно сказал Монферан, обращаясь к пяти.
Те замерли в нерешительности.
Все молчали, больной рыгал и ворошил мусор. Монферан несколько нетерпеливо показал рукой на глубокую яму для гашения извести, расположенную поодаль.
– Господин Монферан, он еще жив пока! – с нескрываемым ужасом вскричал Буржуа и даже всплеснул руками как-то особенно, по-простонародному.
Монферан поглядел на него пронзительно и сказал с величайшим внутренним убеждением:
– В случае молниеносной холеры бросить в яму и засыпать известью, не теряя ни минуты. В молниеносности действия мы должны опередить самую холеру. Вы слышали, что через полчаса он и так умрет? Попрошу вперед не возражать. Де-лать!
– Де-лать! – провизжал переводчик.
Главный архитектор со свитой, страстно желавшей в этот момент перешептываться, делясь впечатлениями, но сдерживающейся при строгом патроне, – удалились по направлению к канцелярии.
Секретарь растерянно отдал дальнейшие распоряжения и побежал догонять свиту.
Через полчаса Монферан стоял в канцелярии, говоря с секретарем об очередных делах. До слуха их неожиданно долетели слова, произнесенные кем-то из находившихся за барьером:
– Царство небесное, значит, Байбакову. Все хотел, бедняга, со своим вонючим делом в купцы залезть, ан, шалишь, бог-то раньше прибрал.
Так говорил за барьером коммерции советник Жербин.
Монферан вопросительно и тревожно взглянул на секретаря, в самом голосе Жербина почуяв что-то недоброе. Секретарь перевел по возможности дословно.
– Как? – грозно вскричал архитектор, почувствовав вдруг, что отчаянно струсил. – Подрядчик Байбаков умер?!
Жербин приблизился с печальной ухмылкой:
– Закопали, ну, стало быть, царство небесное, бог прибрал.
Хитрый Жербин легко разгадал причины смятения главного архитектора и сейчас скромно ждал растерянных его вопросов.
Монферан в это время мучительно думал: «Какая оплошность! Какая оплошность! Велел зарыть в известь состоятельного человека, подрядчика, патриота… Если даже не вспомнится никому, что он был не совсем еще мертв… все равно, может разыграться скандал, – его родные потребуют выдать им тело. Разумеется, я распоряжусь сейчас же отрыть его, но все равно плохо… Ах, черт возьми… что я наделал!»
Но вслед затем господин Монферан взял себя в руки и настолько успешно справился, что мог здесь же без замедления сказать Жербину несколько ловких фраз, укоряюще-льстивых:
– От вас я не ожидал этого, господин Жербин. Мы с вами давно знаем друг друга, почему вы не предупредили меня, будучи сами на месте этих злосчастных событий?
Переводчик стеснительно перевел. Жербин виновато улыбнулся и поклонился. Он торжествующе подумал про себя: «Ну, посадил я тебя в лужу, приятель! Это для тебя хуже ямы! Ай да я! Авось, пригодится», – и сказал вслух почтительно:
– Полно, господин Монферан, ошибки бывают во всяком деле. Вы проводили чрезвычайные меры по поручению правительства, так сказать, государства. Здесь тоже неизбежны ошибки, но они всецело оправдываются высокой целью.
Сказав это, Жербин поклонился и отошел в сторону. Так возвеличился честолюбец, и не только в сравнении с закопанным конкурентом, но и над самим начальником.
ВОСЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВАМайским утром 1836 года конторщик господина Челищева, подведя итог за прошлый месяц, аккуратно присыпал песочком чернильные цифры и поглядел на часы: было без пяти минут десять. Вчера вечером, ложась спать, он решил, что, закончивши утром ведомость, он пойдет ровно в десять часов к Павлу Сергеевичу и заявит ему свою просьбу. До назначенного срока осталось всего пять минут. Он сел поудобнее, чтобы еще раз собраться с мыслями.
Ровно в десять часов Василий Иванович постучался в дверь кабинета.
– Апрельская ведомость, а также отдельный расход по ремонту амбара в текущем мае подсчитаны, – доложил он Павлу Сергеевичу.
– Хорошо, можешь идти, – ответил Павел Сергеевич. – А впрочем, мой друг, – Павел Сергеевич оторвал глаза от образчиков полотна, лежащих перед ним на столе, – обожди здесь с минуту. Я хочу сделать тебе весенний подарок.
– Я только что намеревался просить вас о том же, – спокойно ответил Василий Иванович. Павел Сергеевич нахмурился, на лице его ясно изобразилось желание наложить ординарный штраф за дерзость, но изобразилось также и некоторое удивление – и далее проглянуло любопытство.
– Что такое, мой друг? – оказал он с холодностью.
– Разрешите мне испросить у вас позволения выехать в Петербург на один год, или в крайности на полгода, – сказал Василий Иванович.
– Как! – сказал Павел Сергеевич, вовсе нахмурясь. – Ты все о том же?
– Да, я прошу вас о том, о чем просил ежегодно и в чем вы регулярно отказывали.
– Откажу и нынче, – желчно сказал Павел Сергеевич.
– Я смею думать, что нынче вы не откажете, – неожиданно возразил конторщик и улыбнулся.
Улыбнувшись, он стал похожим на прежнего Базиля, лицо его выиграло в миловидности. Впрочем, оба они, и Павел Сергеевич и его конторщик, были чрезвычайно моложавы, они мало изменились внешне за прошедшие десять лет. Оба остались стройны и изящны, как юноши, хотя одному успело исполниться тридцать два года, другому перевалило за пятьдесят.
Как бы желал высказать в этот момент свою статность, Павел Сергеевич встал из-за стола и жестко выпрямился. Это обозначало гнев. Василий Иванович побледнел, что обозначало отнюдь не боязнь, а скорее напряженную, страстную решимость. Затем он сказал весьма деловитым тоном:
– Павел Сергеевич, ваши родственники опять учинили подвох на закупке. Убыток для вас будет простираться до тридцати тысяч рублей ассигнациями, если подвох этот не обезвредить заблаговременно.
Павел Сергеевич встрепенулся.
– Сделай все, что нужно, чтобы обезвредить, – сказал он строго.
– Разумеется, – ответил Василий Иванович, – но сделаю не раньше, чем вы дадите слово, что беспрепятственно отпустите меня в Петербург.
– Требование? Ко мне? Это бунт! – вскричал Павел Сергеевич, скорее изумившись, чем в гневе.
– Я не хочу, – угрюмо ответил конторщик, – я совсем не хочу оказаться в столь же глупом, униженном положении, как прошлый раз, когда я прежде обезвредил подвох, а после с радостною уверенностью в успехе своей просьбы обратился к вам за разрешением на поездку, и вы с легким сердцем мне отказали. Теперь я решил сохранить до поры до времени в своих руках козырь. Вы знаете, что я открыл секрет их нынешнего подвоха, но вам-то секрет этот неизвестен, и никто не поможет вам открыть его, вырвать его у меня – не станете же вы пытать меня! Вам бесполезно даже знать о готовящемся мошенничестве, когда лично вы не можете его предупредить, а могу только я. К суду вы не прибегнете, не желая бесчестить фамилию, а главное – фирму, они отлично знают вашу щепетильность. Короче говоря, Павел Сергеевич, я оказался способным конторщиком, наградите же вы мое усердие…
Василий Иванович задрожал даже, когда произнес последние злые слова.
Павел Сергеевич молча стоял, отвернувшись к окну, спиною к способному своему конторщику.
– Павел Сергеевич, – продолжал тот свое нелегкое объяснение, – вы же знаете… – тут самый голос его дрогнул, – вы знаете, что десять лет назад я не осмелился бы выставлять подобные требования и разговаривать с вами таким тоном, но… вы обучили меня деловитости, Павел Сергеевич. Вы вкупе с Шихиным…
Базиль (совсем прежний Базиль) робко (по-прежнему робко) опустил голову. Павел Сергеевич медленно повернулся, лицо его выражало прежнюю брезгливость к меркантильности людских интересов.
– Отпущу на полгода, – задумчиво заговорил Павел Сергеевич, подбирая слова. – Паспорта не дам, поедешь на правах беглого, через полгода вытребую по этапу. Свои сбережения передашь мне, поедешь с двадцатью рублями. Отвечай – зачем едешь?
– Это – мое дело, – тихо ответил Базиль.
Челищева передернуло.
– Ступай. Стыдно! Ты стал шантажистом и наглецом.
Базиль поклонился и вышел.
«Вы, благодетель мой, называете это шантажом и наглостью, я называю это житейским опытом, – думал он по пути в свою комнатку. – Полагаю, что с таким благоприобретенным качеством я сделаю теперь себе карьеру».
На прощанье, перед отъездом Базиля, Павел Сергеевич сказал ему:
– Не обольщайся мыслью, что ты вынудил меня уступить тебе. Я уступил с умыслом. Я, как в себе, уверен, что Петербург снова выбьет из тебя дурь.
«Рассказывай! – думал Базиль, отъезжая. – Просто тридцать тысяч пожалел. Уж раз после сорока лет решил наживать, то после пятидесяти как можно снова начать проживать, бросаться такими тысячами! Рассказывай, меценат!»
Мысли Базиля значительно погрубели с тех пор, как приехал он из Парижа в Россию. Он это чувствовал сам и искренно радовался, видя в этом залог удачи в построении своей нынешней карьеры. Сидя за спиной ямщика, он изыскивал мысленно всевозможные способы. Один способ давно уже казался ему самым надежным и безошибочным. Базиль уповал на него потому еще, что, как и последнее средство, примененное в отношении Павла Сергеевича, этот способ походил на «шантаж»… Тоже в своем роде райское средство!
– Нет, это уж адское средство, – сокрушенно и с убеждением произнес Базиль.








