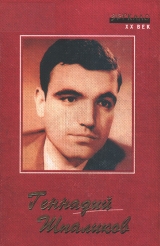
Текст книги "Стихи. Песни. Сценарии. Роман. Рассказы. Наброски. Дневники."
Автор книги: Геннадий Шпаликов
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)
– Откуда я знаю? – как и вчера, точно таким же бесцветным голосом ответила девчонка. – Я бы сама на нее посмотрела, на эту Лизу. Просто как Джоконда. У меня все про нее спрашивают. Третий день.
– А ты откуда? – спросила Надя.
– Вы меня вчера спросили, но не дослушали. Я здесь по направлению. У меня производственного стажа не хватает.
– А куда ты поступаешь?
– В медицинский. Уже второй год.
– Очень хорошо! А что ты у нас делаешь? – Надя раздражалась все более.
– Все что попало, – спокойно отвечала девчонка из этой фанерной дыры. – Меня сначала в машбюро отправили, Я в столовой работала. Справа от проходной, знаете?
– Знаю, – сказала Надя. – Знаю я эту столовую. Кто тебя к нам направил? Как тебя зовут?
– Вера.
– Фамилия?
– Быкова.
– Вера Быкова, – повторила Надя. – А зачем тебе эта производственная практика?
– Стаж, а не практика, – поправила Вера. – А здесь мне все равно ничего не доверяют. Это не тарелки мыть.
– А тебе у нас совсем неинтересно?
– Ну, как вам сказать… Нет, не интересно.
– Хочешь опять тарелки мыть? – спросила Надя.
– Не очень. Но мне все равно.
– А такая простая мысль, что пойти в санитарки, тебе в голову не приходила? Все ближе к делу!
– Я всю зиму санитаркой работала. В шестьдесят седьмой больнице.
– Ну и что?
– Нужна производственная практика, – сказала Вера.
– Но это полный бред!
– Что вы от меня хотите? – спросила Вера. – В столовую обратно? Пожалуйста. Я тоже все сначала спрашивала: зачем, почему, какой смысл, с какой стати? А это абсолютна никому не нужно. Я для вас никакой ценности не представляю. Главное, я поняла: не сопротивляться механизму всего, и тогда вынесет, понимаете?
– Какому механизму? – спросила Надя.
– Механизму всего, – повторила девочка. – Вы на меня не смотрите такими глазами.
– В столовую иди, в столовую, – сказала Надя. – Или вообще на скамеечку сидеть. Сколько вас таких собралось: чуть что, руки кверху! Вы что, с ума сошли? Кто тебя научил, вот так, как… В столовую!
– Пожалуйста, только вы не кричите.
Работа тем и хороша, что успокаивает. Надя закрепила штамповку, включила станок. Все пошло верно, неспешно, обыкновенно. Главное – чтоб никто не мешал.
Подошел мастер.
– Тебя Григорий Матвеевич зовет.
– А что такое?
– Не знаю. Пришли к тебе, зовут.
– Василий Михайлович, скажи ему, что я не могу.
– Иди, иди.
– Но я не могу!
– Выключай станок!
Григорий Матвеевич, начальник цеха, нисколько не походил сегодня на того, вчерашнего, задерганного и нервного. Сегодня он был спокоен, ровен, самостоятелен – совсем другой человек.
Он провел Надю в свой кабинет. Тут же, рядом с цехом, где напротив окон (зелень за окнами, солнце) сидела женщина. Как только они вошли, Надя и Григорий Матвеевич, она сразу же встала. Рабочий халат, косынка. Какие-то бумаги в руках. Какая она – против окон не рассмотришь.
– Вот, Надя, это к тебе, – сказал Григорий Матвеевич.
– Беседуйте. – И ушел.
– Вы уж меня извините, – сказала женщина негромко.
– Да вы садитесь. – Надя разглядывала вблизи ее немолодое отекшее слегка лицо. – Садитесь… – И сама села.
– Вы уж извините… – повторила женщина.
– Да что вы все время извиняетесь? – спросила Надя. – Вы из какого цеха?
– Из седьмого.
– Если у вас что-нибудь серьезное, – сказала Надя, – то, честное слово, зря вы ко мне обращаетесь. У меня ни прав, ничего. Я же только кандидат в депутаты. Меня же еще могут и не избрать.
– Такого не бывает, – сказала женщина.
– Бывает – не бывает, а толку от меня пока что никакого. Это я вам сразу говорю… Что у вас?
– Сын у меня в тюрьме.
Надя удивленно посмотрела на нее:
– Где?
– В тюрьме, – повторила женщина. – Теперь вся надежда на вас… Вот тут все написано, – она протянула Наде бумаги.
– Это я после посмотрю, – сказала Надя. – За что – в тюрьме?
– По глупости… Мальчишка еще…
– Это понятно, что по глупости… И все-таки: за что посадили?
– За изнасилование, – сказала женщина.
– За что? – переспросила Надя.
Женщина молчала.
– Так, – сказала Надя. – И сколько ему дали?
– Десять лет…
– Мало! – Надя встала. – Ох, мало! Пожалели! Десять лет! Да таких раньше камнями забивали! Без всякого суда!
Женщина смотрела на Надю испуганными глазами.
– Ничего себе – мальчишка! – Надя уже не сдерживала себя. – По глупости! Я бы таких только расстреливала! Или посылала бы на какие-нибудь урановые рудники, чтобы там они подыхали медленной смертью!
– Да что вы такое говорите… Что вы говорите… – повторяла женщина.
– Что я говорю? – Надя резко повернулась к ней. – Бандит ваш сын! Бандит! И вообще, у меня рабочее время, и я всякой сволотой заниматься не желаю! А бумаги ваши забирайте!
– Эх ты… – Женщина все складывала, сгибала листки. – А я-то, дура, надеялась…
– Зря надеялись! – сказала Надя. – Пусть сидит весь срок! А ко мне больше не ходите!
– Не волнуйтесь, не приду… – сказала женщина. – А я уж думала, ты теперь сама мать, поймешь…
– И понимать нечего! У меня дочка растет! А какой-нибудь подонок, вроде вашего сынка, – подумать страшно!..
Окна раскрыты – первый этаж. Рабочие останавливаются – особенно девчонки, – слушают.
– Ты сначала одна вырасти сына, до шестнадцати лет дотяни, а потом уж суди, – сказала женщина. – Орать все умеют… Вот ты – какой там начальник, а уж голос пробуешь… – Женщина встала. – А я к тебе, как к своей, к рабочей, пришла…
– Тоже мне классовая солидарность – бандитов из тюрьмы вытаскивать! – в сердцах сказала Надя. – Думали, пожалею! А он ту девчонку пожалел? Уходите отсюда… Не могу я больше все это слушать! Тошно мне, понимаете? Уходите!
За раскрытыми окнами (подоконник низкий) стояли и слушали разные люди. Надя подошла. Захлопнула резко окно. И второе тоже. Только что стекла не выпали, а зрители-слушатели отшатнулись разом.
В цехе – грохот привычный. Вся эта музыка обыкновенная.
Уже открыли буфет – обеденный перерыв скоро. Покупают колбасу, булки, кефир.
– Надя! – на ходу остановила ее Вера Разнова, слесарь из ее бригады.
– Что тебе? – хмуро спросила Надя.
– Из милиции звонили! – сбиваясь, говорила Вера. – Лизу на вокзале забрали!
– Оставьте меня в покое! Забрали – и очень хорошо.
– Надя!..
– Что – Надя?
– Всю ночь сидит! – вздохнула Вера.
– Из какой милиции звонили? – спросила Надя хмуро.
– Неразборчиво говорили, Григорий Матвеевич все записал.
По коллектору в кабинете начальника цеха передали:
– Первый цех… Смолиной немедленно зайти к секретарю парткома. Смолиной – к секретарю парткома.
Надя шли сначала двором, между майских, зеленеющих свежо деревьев, мимо корпусов, по аллее.
По дороге ее поймал на ходу Костя. Но Надя даже не остановилась. Пошли рядом.
– Ты обедала? – спросил Костя.
– Тебе-то что?
– Я по селектору слышал, – сказал Костя. – В чем дело?
– Не знаю я, в чем дело. Надо дочку к маме везти, а то свихнешься ото всех этих забот, – сказала Надя. – Купи мне какую-нибудь булку, что ли, и молока и вот здесь посиди. Я скоро. Сам-то поел чего-нибудь?
– Ладно, ты иди, – сказал Костя. – Вот эта скамеечка, запомнишь? Напротив клумбы. Иди…
…Секретарь парткома ждал Надю на скамеечке в тени – жаркий был день. Секретарю было лет сорок, не больше. Был он в светлом пиджаке, в белой рубашке без галстука, и вообще выглядел празднично.
– Ну что? – Надя присела рядом.
– Жара, – сказал секретарь, а звали его Гришей.
– Ладно, жара, – сказала Надя. – Это все понятно, что жара. В чем дело, кроме жары?
– Ты торопишься? – спросил секретарь парткома.
– Представьте себе, тороплюсь, – ответила Надя. – Что такое? Не тяни.
– Что ты Мухиной наговорила? – спросил секретарь.
– Уже нажаловалась? Быстро…
– Да не в этом дело…
– А в чем? – спросила Надя. – В чем?
– А черт его знает в чем, – сказал Гриша. – Нельзя людей обижать, понятно?
– Нет, непонятно.
– Да все ты понимаешь… – Гриша стукнул ладонью об скамейку. – Она у нас двадцать пять лет проработала. Сечешь? Двадцать пять лет.
– Ну и что? – сказала Надя.
– Ну, раз ты так говоришь – ну и что? – ну, что я тебе возражу? Дура ты, и все тут.
– Знаешь, можно сто лет какие-нибудь гайки завинчивать. Что, я должна за это ей в ножки кланяться? Да завинчивай – ради бога! А меня в свою грязь не мешай!
– Грязи испугалась?
– Не испугалась, – сказала Надя. – Знаешь, другое – мутит меня ото всего этого… Вот она рабочая, ты считаешь – я тебе верю, – нормальная, хорошая, стаж у нее приличный. Чего она за звание это прячется – рабочая? Чего? Раз рабочая, значит, все можно, да? И сын подонок, а, видишь, одна воспитала! Значит, и никто не виноват! Да он же у нас работал, я узнавала! Удобно сейчас рабочим быть! «Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем!» Вот он был, при маме, ничем, никем, а ты мне на безотцовщину не ссылайся – и без отцов растут, а он рабочий, так называемый, и его не тронь…
– А насчет урановых рудников и расстрела ты правда обещала? – спросил секретарь парткома.
– Так, по ходу пришлось, – сказала Надя. – А вообще я не сгоряча сказала ей, и обратно слов своих не беру.
– И камнями забросать? – спросил секретарь. – Было?
– Камней не было, – сказала Надя. – Булыжниками. Жаль, до этих самых его лагерей не докинешь… Разве что какой-нибудь баллистической ракетой.
– Слава богу, ракеты тебе не дадут, – сказал секретарь парткома. – Откуда в тебе все это?
– Что? – спросила Надя. – Что ты имеешь в виду?
– Надя, люди-то – они живые. Старые уже, не переделаешь, – сказал Гриша. – Да и молодых кнутом не возьмешь.
– Слышат, слышала! – сказала Надя. – То кнут, то пряник. Мура все это!.. По справедливости, не свое ты место занимаешь, Гриша. Характер у тебя – никакой. Всем ты хороший, для всех. Вроде меня… Всех тебе жалко. Жалко, да?
– Ну, ты даешь! – сказал Гриша. – Опомнись, Надя. Жалко – да! И тебя тоже.
– Ты меня не жалей! Ты себя пожалей! – Надя встала со скамейки. – От твоей жалости люди только мучаются. А тебе так удобно. Добрый какой! Уж лучше последней сволочью быть, чем никаким! Да пусть меня ненавидят, лишь бы дело шло! А ты всем оправдание находишь, всем! Живые люди!
– Живые, – сказал Гриша. – В этом все и дело.
– А я говорю – нет! Пока их не раскачаешь – бред, пустота! За что жалеть? Нажрется себе перед телевизором, и «шайбу!», «шайбу!» Стакан врезал – и по новой!
– Интересные у тебя, Надя, знакомые, – сказал Гриша. – Шайбу – это хорошо…
– Новые идеи нужны! Понимаешь? Социализм – не жратва, не в гости ходить!
– Погоди ты про социализм!.. – вздохнул Гриша. – Какие-то у тебя замашки: все сразу, всех сразу… Нехорошо получилось с Мухиной… Нельзя так…
– А я буду так! И только так! – сказала Надя. – Отвыкли называть вещи своими именами! Отвыкли! Бандит – и есть бандит. Подонок – он подонок. Тряпка, ни то ни се – тряпка! Вот была бы моя воля, я бы сейчас, но новой, сделала партийную чистку! Отбирала бы билеты, и все! Книжечки эти красные – сколько за ними прячутся!
– Много на себя берешь, правда, – сказал Гриша. – Время, Надя, не то… Что-то ты путаешь… Хотя я тебя понимаю…
– Спасибо, Гриша! За понимание! – сказала Надя. – А время – как раз то самое! Неудобное время! Гуманизм, люди-братья, планета Земля – шар небольшой, синий да зеленый! Может, границы скоро отменят? Если Земля такая уж всеобщая! Ты Ленина читал?
– Ну, читал, – сказал Гриша. – Читал. А что?
– Не помню точно. Но у него написано, что таких, как ты или вроде тебя, судить надо и гнать от живой работы с твоими так называемыми живыми людьми!.. Время тебе не то. Тоже мне просветитель, еще на время ссылается! Тебя бояться должны, а кто тебя боится? Кто?
– Ну ладно! – сказал Гриша. – Программа мне твоя ясна. Еще раз нахамишь – кому угодно, – плохо тебе будет, Смолина. Вот уж не думал, что депутатство на тебя в эту сторону сработает. Такое ощущение, что до тебя сплошная была пустыня. И все только тебя и ждали, на горизонт посматривали – когда появишься.
– Я пошла, – сказала Надя. – Считаю необходимым довести до сведения обкома твои настроения. Должности своей ты явно не соответствуешь.
– Ладно, разберемся, – сказал секретарь. – А перед Мухиной ты бы все-таки извинилась.
– Еще чего не хватало! – отрезала Надя. – По-человечески я ее понимаю. Даже, может быть, и сочувствую. Но – хватит сочувствий этих и разговоров запросто, этого демократизма липового… Вот так на скамеечке поговорить!.. Или у тебя еще была манера – свадьбы посещать!
– А что, хорошее дело – свадьбы, – сказал Гриша.
– Ну и ходи! – Надя встала. – На свадьбы, на именины! Как же – всегда с народом! Свой в доску! А все – от страха! Вот не будешь секретарем – ну что ты умеешь? Лопату в руки, и все дела! Снег чистить!
– Я, между прочим, инженер, – сказал Гриша.
– Какой ты инженер! Ты и забыл, как там и что! Некогда тебе, все дела! Мне терять нечего – я на своем револьверном проживу, а ты, Гриша, номенклатура, – вот ты кто! Ну и прыгай перед всеми, пока тебя не вышибли! А вот, честное слово, пока у меня такая есть возможность – пусть ненадолго – я тебя с этой скамеечки подниму!
– Что-то ты дельное среди этих взрывов говоришь… – очень спокойно сказал Гриша. – Что-то у тебя такое светится. Мне вообще все это нравится… И не нравится…
– Да не собираюсь я тебе нравиться!
– Надя…
– Что – Надя? Что? – Надя ходила вокруг скамейки.
– Да не бегай ты, – вздохнул Гриша. – Сядь.
Надя села.
– Знаешь, я решила от депутатства сначала отказаться, – сказала она, – не по мне все это! А теперь уж нет! Вы из советской власти богадельню сделали! Ничего я не преувеличиваю! Кормушку, понял? И людей вокруг себя подобрали таких, удобных – вроде меня! Раньше людям рты затыкали тряпкой, кляпом, а теперь – чем? Сыты, и слава богу! И шмотки есть! Ох, ненавижу!
– Сыты – это хорошо, – сказал Гриша. – И шмотки – тоже ничего, я вот только ботинки не могу никак найти подходящие… Надя, а Надя…
– Что?
– Не суетись пока что. Ладно? Подумай.
– Это ты суетишься! – оборвала его Надя. – Такая у тебя тихая суета! Ты меня комсомолочкой считал: то, се, воскресники, субботники, песенки под гитару! Хватит, товарищ Гриша! Надя – заводная, Надя – веселая, Надю и в депутаты можно – своя! Уж как-нибудь договоримся! Своя! Наша! Все удобства на дому! Из рабочих и крестьян – все как надо! Ох, Гриша, ошибочка вышла! Меня эта советская власть вырастила в голодуху самую, да и не в том дело! Я вам ее на откуп не отдам, понял? И девочку со значком Верховного Совета вы из меня не сделаете!
Надя на трамвае поехала к отцу Лизы. Путь ее был долгий. По дороге, пока ехала, вспомнила, проезжая мимо молочного магазина, где на улице продавали молоко в пакетах, творог, кефир, что на скамеечке, на заводе, ждет ее Костя, и даже парень какой-то около магазина был на Костю похож – такой же большой, белобрысый, с пакетами молока.
Но все эти совпадения отпали, и мысли были о другом, хотя какие уж там мысли?
Жара в трамвае, народу – не протолкнешься. Надя ехала от конечной, и потому сидела, а трамвай несся мимо одинаковых блочных домов, этажей на пять, мимо ларьков, пивных, заборов…
Ехать долго. Ни газеты, ни книги, ничего. Только колеса трамвайные стучат где-то внизу под ногами, да люди входят, да ветер жаркий в окно повеял, и уже полегче.
Стала пальцами отстукивать что-то по стеклу. Под трамвайный грохот. Вот колеса, они всегда что-то такое напевают, что-то у них там вертится, какая-то своя мелодия.
И пальцы по стеклу.
Только мелодия не сразу возникает, не сразу.
Но возникает.
Под пальцами, по стеклу.
…Надежда, я… – осторожно пальцы коснулись стекла, теплого от солнца, – Надежда, я… вернусь тогда, когда трубач отбой сыграет… Когда трубу к губам приблизит и острый локоть отведет… Надежда, я останусь цел: не для меня земля сырая, а для меня твои тревоги, и добрый мир твоих забот…
И мчался этот трамвай, набитый до предела, и окраина рабочая была за окнами, неслась в жаре, в пыли, и пальцы Нади едва стекла касались… А мелодия, слова – соединились в такт трамвайным колесам.
…Но если целый век пройдет, и ты надеяться устанешь, Надежда, если надо мною смерть развернет свои крыла, ты прикажи, пускай тогда трубач израненный привстанет, чтобы последняя граната меня прикончить не смогла…
Входили люди, выходили, и трамвай так повернул, что стекло, за которым сидела Надя, совсем стало золотым, жарким, слепое от солнца стекло, и пересаживались пассажиры на сторону теневую – такое горячее солнце ударило по этой стороне, но Надя не пересела, а только глаза прикрыла, а пальцы все отстукивали по стеклу:
…Но если вдруг, когда-нибудь, мне уберечься не удастся, какое б новое сраженье ни покачнуло шар земной, я все равно паду на той, на той далекой, на гражданской, на той единственной гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной…
Вот и остановка, нужная Наде. Все дома здесь одинаковые – блочные, в пять этажей, первой застройки.
Был тут раньше пустырь, всем ветрам открытый, а теперь – дома, на которых какой-то заботливый человек догадался написать (на каждом!) черной краской несмываемой огромные цифры: 7, 8, 18…
Улица имени Юрия Гагарина.
Май, ветер. Хотя бы дождь пошел, и Волга здесь, кажется, не так далеко, а такое ощущение, что вся эта улица в степи стоит.
Леши, отца Лизы, дома не оказалось.
Соседка открыла. Молодая еще женщина, но замотанная детьми – они высыпали в коридор и глазели на Надю. Она даже и посчитать их не успела.
– Нет его, – сказала женщина. – Что-то он громыхал с утра. И рубль у меня просил. Я ему молочные бутылки отдала.
– Давно ушел? – спросила Надя.
– Да не так уж и давно, – ответила женщина. – Вы проходите…
– Спасибо, – сказала Надя. – Где тут у вас посуду ближе всего принимают?
– А у пельменной, во дворе, – охотно сказала женщина. – Там они все и собираются.
Надя сразу заметила Лешу. Он стоял где-то в середине огромной очереди к ветхому сарайчику, где за окошком принимали посуду, а принимал ее, ловко собирая с прилавка пустые бутылки, отставляя в сторону ненужные, безошибочно кидая мелочь на алюминиевую тарелку, красномордый, здоровый парень в синем халате с закатанными рукавами.
– Леша, – подошла Надя. – Пошли.
– А-а… – не удивился Леша. – Куда мне идти? Я час стою, уже недолго осталось.
– Да отдай ты эти бутылки! – сказала Надя. – Вот ему отдай. – Она показала на парня, стоявшего за Лешей. – Есть у меня деньги. На пиво тебе хватит.
Леша, не сопротивляясь, отдал свою авоську парню и пошел за Надей.
– Ты знаешь, что Лиза в милиции? – спросила на ходу Надя.
– В какой милиции? – Леша даже остановился. – Ты что?
– Ох, Лешка! – вздохнула Надя.
– Погоди, – сказал Лешка. – Я ничего не соображаю. Милиция… Ты видишь, я не в себе… – он пытался улыбнуться. – Ты не обращай внимания, что я побрился и рубашку переменил, а не в себе… Ты вроде бы на пиво обещала…
– Вот, – Надя протянула ему трешку.
– Здесь много, – сказал Леша. – Я сдачу принесу.
– Принеси, – сказала Надя. – Сдачу.
Леша сразу заторопился.
– Ты… – сказал он. – Ты вот здесь, около газет постой… Почитай, как там и что… А я сейчас, я быстро…
Надя остановилась около газетного щита.
Газеты были вчерашние, оборванные там, где телевизионная программа. Рыжая газета, вся на солнце выгоревшая, но Надя прочитала, что осталось – про Ирландию. Католики, протестанты. Военные машины на улицах. А в Португалии «Броненосец Потемкин» идет! Вот это здорово!
Надя еще раз прочитала и, оглянувшись, оторвала это сообщение и положила в сумку.
А тут и Леша появился. В руке у него было эскимо на палочке.
– Вот, на сдачу купил, – сказал он. – Тебе.
Он вполне пришел в себя.
– Ну, вот что, – Надя взяла эскимо. – Я временно переселяюсь к тебе. Ну, на месяц, два. Сколько там твое лечение займет.
– Какое лечение? – тревожно спросил Леша. – Ты что это придумала?
– Обыкновенное, от водки, – сказала Надя. – А Лиза со мной поживет. Пока что.
– Вот, значит, как! – Леша заволновался. – Без меня меня женили! Да кто тебя уполномочил!
– Слова-то какие знаешь! – усмехнулась Надя. – Как ты его с утра выговорить смог. Уполномочил. Надо же!
– Чего ты в чужую жизнь лезешь? – Леша говорил громко.
Прохожие останавливались. Очень эта сцена смахивала на самый заурядный скандал мужа и жены. Останавливались, слушали.
– Ну, ты! Чего? Чего надо? – кричал Леша прохожим. – Иди, иди! Валяй отсюда!
– Не хочешь сам, Леша, я тебя принудительно положу. – Надя говорила спокойно. – Направление я тебе сделаю. Не думай, что это так просто. Люди месяцами ждут. Мучаются. Да ты… Что, плохо, Лешка? Смотри, мокрый весь… Пошли, посидим…
– Отстань! – Леша рванулся. – Иди ты!
– Ну, ладно, – сказала Надя спокойно, – по-человечески не хочешь говорить. Жить по-человечески не хочешь. А Лизу я тебе не отдам!
– Ты к Лизе не прикасайся! – уже кричал Леша. – Лиза!.. Да я за нее… Я за нее! У меня никого больше нет, понимаешь ты…
– Понимаю, – сказала Надя.
– В милиции, говоришь? – Леша был уже сильно возбужден. – Я эту милицию всю разнесу! Я им покажу! Знаешь, какая она, Лиза! Она ж святая! Где эта милиция? Какое у этих сволочей отделение? За что они ее?
– Ладно, Леша, – сказала Надя. – Иди домой. Я сама разберусь. Ты отдохни… – Надя сдерживала себя изо всех сил, чтоб не сорваться, не накричать сейчас на этого взбудораженного, взмокшего сразу человека с бегающими глазами, и губы у него беспомощно тряслись, и оставить его одного было явно нельзя, а быть рядом – невыносимо.
И все же Надя резко повернулась и пошла.
– Надя! – вслед ей крикнул Леша. – Ты куда? Где это отделение? Где?!..
Немного времени прошло.
К дому Леши подкатила санитарная машина.
Нет, она не была похожа на скорую помощь. Это был крытый фургон, а то, что она санитарная, выяснилось только после того, как из нее вышли трое крепких ребят в белых халатах.
Надя была с ними.
Они поднялись по узкой лестнице (такие уж лестницы спешно строились в этих домах) на третий этаж. Позвонили. Открыла та же соседка. Увидела молодых людей в белых халатах, Надю. Испугалась, но не удивилась нисколько.
– Проходите, проходите…
Прошли.
Общая квартира. И снова высыпали в коридор дети. Один, два, три, четыре – сколько же их? Женщина быстро загнала их в комнату.
Квартира была на две семьи. Леша и его дочь жили в боковой комнате.
Дверь была заперта изнутри. Ключ торчал с той стороны. Надя постучалась.
– Леша! – сказала она как можно спокойнее. – Леша! Это я, Надя!
– Чего тебе? – раздался злой голос Леши. – Чего надо?
– Открой дверь.
– Я сегодня гостей не принимаю, – ответил Леша. – День у меня нынче не приемный. Поняла?
– Леша, открой, – сказала Надя. – А то взломаем. Я тебя по-хорошему прошу.
– Иди ты!.. – Леша ответил долгой и замысловатой руганью.
Санитары терпеливо ждали. Ребята они были опытные. Всякого насмотрелись.
– Леша, – сказала Надя. – Открывай. Хватит валять дурака! Открывай, слышишь?..
За дверью, вперемешку с руганью послышался шум, – что-то Леша передвигал поближе к двери, что-то там гремело, падало.
Санитары смотрели на Надю.
– Давайте, – сказала Надя. – Хватит эту волынку тянуть.
Санитары только этого и ждали.
Они вполне профессионально навалились на дверь. Но дверь не поддавалась.
А Леша кричал оттуда, из комнаты:
– Сволочи! Гады! В дурдом захотели спрятать! Не выйдет! Живым все равно не дамся! А тебе, Надька, никогда этого не прощу! Стерва ты последняя! Шкура продажная! Купили тебя, сука! Депутатша!
Санитары достали какой-то железный прут, просунули его в щель.
Надя стояла молча.
Нашло вдруг на нее такое ко всему безразличие. Ломают дверь, и пускай. Кричит он там, за дверью, и ради бога. Пусть кричит. И злость на Лешку пропала.
Дверь рухнула, опрокинув шкаф, который подпирал ее. Санитары ворвались в комнату.
Надя вошла за ними.
Но комната была пуста.
Распахнута балконная дверь. Все в комнате перевернуто. Посуда битая. Оборванная занавеска над балконной дверью висит…
…Леша лежал на асфальте, лицом вниз, неудобно подвернув руку, чуть завалившись на бок. Никого вокруг него не было.
Упал он во двор.
Надя успела заметить, что во дворе женщина снимала белье, простыни с длинной веревки, да так и замерла, с места не сдвинулась.
А простыни в безветрии висели неподвижно, белые, сохнущие, наверно, быстро под таким палящим, слепящим, безжалостным солнцем.
Надя сидела в комнате Леши.
Закат за окном. Света она не зажигала. Шкаф, наверно, санитары к стенке поставили, а так все осталось, как было. Битая посуда в угол сметена.
Сидела Надя ближе к балкону, и была у нее возможность впервые оглядеть эту комнату, но она в окно смотрела.
Вошла соседка. Помолчала в дверях.
– Чаю с нами не выпьете? – спросила она.
– Спасибо, – сказала Надя. – Чаю выпью.
Они пили чай за большим круглым столом – Надя, эта женщина, а звали ее Клава, и четверо ее ребятишек. К чаю было печенье, и варенье то было, в блюдечках.
Ребятишки все уже знали, и чай был невеселый.
– А муж-то где у вас, Клава? – спросила Надя.
– На Севере, в Самотлор подался, – сказала женщина. – Вот, говорит, заработаю, как надо, и вернусь… Уже третий год что-то зарабатывает…
– А деньги-то на ребят шлет? – спросила Надя.
– Временами… – усмехнулась женщина. – Какие там деньги… Ребята без отца растут…
– Адрес у вас его есть? – спросила Надя.
– Ну, есть… – женщина помолчала. – Не надо мне ничего… Вы не обижайтесь… Я понимаю, вы по-хорошему хотели… А Лешки нет… – Она отодвинула чашку. – Все какой, а человек хороший был… Вы уж не обижайтесь… Мы его тут все жалели. Вот. И молодой еще… Ему и сорока не было…
Ребятишки слушали маму сонно, но с интересом, и на эту тетю незнакомую, невеселую, которая ни варенья, ни печенья не брала и даже к чашке чая не притронулась, смотрели во все слипающиеся глаза, но тайна была – это уж точно.
– Жалко вам Лешку? – спросила Надя.
– Чего там – жалко… Эх, Надя…
– Мне – нет, – сказала Надя. – Чем так жить, уж лучше с балкона… Ведь ничего за душой не осталось… Работать не мог, побирался… Лиза его на свои копейки кормила, да он и не ел ничего… А вы – жалели… Ну, что молчите?
– Молодая вы еще, Надя… – сказала Клава. – Горя, слава богу, настоящего не видели… – Клава встала. – Ребята, спать, спать… Засиделись…
Ребята вставали неохотно.
Они вместе с Надей укладывали ребят, две кровати, одна раскладушка, а самая маленькая, Настя, она на диван легла, уже раздвинутый, застеленный – с матерью она спала.
– Вы тут останетесь? – спросила Клава.
– Да, у Леши, – сказала Надя. – Мне только мужу надо позвонить, как он там… У меня у самой дочке три года.
– Правда? – оживилась Клава. – А звать-то как?
– Лена.
– А телефона у нас нет, мы от продовольственного звоним, если что. Но только знайте, у продовольственного телефон не работает. Там трубку оборвали. Вы к аптеке лучше идите, там у них есть свой телефон.
– Если Лиза появится, вы ее никуда не отпускайте, – сказала Надя. – Вы ей не говорите, что я здесь, ладно? Я скоро.
У продовольственного магазина, еще ярко освещенного, толпились люди.
Надя сразу все поняла, потому что общий разговор смолк, и все – а это были ребята из Лешиной команды – смотрели на нее, как она шла к телефонной будке.
Трубка там и в самом деле была оборвана.
А между тем все эти ребята к ней приближались. Нет, не были они пьяные. Выпили свое, вечернее. Да и повод был.
Надя хорошо знала таких ребят: курточки нейлоновые-силоновые, челочки, волосы до плеч, но были и другие ребята, в старых плащах, и никакие не длинноволосые, а кое-как подстриженные, кое-как одетые – вечерние магазинные люди. Околомагазинные.
Надя решила ничего не решать. Как будет, так и будет. Тем более что снова на нее накатила эта волна безразличия ко всему, и ни страха, ничего.
А ребята приблизились вплотную.
– Поминки справляете? – спросила Надя. – Чего ж на улице?
– А негде, – сказал парень в красном шарфе. – Может, к вам пойдем?
– Можно, – сказала Надя. – Это можно.
– Смотри! – усмехнулся товарищ его (а было их человек десять, пятнадцать, двадцать – в темноте не разберешь). – А ты не боишься? Мы тебе Лешку не простим.
– Иди-ка сюда, – сказала Надя. – Ты, кто за «мы» говорит.
– Ну что? – подошел мужик лет сорока, держался он твердо. – Что тебе? Лучше всего мотай отсюда.
– Нет уж, – сказала Надя. – Поминки так поминки.
Она сняла кепку у этого парня, открыла свою сумочку и высыпала, выкинула все, что у нее было. Пустила по кругу. И кепка эта, ржавая, пошла по кругу, из рук в руки, и сыпали в нее, выгребая карманы, все, что было – мелочь, рубли.
– Ребята, – спросила Надя, помахивая оборванным телефонным проводом. – вот интересно, кому эта трубка отдельно от телефона нужна? С марсианами, что ли, разговаривать?
– Только тише, – говорила Надя, входя в квартиру. – Тут маленьких полным-полно. Тише…
И за ней человек двадцать тихо вошли, а некоторые даже разулись для тишины.
В комнате Леши было темно. Единственная лампочка без абажура перегоревшей оказалась.
Сидели на полу, у стен, на кровати – все бутылки и еду какую-то поставили на стол.
– Сейчас, – сказала Надя, – я сейчас.
Она пошла на кухню и вывернула там лампочку, вернулась, поставила шаткий стул, лампочку ввинтила. Теперь комната озарилась, хотя и слабо, но все уже были видны. И тихо было, никто бутылок не касался.
Сидели, стояли.
Надя впервые разглядела лица – не все, не сразу, но как-то общо они все смотрелись. Печаль была.
– Стаканов-то нет… – сказал кто-то.
– Это мы сейчас, – сказала Надя. – Это просто…
…Вошла Надя вместе с Клавой – они принесли капусту, хлеба, колбасы, огурцов и всякой безразмерной посуды – и банки из-под соков, и кефирные чистые бутылки, и стаканы, и рюмки, и две пивные кружки, каким-то непонятным образом оказавшиеся в этой семье без мужика, – все они прихватили. И Клава даже скатерть захватила, с бахромой, белую, с цветами.
– Помянем, – сказала Надя, когда разлили. – Помянем.
Выпили. Помолчали.
– Не верю я тебе, – сказал парень помладше. – Зачем ты сюда нас позвала?
– Брось… – остановил его другой, тот, кто Наде советовал уйти. – Брось. Прекрати.
– А откуда я знаю, она сейчас милицейскую машину подгонит – и привет! – сказал тот, в красном шарфе.
– Пускай подгонит, – сказал кто-то из угла. – Какая разница…
– Ты… – сказала Надя, обращаясь неизвестно к кому. – Ты… Шпана ты, и все. По своим законам людей меришь. Да неохота мне тут с тобой разговоры говорить. Пей уж лучше…
Выпили.
– Может, кто тост скажет? – спросила Надя. – А то я могу.
– Ну, скажи, – сказал кто-то из полутьмы этой. – Скажи, за Лешку.
Надя молча вертела в руке баночку из-под какого-то сока. Ребята ждали, слушали. Пили и без тостов.
– Ребята, вот все вы, я, мы… – сказала Надя. – Есть какая-то идея, ради чего стоит жить? Хорошо, пускай не ради идеи. А тогда – для чего? Потеряли мы что-то все! Мне плевать, когда вообще говорят… В коммунизм из книжек верят средне, мало ли что можно в книжках намолоть… А я верю, что ничего лучше не придумали, и лучше вас, ребята, нет на свете людей! И хуже вас тоже нет… Вот я за это противоречие с вами выпью, хотя все вы – руки кверху! И Лешка струсил!.. И ты на меня не ори! Струсил! Перед жизнью – дешевка! Советские мы все, таких больше на земле нет. То, что он с балкона сиганул, – тоже поступок, я его понимаю, но… Чего вы все суслики перед жизнью!








