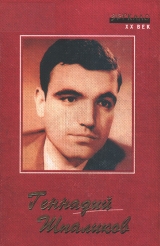
Текст книги "Стихи. Песни. Сценарии. Роман. Рассказы. Наброски. Дневники."
Автор книги: Геннадий Шпаликов
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)
– Уже темно почти, – с сомнением в голосе сказал Леша. – Поточнее бы.
– Я не знаю, сказал Митя. – Поточнее не могу. А у тебя, что, дети плачут?
– Не плачут, – сказал Леша. – Но все-таки…
– Что все-таки?.. – крикнул на него Митя.
– Ничего, – успокоил его Леша. – Все хорошо.
Леша смотрел открыто. Не придраться.
На траву положили белую тряпку. Бутылку вина открыли. По стаканам разлили. Чокнулись. Выпили. Хозяйственный мужик. был Леша.
– Ты ешь… – протянул Мите хлеб с колбасой. – Ешь, закусывай… – Леша выпил и ел теперь с удовольствием.
– Время-то сколько? – спросил жуя.
– Девять без десяти… – сказал Митя, взглянув на часы. – Ты меня не дергай, пожалуйста, сиди спокойно..
– Ладно, – покладисто ответил Леша. – А точно прилетит?
– Ты что, не веришь?
– Почему – верю… – сказал Леша смиренно. – Вон и колодки лежат…
– Лежат, – обиженно сказал Митя.
Помолчали.
– Споем?.. – предложил Митя.
– Я уже говорил… – сказал Леша. – Не умею…
– Жалко, – опечалился Митя.
– Ты сам спой, – предложил Леша. – А я делом займусь. А то совсем ночь…
«Та-а-ам, за рекою-ю-ю, та-а-ам за голубо-о-ою…» – тянул Митя старательно и от старания слегка фальшивил.
Леша выкладывал на траву пакеты, проволоку.
– Помочь? – спросил Митя, на мгновение прервал пение.
– Не надо, – сказал Леша. – Пой…
«Мо-о-жет, за Окою-ою, дере-е-рево рябо-о-ое…» —
тянул Митя, поглядывая украдкой на небо, а Леша, не торопясь, обходил поле, ставил свои механизмы, тянул проволоку между ними, и гипсовая его рука белела то там, то тут на темном фоне леса.
Стемнело. В небе сверкнул серн молодого месяца, а на поляне белели два пятнышка – Митин плащ да Лешин гипс. Туман ушел. Тихо было, и только опять далеко кукушка куковала.
– Спел? – спросил Леша мрачно.
– Спел.
– Значит, прилетит?
– Прилетит. Колодки видел?
– Видел. Еще спой.
– Хватит, – сказал Митя. – Я уже кончил.
– И я кончил, – сказал Леша еще мрачнее, а Митя не ответил.
– Слушай, – сказал Леша мягко, тактику переменил. – Ну, посидели, выпили, песню спели. Все хорошо, да?
– Хорошо, – согласился Митя без энтузиазма.
– До утра здесь, конечно, просидеть можно, но холодно…
– Тебе чего? – напрямик спросил Митя.
– Ничего, – сказал Леша устало. – Давай я для тебя фейерверк шарахну. Я шарахну для тебя, и домой поедем. Фигурный. С россыпью. А?
– Никуда я не поеду.
– Будешь ждать?
– Буду, – ответил Митя твердо. – Колодки видел?
– Видел, – сказал Леша стальным голосом. – Я уже все видел, Митя. II всему есть предел. Ты играй, но не заигрывайся. Я тут один зритель. Остальное – неживая природа…
– А ты, Леша, пошляк. Такое встречается. Редко, но бывает.
– Все? – спросил Леша.
– Все, – сказал Митя.
– Ладушки, – сказал Леша, решительно повернулся и пошел в центр поля.
– Ты куда? – Митя вскочил.
– Не напрасно мы старались! Ох, старались! – шептал Леша сам себе горестно, на Митю не оборачиваясь. – Не напрасно вы смеялись! Ах, смеялись.
– Леша! – опять крикнул Митя, но Леша, так и не обернувшись, ловко дернул провод, зацепил что-то ногой… Раздался взрыв, и Леша исчез в дыму.
А над поляной в темное небо взлетели огненные шары, – возгорались на лету и расплывались – красные, голубые, лиловые, оранжевые – причудливыми цветами. Гремели петарды. Грандиозный фейерверк рассыпался искрами. Все в нем было безукоризненно. Ритм, цвет, внезапность номеров. Все волшебно.
Когда дым на поляне рассеялся, Митя увидел Лешу. Он стоял там же и черного лица не вытирал.
– Прилетит, значит? – опять спросил он.
– Прилетит, – ответил Митя.
– Ждать будешь?
– Буду.
– Ладно, – сказал Леша. – Я тогда пошел. – Повернулся и пошел. Митя глядел вслед.
– Леша! – крикнул он. – Велосипед возьми. Я думаю, одной рукой управишься.
– А я думаю – погорячился доктор! – крикнул ему Леша. – Зря тебя отпустил!..
Он не оборачиваясь шел через деревья – прямой, независимый. Рука крылом белела.
Митя остался на поляне один… Дым рассеивался долго еще.
Ночь текла неторопливо. Митя блуждал перелеском, собирал сучья. Поджег костер. Костер горел ярко, стрелял. Митя сидел рядом. Ждал.
Так ждал он час, и еще час, и еще. Рассвет занимался. Костер потух давно, и слабый дымок поднимался в блеклое небо. Ветер нес облака.
…Отсюда – с бесшумного ее лета – рассвет ощущался тоже. Быть может, острее даже, чем там, на земле. Проплывали зеленые острова, и море тянулось долго – зеленое тоже, ах, нет, – синее, голубое, с белым, – все тихо было, и шум моторов до слуха ее не долетал. Потом пошли бесконечные поля – опять зеленые, потом золотые, – и смутные окна озер голубели средь них, и реки – синими венами, нет, деревами, расщепляясь в вершинах, – растекались по летней земле.
Она снизилась – тогда различимы стали одинокие домики вдоль бесконечных дорог и листва нечастых деревьев и некошеные луга в бедных цветах – Россия. Некоторые из цветов узнавала она отсюда, сверху, с лета: горяще-синие – васильки, белые, с едва различимыми желтыми отметинами, – ромашки, это помнила.
Река, и лес, и поляна плыли навстречу, приближаясь, и Наташа увидела его отсюда сразу – сидит, головы не поднимая, плащ его белый, знакомый, велосипед в траве – спицы поблескивают – сверху на очки похож, и пятно от костра – темное, и поляна вся в бурых каких-то пятнах, будто в подпалинах…
…Она спланировала неслышно, привычно, отчетливо услыхала толчок колес о землю, о траву. Ее шелест – в стороны, от винта – скорость погасила. Он бежал навстречу, руками махал, – вот смешной, господи, чего орет впустую. Фонарь закрыт… Фонарь звякнул, руками опереться на плоскость, скользнуть неслышно, – вот земля твердая, трава, он рядом, все обошлось опять…
– Ты костер жег?
– Жег.
– Я сверху увидела. Ночью жег?
– Ночью.
– Ждал, что ли?
– Да.
На земле ее качало слегка. Так всегда было. Этому она не удивлялась. Митя же ее удивил слегка. То ли не спал он, то ли неизвестно что – темно, странно.
– Ты говорила – спать будешь. Целый день…
– Мало ли чего я говорю… – ответила она беззлобно. – А ты и уши развесил… Слушай, что ты мне голову морочишь?.. Тебе лет сколько?..
– Мне?.. – не сразу сообразил Митя. – Ах, да… Смешно… Семнадцать…
– Врешь, – сказала она безнадежно и махнула рукой. – Ох, сколько же ты врешь… Я у Знахарчука спрашивала…
– Ну и что? – спросил Митя.
– Ничего. Если шестнадцать есть, говорит, то это ничего уже. А может, и это врешь… Врешь?
– Нет.
– Попробуем поверить, – сказала она и засмеялась. – Посидим?
– Ага, – сказал Митя, снял плащ и постелил, оставшись в пиджаке.
Сели.
– У тебя время есть? – спросил Митя.
– Нет, – сказала Наташа. – У меня вообще времени мало… Ты чего сопишь? – спросила она, а он и вправду сопел, – но ответа его не услышала, он приблизился к ней, неожиданно и молча повалил на плащ, на траву, – задыхался. – Ты что, дурной? – вскрикнула и смеялась, отталкивала его, но оттолкнуть не удалось, и смеха не было уже. Митя крепко держал. – Ты спятил, – кричала и царапалась, и драться пыталась, но Митя был ловок – она и сообразить не успела, как лежала на траве, связанная по рукам и ногам, спеленутая, не лежала – билась, но траве каталась, кричала: – Вот, балбес, дурила, пацан…
Но Митя не вслушивался.
– Вот так, – говорил, – вот так, – назад не оглядывался, шел к самолету, на крыло впрыгнул, в кабину, фонарь не закрыл, щелкнул тумблером…
Поначалу все получилось само по себе. Ожила приборная доска – стрелки задрожали, лампы зажглись, ручка управления плотно легла в ладонь, слегка вздрагивая, в ожидании будто.
– Вот так, – опять сказал Митя. Деревья в конце поляны стремительно понеслись на него, – ручку на себя, плавно – теперь только небо впереди…
…Он сделал круг над поляной и видел траву и деревья – такие родные, привычные, и она, связанная, спеленутая, каталась по поляне – изгибаясь, крутясь, и ветер от винта гнал траву, и вершины деревьев качал. Он отвернулся, и самолет ушел вверх, в сторону – неслись поля, и реки, и дороги – Россия, – и озера синели тускло, – рядом совсем. Он увидел ясно: облачко возникло и разорвалось, но звука разрыва не услышал, облачко такое же белое, пушистое, справа возникло, машину качнуло, Митя вцепился в ручку, отчаянно тянул на себя, взмок, лоб блестел, и синяя жилка на лбу вздулась – вот-вот лопнет, – машина падала. Он глянул вниз, полоска суши перед морем была малой, изрезана окопами и изрыта воронками, и ребят было только несколько, все в тельняшках, а один махал ему руками, потом тельняшку сорвал и тельняшкой махал, – дальше Митя не видел: горячий пот заливал глаза, – не видел, почувствовал: машина пошла вверх, резко, свечой, – тогда в ветровом стекле, переднем, он заметил несколько дырок, – плексиглас расщепился, дробился, потом что-то алое растеклось перед глазами. «Вот, – сообразил Митя, – оттого что жарко и с непривычки», – боли он не ощутил – только жар адский, раскаляющий все тело, – и огня не заметил сразу, чувствовал, но не видел, хотя горел уже весь: и машина, и крылья, пиджак его крапчатый – факелом, не красным, не оранжевым – слепяще белым, кожа лопалась и горела, – слипшиеся волосы пылали. Потом ничего не было – только оплывшая белизна…
…Из белизны этой мертвой очень медленно, будто в тихом сне, выплыли: река, и дальний лес, и кусты, в реке замокшие. Баржа плыла неторопливо. День был сереньким – облака негустые, неплотные шли чередой, лениво. Митя сидел на большом руле баржи боком, свесив над водой ноги. Катя – рядом. Туфли сняла. Рябь по воде. Ветер. То ли дождь собирается. То ли только что прошел. День стоял смутный – то синий, то серый. Обыкновенный день.
– Вот так, Катя… – сказал Митя, перед собой глядя. – Вот так…
– Я понимаю, – сказала Катя негромко и головы не повернула.
– Хорошо, – сказал Митя.
Катя ногой качала. Вода плескалась у руля негромко – журчала.
– Я все думал и вспомнить не мог… – сказал Митя, голову к дочери повернув, – на кого она похожа… Сейчас вспомнил… На тебя…
– Хорошо, – сказала Катя.
Баржа – к чему непонятно – вдруг свистнула трижды, и опять стало тихо.
– Вода, Катя… – сказал Митя.
– Вода, – подтвердила Катя.
– И трава… – кивнул на зеленые берега.
– И трава, – повторила Катя.
– Вон, смотри, собака бежит…
– И собака.
– Все с нами?
– Все при нас.
– Может, список составим? – предложил Митя.
– Давай.
– Значит так: вода, трава, собака…
– Облако… – подсказывала Катя.
– Облако.
– Баржа…
– Баржа. Ты… – сказал Митя.
– И ты, – сказала Катя.
– Хорошо, – сказал Митя.
– Там рыба есть… – вспомнила Катя и махнула на реку головой. Волосы ее спутались, переплелись, и она отодвинула их с глаз рукой.
– Где?
– В реке.
– Есть. И рыб возьмем. Пиши.
– Нечем, – сказала Катя. – Я так запомню…
– А «Синдром» возьмем? – с сомнением спросил Митя.
– Возьмем, – сказала Катя. – Он ничего. Занятный.
– Занятный, – сказал Митя.
– И бабку, – сказала Катя.
– И бабку, – подтвердил Митя.
– И мать…
– И мать.
– Лампадова тоже придется… – огорчилась Катя.
– Что делать. И Лампадова…
– И Матильду? – поразилась Катя.
– И Матильду, будь она проклята…
А баржа плыла среди белого дня. и они на руле сидели, свесив ноги. Вокруг все было так, как они говорили. Собака бежала, шли облака, и, невидимая, ходила в реке рыба.
– Мы живы, – сказал Митя.
– Живы.
– Светло и весело…
– Светло и весело.
– Как в первый день творенья?
– Да. Как в первый день.
Пятнистая корова стояла в воде, лениво жуя, на них глядела, морду за баржей поворачивая. Долго…
…Потом причал возник. Тоже медленно появился. Доски поблескивали, высокие сваи в иле и будка зеленая. На причале стояли: его жена Светлана – блузка белая, жакет черный – костюм, серьезности случая соответствующий, ее мать – общая бабка – прикатилась в креслах на колесиках, и Серафим Лампадов – гордый старик, конечно же, был рядом – это ясно – до гробовой доски, а дальше друг его задушевный Леша – рука крылом, отдельно, на отшибе, – и грозная сука Матильда, будь она трижды проклята, слонялась тут же, лаяла при его приближении, будто радуясь, лаяла и скулила – придуривалась, наверное, как всегда, черт ее знает.
Мягко ткнулась в причал баржа, Митя на мостки сошел первым, Кате руку протянул.
– Вот так, – опять почему-то сказал он и переступил с ноги на ногу.
– Здравствуй, – сказала Светлана.
– Здравствуй, – приветливо ответил он и тут же вспомнил: – А велосипед?
– Ах! – сказала Катя, и матрос, он же капитан, протянул ей велосипед – он на мокром песке валялся, на единственном и постоянном грузе этой баржи.
– А ты осунулся, Димитрий… – заметила бабка, и голос ее дрогнул.
– Это ничего, – сказал Митя.
– Это ничего, – подтвердил Леша.
– Пойдем помаленьку? – предложил Лампадов. Он был неизменно элегантен – трость с набалдашником, мантель габардиновый, «бабочка» – на синем маленький горошек, шляпа в руке.
Развернули кресло. Митя заботливо катил его по песку, в паре с Лампадовым. Катя велосипед вела – проржавевшие втулки скрипели, – Леша шел с ней рядом, говорил ей что-то весело, Катя откидывалась, хохотала, отвечала, длинными руками в воздухе мельтеша. Проселок был пуст, и Матильда прокладывала путь их неторопливому шествию, шкодливо снуя от обочины к обочине. Капнул было дождик, но не пошел, раздумал почему-то. Где-то птицы пели – последние.
Они уходили по дороге – и баржа, и река, и ноле оставались за спинами, позади, в прошлом уже, – они шли по дороге и разговаривали друг с другом приветливо. – Дождь все раздумывал, идти ему или нет. Мите же вдруг опять почудилась та песня, слабая совсем, опять голос этот некрепкий – он вспомнил и слова. Вы помните, наверное. В песне было так:
Там, за рекою.
Там за голубою,
Может, за Окою —
Дерево рябое…
И потом – другие слова. А заканчивалась опять:
Дерево рябое
На том берегу.
ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ [23]23
Фильм «Долгая счастливая жизнь» – единственная режиссерская работа Г. Шпаликова (оператор Д. Месхиев, композитор В. Овчинников, в главных ролях Инна Гулая и Кирилл Лавров. «Ленфильм», 1966 г.).
[Закрыть]
1
Сквозь осенний лес, который для каждого имеет свою привлекательность, светило вечернее солнце. Свет его, проходя между облетающими деревьями, был ясен и чист. Он уже как бы снизу озарял стволы и ветви, и мягко вспыхивали под его лучами верхушки деревьев, светились листья, застывшие в неподвижности. Ото всего уже неуловимо веяло ноябрем, хотя до снега было еще далеко, но воздух к вечеру холодел и был свеж, как перед снегом. Уже во многих приметах проступало нетерпение зимы.
Непосредственно к лесу примыкало большое строительство; его широкая панорама темнела на фоне заката прямоугольниками корпусов, силуэтами кранов, без которых немыслим пейзаж молодого города; краны разнообразно и на разной высоте высились над домами. Вечерний свет, проходя сквозь корпуса, заставлял ярко сверкать стеклянные проемы.
От строительства по направлению к лесу неорганизованно, растянувшись в длинную цепочку, шли молодые люди. Так они и вступили в лес. С первых же минут их появления, да и, пожалуй, с первых кадров нашей истории будет слышна мелодия; ее наигрывал кто-то из идущих молодых людей на гитаре, а кто-то другой помогал ему на аккордеоне, но не особенно помогал – гитара все-таки преобладала. А играли они старую песню «Отвори потихоньку калитку», спокойствие и простота которой сочетались со спокойствием осеннего заката, неторопливым проходом через лес, когда и шагов почти не слышно – их заглушали облетевшие листья.
Лес кончился. Прервался ненадолго, пропустив через себя шоссе. Шоссе в этом месте возвышалось над лесом, находясь почти на уровне верхушек деревьев, и, чтобы подняться на него к автобусу, ожидавшему молодых людей, им пришлось взбираться вверх, держась за кусты и помогая друг другу.
Во время этого подъема все они исчезали на короткое время, чтобы появиться внезапно на шоссе перед автобусом, возникнуть четкими темными фигурками на фоне неба, когда даже гитара, поднятая кем-то над головой, будет иметь свой контур. Вот он уже есть, контур гитары, чей-то силуэт – и еще один. Собрав в себя всех молодых людей, появившихся с разных сторон шоссе, автобус рванул с места и помчался, освещенный последними солнечными лучами, равно как и верхушки окружавших автобус деревьев. Затем дорога пошла под уклон и освещение сделаюсь обыкновенным.
Это было в субботу, в пятом часу. Двадцать два молодых человека (в их числе были и девушки) отправились на этом автобусе в город Н.
Город Н. был похож на все молодые города, возникшие в Сибири, и представлял из себя тот притягательный культурный центр, в который устремлялись в праздничные и выходные дни молодые люди со всех строек, расположенных от него и в ста и более километрах.
Стройка и поселок, откуда в пятом часу отошел автобус, находились в ста двадцати километрах от города, и, следовательно, предстояло три часа дороги. Но это не пугаю пассажиров автобуса, одетых празднично, чисто выбритых. А девушки, сидевшие с ними, были одеты столь же нарядно, и в их настроении была приподнятость и оживление, свойственные праздникам и отъездам. Автобус у них был свой, от строительства; в нем можно было, не стесняясь присутствия посторонних, петь всю дорогу, смеяться по такому поводу, который человеку случайному, не их круга, мог бы показаться странным, а также пересаживаться с места на место, разговаривать с водителем, курить, а если понадобится, и остановить автобус у какой-нибудь березовой рощи, белеющей в темноте стволами, или невдалеке от озера, на берегу которого горит костер, сладко дымя и заставляя всех запеть, не сговариваясь: «Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету…»
И эту спели.
И еще многие, из разных лет, в том числе из военных, хотя в автобусе ехали люди очень молодые, не воевавшие, а многие еще и не служившие в армии или во флоте, но пели они, как ветераны.
Девушка, которая займет в этой истории основное число страниц, сидела спиной в сторону движения и пела всю дорогу. Слух у нее был неважный, но зато голос вполне громкий, и желание петь преобладало над музыкальными способностями, равно как и чувство, с которым она пела.
На ней был берет, – челка белая из-под него, и еще плащ.
Этой легкостью одежды она выделялась среди своих товарищей, а больше ничем. Ее звали Лена.
Уже стемнело, и водитель зажег фары.
Заяц перебежал шоссе, вызвав своим появлением восторг и крики.
И внезапно свет фар своими параллельно идущими лучами выхватил из темноты чемодан и сумку, поставленные точно на середине шоссе.
Водитель вынужден был затормозить перед этими предметами, возникшими неизвестно откуда. Но тайна их появления тут же раскрылась самым обыкновенным образом: из-за дерева вышел человек и направился к автобусу.
– Здравствуй, – сказал он водителю, приоткрывшему дверь. – Подвезешь?
– Как компания захочет, – шофер кивнул назад.
– Я человек компанейский. У меня и выпить есть.
– Хватайте его, а то убежит! – крикнул кто-то.
– Вы решайте, а то я и передумать могу, – сказал человек. – Тут автобусов много ходит.
И вот уже он протягивал в автобус чемодан, сумку и сам вошел в него, присев рядом с Леной у самой двери.
Автобус тронулся.
Парень в накинутом на плечи пальто, из-под которого виднелись «молнии» и курточка, заиграл на гитаре ка-кую-то песню, а остальные разглядывали беззастенчиво нового пассажира. Он сидел, обратившись лицом ко всем, кроме Лены.
Разглядывание его нисколько не смущало. Он в свою очередь спокойно смотрел на всех, а потом сказал:
– А выпить у меня, ребята, нечего. Могу чемодан открыть. Я сам три месяца вообще ничего не пил. Но кто хочет, в городе может выпить.
Лицо у него было молодое, но усталое, небритое. Он казался старше своих лет, и говорил он уверенно.
– А кто ты такой? Откуда ты тут появился? – спросила его Лена перед всеми. Спросила весело.
– Я? – Он посмотрел сбоку на нее, ответил ей, а не всем: – Иностранный разведчик. Разве не похож?
– Под геолога работаешь?
– Да. Молодой специалист. Отстал от партии. Не ел пять дней, тонул, горел, но бодрости не терял. Корешками питался, песни советских композиторов пел: «Держись, геолог, крепись, геолог, ты солнцу и ветру брат».
– Смотри, и песни знает!
– Пришлось выучить: приметы времени.
– А эту знаешь? – спросила она и громко запела:
На закате ходит парень
Возле дома моего,
Поморгает мне глазами
И не скажет ничего.
– «И кто его знает, чего он моргает, – тотчас подхватил парень. – Чего он моргает, на что намекает…»
Голос у него оказался точно таким же, как у Лены. Пел он громко, а слуха не было, и Лена, не прекращая петь, в знак солидарности пожала ему руку, после чего они уже всем автобусом допели до конца эту песню, и она получилась и, как это бывает иногда с широкими песнями, вовлекла поющих в свое единственное настроение, и люди охотно поддавались этому настроению, принимали его, захваченные мелодией и словами, так складно и просто соединенными в понятный для всех смысл.
А вчера прислал по почте
Два загадочных письма:
В каждой строчке только точки,
Догадайся, мол, сама.
И кто его знает,
На что намекает.
Я разгадывать не стала
Не надейся и не жди.
Только сердце почему-то
Сладко таяло в груди.
И кто его знает….
Лена и парень, сидевший рядом с ней, пели с одинаковым старанием, воодушевляясь все более к концу песни.
Этот случайный здесь человек, начавший петь несерьезно, как бы продолжая диалог с Леной, оказался тоже захваченным песней и еще чем-то, что возникаю на это короткое время между ним и незнакомой девушкой, и хотя, может быть, ничего между ними и не возникло, но ему показалось что-то, чему соответствовал припев.
А кто его знает, как это получается? Кто знает, каким образом люди находят друг друга? Кто знает, с чего начинается привязанность, влечение, необходимость именно в этом человеке, а не в другом?
Все эти обыкновенные мысли ни на секунду не появились у Лены и ее соседа, но в самой песне и в том, как они ее пели, были и совершенно определенно присутствовали размышления этого круга.
На повороте на темном мокром шоссе автобус занесло и развернуло поперек. Шофер затормозил. Пассажиров силой инерции бросило вперед и влево, но все обошлось вполне. И могу добавить: эта загадочная, но уже объясненная наукой сила инерции помогла как-то сблизиться тем, кто сидел по разным углам автобуса, не решаясь сесть рядом. Однако переполох прошел. Автобус поехал.
Лена, как и всякая девушка в минуту опасности, искала опору и защиту. Такой защитой и опорой оказался сидевший рядом незнакомый парень. Им мог быть и другой, но сидел он, и Лена прижалась к нему.
Между тем автобус уже ехал, уже потянулись за окнами еле видимые во тьме деревья, обозначенные лишь переходом от полного мрака к просветлению на вершинах, где листья реже, ветки короче, где начинается свободное пространство вечернего ясного неба. Уже играла гитара, но пока никто не пел, не было и разговоров. По шоссе невысоко стоял туман. Лена все еще держала голову около этого незнакомого парня, рукой касалась его плеча.
– «Ночевала тучка золотая на груди утеса великана», – негромко сказал парень, улыбнулся и дунул сверху на затылок Лены.
Светлые волосы ее легко приподнялись.
– Ничего себе тучка. – Лена села прямо.
– Главное, в субботу глупо разбиваться. В понедельник другое дело, – сказал незнакомый парень.
– Ужасно я всего этого боюсь, – сказала худенькая девочка в глубине автобуса. – Мне нагадали, что я умру не своей смертью и в тридцать пять лет.
– Кто же тебе это нагадал? – спросил ее сосед, обнимая.
– Цыганка, за рубль. По линиям ладони, – сказала девочка, и в автобусе засмеялись.
Лена и незнакомый парень молчали. Потом Лена сказала, обращаясь к нему:
– А я боялась воды. И очень долго. Я с родителями до пятнадцати лет жила в степи, под Карагандой…
…На экране возникает не степь. Обычный среднерусский пейзаж. Серый летний день; река, отмель; невдалеке лес.
– А на каникулы меня позвал дядя к себе, под Воронеж, – продолжает голос Лены, – там замечательные места. А как же река называлась? Небольшая речка, но глубокая.
– Нил, – отвечает голос незнакомого парня.
– В воскресенье меня позвали ребята кататься на лодке, – продолжает голос Лены. – Плавать я не умела совсем. Я так им и сказала.
…Теперь на реке – лодка. В лодке – подростки. Все аккуратно одетые, в светлых воскресных рубашках. Парень играет на гармошке. Лена сидит между двумя ребятами, обмахиваясь веточкой. Лицо у нее счастливое, безмятежное. Все ноют, и получается даже стройно: «В рубашке нарядной к своей ненаглядной пришел повидаться хороший дружок, вчера говорила, навек полюбила, а нынче не вышла в назначенный срок…»
…Лена увлечена пением, рекой, лодкой и не замечает, что у ребят есть какая-то договоренность, план.
И они осуществляют его: на самой середине этой неширокой, спокойной речки Лену сталкивают в воду. В чем сидела – в том и летит. В платье, в тапочках. На корме приготовился парень в трусах: спасать, если что. Лена появляется тотчас, неистово бьет руками по воде – и странно! – держится на ней, не тонет. Ребята подбадривают ее криками, но Лена не обращает на них никакого внимания. Лицо у нее напряженное, злое. Погрузившись еще раз с головой и вынырнув снова, она направляется не к лодке – до нее можно дотянуться рукой, а к берегу – берег метрах в десяти. Она плывет! Колотит руками и ногами, старается, высоко задирает подбородок – и все-таки воды она наглоталась – и наконец чувствует ногами дно и выходит на берег. Платье облепило ее плотно, вода стекает с прямых длинных волос, лицо гневное, губы дрожат от обиды. А на лодке – восторженные крики, машут руками, приветствуют ее, рады за нее. Лена снимает тапочку и неловко швыряет ее в лодку. Не долетев, тапочка тонет. Лена поворачивается и уходит прочь по отмели. Утонувшая было тапочка спасена, парень машет ею над водой. Лену зовут. Но она уходит. Лицо ее сохраняет выражение обиды, слезы беспомощно текут по щекам, хотя тут попробуй разберись – где слезы, а где вода!
…И сразу же – озаренное (слова этого не боюсь!) нежностью к тому, что тогда было, что вспомнилось сейчас, счастливое лицо Лены в автобусе. Она молчит, задумавшись, и молчит незнакомый парень, ее сосед.
Он как бы увидел все, что увидели мы, – девочку на реке, ее угловатость, обиду, которая теперь – счастье, тапочку, летящую над водой, гореть песка, слезы на лице, лето…
И у него вдруг появилась необходимость, потребность рассказать этой девушке, которую он видел в первый и, возможно, в последний раз, что-то о себе, какой-нибудь случай, происшествие. К этому располагали дорога, тьма за окнами, гитара в глубине автобуса, сама недавняя рассказчица, сидящая рядом. Н рассказать хотелось не пустяк, не веселую глупость – анекдот, а другое, личное, о чем не со всяким заговоришь, не вспомнишь, понимая, что не всем интересно слушать то, о чем тебе вздумалось вспоминать.
– А у меня такой случай был, – сказал сосед Лены. – Я в сорок шестом году в ремесленном учился. Тебе интересно?
– Давай! – сказала Лена, и он поверил сразу, что ей интересно.
…И теперь уже Лена как бы увидала подростков и замасленных ватниках, в тяжелых ботинках, в шапках и кепках во дворе ремесленного училища, посреди которого высилось деревянное сооружение гимнастического городка: мост, бум, брусья и канат, завязанный на конце толстым узлом, потрепанный, расчлененный – нитки висят. На канате раскачивались до страшного скрипа железных креплений, на шест лезли, достигая вершины, и, скользя вниз, обжигали ладони; по буму расхаживали, сталкивали с него. День был переход от марта к апрелю – прекрасный день. Все мокрое, весеннее, во всем сверкание и особый блеск. Трава уже высохла местами. Прелесть воздуха, шум в голове, облака. Хорошо стоять у теплой кирпичной стены, спиной к ней, без шапки, лицом к солнцу и наблюдать, как оно разноцветно вспыхивает сквозь приподнятые на мгновение ресницы. Много весною хороших занятий.
– Я поспорил с ребятами, что пройду от ремесленного до нашего дома, ни разу не коснувшись земли, – говорит голос Виктора.
– Как же так – не коснувшись? – спрашивает Лена.
– Был план.
– А на что поспорил?
– Да ни на что.
…И вот один из подростков сбрасывает ватник; передает его товарищу. Гимнастерку заправляет в брюки. Мы не видим близко его лица. Он довольно высок, подтянут. Рукава гимнастерки коротковаты ему, и брюки можно бы чуть подлиннее. Он из всего уже вырос. Ботинки у него тяжелые, большие, солдатского образца.
С бума начинается эта панорама, с бума. Он проходит его легко, задумчиво и никуда не торопясь. Руки его свободно опущены, взгляд сосредоточен.
Толпа подростков (человек пятнадцать) сопровождает его по земле, с которой он так необдуманно простился. Подростки возбуждены предстоящим зрелищем, в благополучный исход которого они верят, кажется, не очень.
С бума – на бочку! – прокатившись через каменный двор с грохотом, и на забор, высокий, чуть наклонный; он идет по нему с той же легкостью и видимой небрежностью, которая и есть настоящее мастерство; затем кирпичная ограда – это просто! прыжок с нее на крышу сарая, прогулка по ней – доски скрипят под ногами; теперь пожарная лестница – замешательство, до нее от крыши сарая метра четыре – не допрыгнуть, да и падать высоко. Но пусть удача сопутствует храбрым! – он находит на крыше шест, пробует его – шест надежен, крепок. Упершись шестом в землю, он перелетает к пожарной лестнице и – вверх, на крышу, по крыше между трубами – теперь жесть гремит у него под ногами, а в желобах на крыше лежат закинутые сюда давным-давно теннисные и другие мячики, потерянные, казалось бы, навсегда, и он бросает мячи вниз, в руки сопровождавших его внизу ребят – радость необычайная! – а он между тем спускается с крыши по дереву, оголенные ветки которого рядом с карнизом; затем опять крыши склада, прыжки с одной на другую, переход по гнущейся под ногами доске, прыжок на покатую, ребристую крышу гаража, отсюда рукой дотянуться до карниза второго этажа еще три шага, прижавшись плотно к стене; приоткрыв окно, свое окно, он исчезает в темноте комнаты – победа.
…Лена: захвачена рассказом. И у незнакомого парня лицо тоже счастливое и – странное дело – усталое, как будто он только что преодолел все эти крыши, ограды и деревья.
И еще одна странность: ему вдруг показалось, что он бежал, катил на бочке, взлетал на шесте только для этой девушки, сидевшей рядом, – больше ни для кого.
Но он тут же усмехнулся этой мысли и забыл о ней.
2
А между тем автобус въехал в город.
Этот город сплошь состоял из новых домов, которые если не радовали разнообразием архитектурных решений, то, уж во всяком случае, делали город городом, где есть улицы, рекламы на фасадах, витрины, надписи над крышами и окна, значение которых огромно, когда они светятся.
Вообразите еще и улицу, вечернюю толпу, молодые лица, голоса, треск льда на подмерзших лужах.
Автобус остановился у входа в городской драматический театр. Судя по всему, сегодня был полный аншлаг: толпы страждущих осаждали театральный подъезд, над которым в полном несоответствии с архитектурой того здания висели три старинных фонаря.








