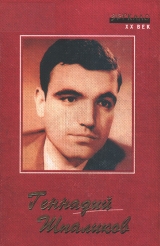
Текст книги "Стихи. Песни. Сценарии. Роман. Рассказы. Наброски. Дневники."
Автор книги: Геннадий Шпаликов
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
Они достают из развалин снарядные гильзы и аккуратно складывают на мостовую, около своих тачек. Один разыскивает гильзы, другой очищает их тряпкой и складывает рядком.
Игорь подходит к долговязому парню, у которого больше всех гильз. Минуту смотрит, как тот очищает от пыли очередную гильзу.
– Здорово, Кот, – говорит Игорь.
– Ну, здорово, – нехотя отзывается парень.
А Женька молча достает из кармана длинную тонкую трубочку серого цвета.
– Меняемся? – предлагает он. – Один запал – три гильзы.
– Нет, – говорит парень.
– Пожалеешь, Кот, – творит Игорь. – Запал настоящий.
– Ну ладно. – Парень встает. – Пошли посмотрим.
Они поднимаются в развалины. Ребята останавливают поиски и собираются вокруг Игоря.
– Отойдите к стенам, – Игорь возится с запалом. – А то стукнет кого, а потом отвечай.
Ребята прижимаются в стенам: это, видимо, была комната, но сейчас здесь даже нет потолка, да и в стенах не хватает кирпичей и вместо одной из них – свободное пространство.
Игорь стоит в центре. Вот он поджигает запал и тут же приседает.
Огненная трубка, стремительно вращаясь, носится между стен, едва не задевая ребят. Но никто не боится ее, напротив – в глазах у долговязого такое восхищение и восторг, что уже ясно: обмен гильз на запалы, можно сказать, состоялся.
Только по напряженному лицу Женьки было заметно, что такое зрелище он видел не часто.
И вот, нагрузив полную тачку снарядных гильз, Женька и Игорь весело покатили ее по улице.
Покатили мимо стройки.
Над оврагом, вдоль склона которого были вырыты окопы, теперь наполненные водой, но которым, как по каналам, плавали на корытах и в бочках ребята.
Так они катили свою тачку до тех пор, пока не остановились перед большим сараем, над которым была прибита вывеска: «Прием металлолома».
Чего сюда только не приносили!
Кроме снарядных гильз на земле лежали гусеницы от танка, каски, часть обгорелого дюралевого крыла со свастикой, заключенной в круг, железная конструкция баскетбольных ворот (кому сейчас играть в баскетбол!), мотки колючей проволоки, пробитые пулями солдатские котелки, мятые немецкие ранцы из-под воды и прочее и прочее. Все это было свалено перед сараем, все это принималось, и за это платили какие-то деньги.
Перед Женькой и Игорем стоял пожилой человек интеллигентного вида. В руках у него ничего не было.
– Так что у вас? – обратился к нему принимающий, усталый дядька с медалью.
– Да вот, посмотрите, пожалуйста, – и человек показал на крыло самолета.
– Как же это вы его дотащили? – дядька даже присвистнул от удивления.
– Волоком, – ответил человек, – волоком.
Дядька кидал в сарай Женькины с Игорем гильзы.
Там уже была целая гора. Гильзы падали, звенели, Женька считал, шевеля губами.
Потом дядька отсчитал ребятам деньги, и они убежали.
А день продолжался.
– Двадцать рублей, – еще раз пересчитал деньги Игорь. – Ну, что будем делать? Пошли на рынок.
– Если купить жмыху, еще и на кино хватит, – сказал Женька.
– Пошли на рынок.
Рынок сорок пятого года был не очень похож на рынки шестьдесят второго.
Здесь кроме продуктов часто продавались очень странные вещи, никому не нужные, нелепые.
Женька и Игорь остановились перед толстой женщиной.
Перед ней на деревянном прилавке были разложены петушки на палочках. Красные полупрозрачные петушки, сквозь которые виднелось окончание палочек.
– Почем? – спросил Женька.
Тетка даже не посмотрела на него.
– Эй, проснись! – потребовал Игорь.
– Чего? – наконец обратила она внимание на ребят.
– Я спрашиваю, почем петушки, – повторил Игорь.
– Два рубля за штуку.
– Что-то дорого, – сказал Игорь.
– Проваливай-проваливай. – Тетка смотрела уже в другую сторону.
Ребята шли мимо длинного ряда, на котором были выставлены пустые аквариумы, какие-то глиняные кувшины, старые пиджаки, велосипеды, вазы, картины в рамах, кофты, резиновые охотничьи сапоги огромного размера, птицы в клетке.
Перед птицами они остановились.
– Почем дрозд? – спросил Игорь.
– Какой же это дрозд, – продавец был немногим старше ребят, но тем не менее был исполнен важности.
– А кто? – спросил Женька.
– Я и сам точно не знаю, – вдруг улыбнулся продавец. – Случайно от соседки остался.
– А ты его зажарь, – посоветовал Игорь.
– Что? – не понял парень.
– Глиной обмажь и зажарь, – пояснил Игорь.
– Валяй отсюда, – дружелюбно сказал парень.
Тут же, прямо на воздухе, женщина жарила на большой сковородке пирожки.
– С чем? – спросил Женька, глядя, как она ловко переворачивает пирожки и складывает готовые на тарелку, накрывая их чистым полотенцем.
– С картошкой, – сказала женщина.
– Не мерзлая картошка-то? – деловито осведомился Игорь.
– Да нет.
– А почем?
– Три рубля. – Женщина разогнулась. – Хватай, пока горячие.
– Нам по два, – Женька даже показал на пальцах.
Игорь протянул деньги, они взяли пирожки и пошли.
Один пирожок Женька завернул в платок.
– Ты чего? – Игорь уже заглатывал второй.
– Да Ленке отнесу.
– А-а…
День был еще весь впереди.
Пройдя немного, Женька и Игорь остановились на пустыре. Рядом с ними работали пленные немецкие солдаты. Они врывали столбы в землю, натягивали колючую проволоку. За проволокой не было еще ни бараков, ни построений: сначала пленные должны были окружить себя двумя рядами проволоки, а потом уже, будучи заключенными, строить себе жилье.
Женька и Игорь подошли поближе. Пленных охраняли двое автоматчиков, по относились они к своему делу довольно прохладно: они сидели под деревом, играя в раскладные шахматы, и только изредка поглядывали на пленных. А те работали старательно, о чем-то разговаривая. Женька впервые видел так близко немецкие лица, зеленые потрепанные мундиры, пилотки.
Игорь подошел к солдатам.
– Они ведь так и сбежать могут, – сказал он.
– Чего? – не понял солдат, у него было молодое сосредоточенное лицо.
– Сбежать, – жестко сказал Игорь.
– А-а, – солдат снова углубился в игру и отмахнулся. – Вы гуляйте, гуляйте…
– Твой ход, – сказал ему другой солдат.
Ребята пошли дальше.
– Тоже мне, охрана, – сказал Игорь. – Знаешь, что было бы за это дело с ними в партизанском отряде?
– Что?
– Могли и расстрелять, – твердо сказал Игорь.
Немцы работали и на склоне горы, рыли землю. Рядом протекал широкий ручей. Ребята стояли по ту сторону ручья, смотрели на немцев. Они были совсем близко, большинство – молодые, белобрысые, и работали они так же старательно. Кое-кто снял рубашки.
Один из немцев, рыжий, хорошо сложенный парень в черной майке, отставил лопату: он заметил, что на него смотрят ребята. Он поднял руку и улыбнулся им. Ребята стояли молча, только Игорь сказал:
– Смеется, сволочь.
А пленный уже приблизился к ним. Он остановился на той стороне ручья, еще раз улыбнулся. Что-то сказал. Потом похлопал себя по животу. Помахал часто-часто руками.
– Лягушка, а, – сказал он. – Лягушка! – с невозможным произношением.
– Лягушка, – повторил Женька. – Зачем ему лягушка?
Услышав слово «лягушка», пленный что-то весело и оживленно забормотал по-немецки, потом крикнул своих товарищей. Двое спустились к нему, повторяя на том же несусветном русском языке слово «лягушка», похлопывая себя по животу. Один из них показал рукой: он хочет съесть лягушку. Игорь понял:
– Лягушек жрут, гады…
Пленных свистком вернули к работе. Оборачиваясь на ходу, рыжий прижимал руки к груди и моляще смотрел на ребят, повторяя что-то.
– Жалкие они какие-то… – сказал вдруг Игорь. – Смотри, даже смеются… Чего смеются… В плену…
– А я не знал, что лягушек едят. – Женька смотрел на ту сторону, где работали пленные.
– Все едят, – сказал Игорь. – С голоду еще не то съешь.
Игорь наклонился, пошарился в траве, сделал шаг влево, еще один, вот в его руках уже билась лягушка.
Он размахнулся: «Эй, рыжий, лови!» – и кинул ее на ту сторону ручья.
Лягушка упала на глинистый берег, и прыг-прыг заскакала к кустам.
Рыжий и еще трое пленных, скользя сапогами, кинулись за ней. Один из пленных растянулся на склоне, проехал животом. Рыжий бегал, что-то крича. Торжествуя, он схватил лягушку, пленные окружили его.
Может быть, погоня за лягушкой была и смешная, по у Женьки и Игоря она не вызвала никакого веселья. Женька повернулся и пошел не оборачиваясь. Игорь догнал его.
Лена сидела на лавочке у подъезда. Лицо у нее было спокойное, она смотрела прямо перед собой. Она даже не заметила, как подошли Игорь и Женька.
Лена не обратила на них никакого внимания. Она достала из кармана фартука сложенную пополам бумажку.
– Вот, – она протянула ее Женьке.
Руки Женьки были заняты принесенным для Лены пирожком. Он отдал его и развернул бумажку.
Долго, про себя читается эта бумажка.
«Уважаемая Людмила Петровна, командование и политотдел войсковой части 46/159 с прискорбием сообщают ест, что ваш муж, Савельев Федор Петрович, пал смертью храбрых при штурме Берлина. Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины».
Лена ела пирожок, и слезы безостановочно катились по ее щекам.
– Мать знает?
– Не знает, – Лена всхлипнула.
– Не реви, – Женька встал, – где она?
– Картошку с тетей Зиной сажают, – сказала Лена.
Они пошли втроем. Женька и Игорь впереди, Лена, как всегда, немного отставала. У Женьки было спокойное лицо, губы сжаты. Игорь молчал, засунув руки в карманы широких штанов.
Они подошли к небольшому стадиону.
Как место футбольных схваток он был уже давно не нужен. Поэтому его вскопали под картошку. На поле работали мать Женьки и Лены и Зина – мать Игоря. Где-то вблизи ворот копались еще две женщины.
Скамейки стадиона были частично сломаны и растащены на дрова, но все-таки ряд с небольшим еще оставался. На пустой длинной скамейке, помахивая ногами в сандалиях, сидели две маленькие девочки – дети женщин, которые копали у ворот.
Увидев мать, Женька остановился. Но Люся уже заметила ребят, разогнулась и помахала им рукой. А Женька все еще медлил.
– Я боюсь, – сказала Лена.
Женька пошел напрямик через поле к матери широким шагом. Игорь и Лена последовали за ним.
Перед простым опущенным занавесом на сцене выстроился объединенный хор. Это были дети, одетые опрятно, можно сказать, празднично, в белых рубашках – вернее, в светлых, но чистых, – с красными пионерскими галстуками.
Представьте себе, как дети поднимаются в три ряда, становясь ногами на стулья и столы, чтобы образовать хор, то самое возвышение, которое разделяет голоса и заполняет всю сцену.
Так вот мы видим, как это делается. Всю суету, шум, разговоры, команды дирижера, и слышим, как что-то наигрывает пианист, а перед первым рядом хора висит занавес, тяжелый, неподвижный, через щелку которого кто-то заглядывает в зрительный зал, откуда доносится сдержанный гул, тот самый гул, тот самый гул зала, который волнует артистов. По вряд ли это относится к ребятам и девочкам, которые, следуя указаниям дирижера, занимают свои места: они спокойны, они о чем-то разговаривают, тихо смеются. Среди них – Игорь, Женька, его сестра.
Но вот все выстраиваются. Кто-то громким шепотом приказывает: «Занавес!», и занавес, подчиняясь этой команде, дергается и рывками расходится в разные стороны, разделившись точно по середине.
Открывается зал, совсем небольшой, но до отказа заполненный, до того, что люди сидят на подоконниках и стоят в проходах, зал, украшенный множеством лозунгов и портретов, доброжелательный, свой, готовый разразиться аплодисментами, не избалованный никакими зрелищными мероприятиями.
И действительно, как только открылся занавес и в свете двух направленных прожекторов люди увидели хор, выстроенный в три ряда, в светлых рубашках, и многие из сидящих в зале узнали своих детей, то ли в первом, то ли во втором ряду, и тут же раздались аплодисменты такой силы, что дирижер долго раскланивался перед залом, – все это вместе было похоже на то, что хор уже спел все, что ему полагалось, и сейчас покинет сцену.
Но все только начиналось.
Вот дирижер, невысокий, худой человек в темном нескладном костюме, повернулся спиной к залу, поднял руки, посмотрел на пианиста – тот сидел наготове, – взмах руки, короткое музыкальное вступление – и хор запел песню о Родине, знаменитую песню «Широка страна моя родная».
И произошло что-то непонятное. Только что эти ребята не очень слаженно выстраивались, становились на стулья, переговаривались, смеялись, и вдруг – все вместе, объединенные общим стремлением спеть как можно лучше, самым простым и естественным стремлением, тем более что все это было на людях, на сцене, при свете прожекторов. Но дело было не в этом.
Происходило то чудо, которое называют настоящим искусством. Может быть, ребята пели и неважно, с точки зрения специалиста. Может быть, не все точно держали свой голос, но зато все знали слова, и этого было достаточно, чтобы песня звучала так по-настоящему, так верно, и столько в ней было нашего, советского, и в этих детских серьезных лицах, и в опрятности рубашек, и в галстуках, и в том, что эти ребята еще недавно были в оккупации или далеко отсюда, а вот теперь все вместе они стоят на сцене и поют песню, которую они не могли знать до войны, но которую знали их отцы, матери, а теперь и они знают ее и считают ее своей.
Это ясное утро полно событий: соседи убивали свинью. Событие чрезвычайное. Интерес к нему был велик. В то время в городке почти не было мужского населения: одни старики да инвалиды, да те, кто вырвался из госпиталя. Убивать свинью – занятие далеко не женское. И был приглашен мужчина.
Он стоял в широко раскрытых дверях сарая, окруженный со всех сторон любопытствующей публикой, состав которой был обычный: дети да женщины. Волнение было написано на лицах. Взволнованное молчание простиралось над местом действия.
Мужчина был на деревянной культе, одноногий, но в остальном – очень здоровый, крепкий, бритый наголо и в белоснежной маечке, которая прекрасно подчеркивала все его бицепсы, общую загорелость и обнажала длинный боевой шрам на спине.
Не обращая внимания ни на кого, но чувствуя себя центром событий и вообще самым главным здесь человеком среди этого бабья и пацанов, он внимательно смотрел, как ходит по сараю большая свинья. Сарай внутри был весь солнечный: сквозь проемы в крыше эти широкие и узкие, направленные во все стороны лучи пятнами ложились на землю, и свинья, путешествуя по сараю, входила иногда в них, а потом выходила. Была она, надо сказать, на редкость красивая, чистая, большая, и ни о чем плохом, кажется, она и не подозревала в этот светлый день посередине лета.
– Зовут-то как? – спросил мужчина.
– Машкой, – сказала быстро стоявшая рядом женщина, лицо которой выражало особое волнение и побелело совсем – свинья принадлежала ей, она вскормила ее своим трудом, превратив мелкого визжащего поросенка в это солидное, цветущее животное.
– Машка, – повторил мужчина как бы для себя.
Потом он сказал, не оборачиваясь:
– Ну, ладно, Давайте отсюда все, – и стал закрывать двери сарая, оттесняя толпу любопытствующих назад.
– А мне-то хоть можно? – безнадежно спросила хозяйка. – Мне-то хоть…
– Нечего, нечего, – сказал мужчина. – Обойдемся. Нечего тут театр разводить.
И он закрыл за собой двери сарая, оставив перед ними толпу человек в десять, которая в полном молчании покорно смотрела на серые доски и лишь малые ребята и девчонки посмелее бросились к щелям и дыркам в стене – Женька был среди них первый.
Вот вам эта картина – недолгая, впрочем. Но момент можно остановить: жара, ясное во всем освещение, тишина – где-то петух кричит, спиной к нам стоят эти люди перед сараем, одетые крайне плохо, кое-как все одетые, в сорок пятом году, после войны, и дети их худые, веселые, и какое-то белье, повисшее на веревке, через двор, рубашки с летящими в сторону рукавами, и – тишина.
Потом раздался короткий визг, потом раскрылась дверь, и мужчина вышел на свет, очень спокойный, но сознавая за собой определенный успех и хорошее исполнение взятых перед людьми обязательств.
Дальнейшее уже было как всегда. Общими усилиями свинью вынесли из сарая. Кто-то разводил костер, носили горячую воду, приготовленную заранее, Здесь же, во дворе, лежали специально загодя купленные снопы соломы. Всем руководил мужчина. Остальные радостно и покорно подчинялись ему: было какое-то ощущение праздника. Пучками горящей соломы водили по щетине, хозяйка поливала сверху теплой водой, а мужчина занимался главным и ответственным делом: большим ножом он очищал от нагара свиную кожу – она розовела, светлела.
Свинье связали нога, просунули сквозь них жердь и понесли в дом.
К последующим действиям были допущены немногие: ребят, и Женьку в их числе, отправили прочь.
У детей военного времени свои игры.
Теперь, наверно, так не играют, наверняка так не играют, но тогда это было.
Женька, Игорь и еще несколько ребят сидели недалеко от железнодорожного полотна среди черных остовов сгоревших вагонов. Игорь насвистывал: «Если я ушла из дома, не легко меня найти, у меня такой характер, ты со мною не шути…». Женька что-то писал на бумажках, сворачивая их, клал в пилотку, которую держал перед ним мальчик лет семи.
Бросив в пилотку последнюю бумажку, Женька сказал:
– Ну, все. Кто начнет?
– Давай. – Парень в майке достал из пилотки бумажку, развернул. – Нет, не я.
– И не мне, – еще один развернул свою бумажку.
– Мимо, – сказал третий.
– Ты будешь? – Женька протянул пилотку Игорю.
– Нет, – Игорь сплюнул.
Женька посмотрел на него.
– Что, – он усмехнулся, – страшно?
– Дурак ты, – спокойно сказал Игорь.
Женька потянулся к пилотке, взял бумажку, развернул.
– Ну, сегодня мне, – сказал он.
– Ну давай, – сказал Игорь, встал и не глядя зашагал в сторону.
Поезд приближался из-за поворота. Ребята сидели в кустах, наблюдая за происходящим. Игорь остановился, смотрел издали на Женьку, который был теперь на железнодорожном полотне.
Женька махнул ребятам рукой: отойдите и спрячьтесь.
Поезд был уже виден.
Женька бросил на него короткий взгляд, глубоко вздохнул и лег между рельсами, ногами в сторону поезда, лицом вниз, закрыв ладонями затылок. Больше он ничего не видел – ни поезда, ни ребят. Только стук приближающихся колес.
Паровоз и весь состав должен был пройти над ним. Ничего страшного, не он первый, так уже делали почти все ребята. Главное, лежать спокойно, не двигаться. Спокойно.
Женька не видел ничего, не мог видеть и то, как Игорь, спокойно наблюдавший, как поезд приближается к нему, вдруг рывком выскочил из-за кустов и побежал по тяжелому рыхлому песку наперерез поезду. Чтобы остановить поезд, он должен был преодолеть наискосок метров пятьдесят. Он бежал, стиснув зубы, молча, перепрыгивая какие-то обломки, споткнулся, встал, прихрамывая, побежал дальше и вдруг понял, что поезд ему не догнать, не успеть, и он сорвал с себя рубашку, замахал, крича: «Стойте!», «Остановитесь!». Но поезд, не останавливаясь, уже мчался мимо него, и, не понимая, зачем машет рубашкой этот паренек, принимая это за приветствие, ему отвечали взмахами рук, улыбками. Игорь бессильно бросил рубашку на песок.
Поезд уже громыхал над Женькой. Вагон за вагоном, весь длинный состав.
Когда он прошел, стало вдруг очень тихо.
Женька поднял голову, встал вначале на колени. Лицо у него было испачканное и бледное. Он увидел Игоря, тот приближался к нему. Женька слабо улыбнулся.
– Встань, – сказал Игорь, рубашку он держал в руке.
Женька встал. Игорь наотмашь, что было силы ударил его по лицу. Женька отпрянул, продолжая улыбаться. Игорь ударил его еще раз.
– Мало тебе, что отца убили, да? – заикаясь от волнения, спрашивал Игорь, приближаясь к Женьке. – Мало, да?
И он снова ударил его.
Женька заплакал и от злости, и от обиды.
– Трус! Трус! – Он ударил Игоря.
Но Игорь больше драться не стал. Он крепко взял Женьку за локти, близко посмотрел в лицо, усмехнулся. Они, Женька и Игорь, были ровесниками, но сейчас Игорь казался старше. Игорь легко оттолкнул Женьку от себя, тот сделал шаг назад и неловко сел на песок. Игорь надел рубашку, не оборачиваясь, молча прошел мимо ребят, поднялся под их взглядами на песчаную горку и скрылся.
Женька подходил к дому в самых расстроенных чувствах. Была в нем непонятная злость: на Игоря, на себя, был испуг, еще не прошедший, а только-только появившийся в сознании, ибо раньше его не было, не успел он проявиться во всем размахе. А теперь Женьку трясло. Вечер был не такой уж и холодный – обыкновенный, ветер чуть дул, – конец июля – какие уж тут холода. А между тем – трясло.
Подходя к дому, он услышал пение из темноты. Еще и не подошел – издали доносились голоса – пели громко, все вместе:
«Тучи над городом встали,
В воздухе пахнет грозой.
За далекой за Нарвской заставой
Парень идет молодой.
Далека ты, путь-дорога…
Выйди, милая мая!
Мы простимся с тобой у порога,
Ты мне счастья пожелай…»
Песня шла из темноты, а Женька приближался к ней, уже различая голоса – и голос матери в числе других.
Он увидел стол во дворе под деревьями. В такой час еще нет особой темноты, но уже и не так и светло – сумерки – лучший, может быть, летний час, прохлада, первая звезда, ветер в листве – и люди, сидящие за столом, поющие обнявшись:
«Мой костер в тумане светит,
Искры гаснут на лету…
Ночью нас никто не встретит;
Мы простимся на мосту…»
Женька остановился у дерева, к столу не подошел. Он смотрел на мать, отрешенную в тот час от печалей, с помолодевшим лицом сидевшую среди других женщин за столом, где самым почетным гостем был тот парень, расправившийся утром со свиньей.
– Ну спой ту, ну – эту, – просила Зина мать Женьки. – Спой, я тебя прошу!
– Какую? – улыбалась Люся. – Я не знаю.
– Ну эту, – что-то напела Зина, обнимая Люсю.
«Чайка смело пролетела над седой волной, окунулась и вернулась…» – запела Люся. И все, кто помоложе, подхватили: – «Ну-ка, чайка, отвечай-ка – друг ты или нет, ты возьми-ка отнеси-ка милому привет…»
Эту песню пели в тот вечер, когда приехал Федор, отец Женьки. Пели ее за столом.
Может быть, в другом настроении Женька так бы и не поступил. Но сейчас он не мог спокойно среагировать на происходящее – хотя ничего возмутительного и не происходило, – но Женька вдруг обиделся на мать, на то, что она поет ту же песню и на нее смотрит этот здоровый мужик теперь уже не в маечке, а в гимнастерке, – обиделся он еще и потому, что его настроение шло вразрез с этим праздником – уж совсем несправедливая обида, но и такое бывает. Он повернулся и пошел прочь. Его заметили, стали ему кричать. А он не обернулся, ушел, прибавляя шаг.
Первый раз Женька проснулся не дома. Утро только начиналось, и проснулся он оттого, что замерз. Он сидел на станции, на краю платформы, прислонившись к ящику. Раньше это была большая станция, и вокзал здесь наверняка был – развалины об этом говорили, а сейчас на длинной платформе наспех сколотили барак – вот и все, и еще висел медный колокол – еще тот, довоенный, – непонятно, как он сохранился.
Станция уже действовала. По многочисленным путям сновали маневровые паровозы, слышались голоса. Тут же разгружали с платформ доски, трубы. Все, что сгружалось, оттаскивалось на лошадях в сторону, волоком или же на телегах. От недалекого леса шел туман, низко, по самой земле.
Люся, мать Женьки и Лены, Зина и другие женщины разгружали на станции эшелон дров. Собственно, работа была уже закончена. Аккуратные штабеля распиленных чурок были сложены у путей. За работу женщины получали дровами.
Люся и Зина, нагрузив свои две тачки дровами, отправились домой.
Рядом толкали свои тачки другие женщины. Все шли молча, усталые и занятые собственными мыслями.
У дома Люся остановилась, постучала в свое окно. Никто не ответил.
Она начала носить дрова в дом. Сбросив у печки первую партию, она вошла в комнату посмотреть ребят, но там никого не было.
Вышла на улицу, посмотрела по сторонам. Рядом у подъезда стояла нагруженная тачка дров.
– Господи… – сказала Люся, и лицо у нее было такое невеселое, что казалось, еще секунда – и она расплачется от всего этого.
Она подняла глаза и увидела, что через двор прямо к ней идет Лена. Идет и плачет.
Люся дождалась, пока она приблизится, потом присела, обняла дочь.
– Мамочка! – только и сказала Лена.
– Что это ты такая белая? – спросила Люся.
– А я зуб вырвал, – Лена открыла рот. – Видишь? Молочный.
– Ладно, – сказала Люся, – давай дрова носить.
– Давай. – Лена накладывала дрова на руки матери.
– А Женьки все нет. – Лена не смотрела на мать.
– Ничего, найдется, – сказала Люся.
Так они внесли в дом все дрова из тачки.
Поезда здесь шли довольно часто.
Из Польши, Германии, со всей Западной Европы возвращались на родину захваченные в плен и угнанные в неволю люди.
Пока еще мало возвращалось солдат, но и они уже были.
День был пасмурный, ветреный.
Женька случайно посмотрел влево: рядом с ним сидел Игорь.
– Здорово, – сказал Игорь, не глядя на Женьку.
– Здорово, – сказал Женька.
– Есть хочешь? – спросил Игорь.
– Давай.
Игорь протянул ему кусок хлеба.
– Что ты тут делаешь? – спросил Женька.
– Поезд из Польши должен быть. Может, наша Надька приедет. А может, кто про нее что знает.
– Сколько уже этих поездов было, – сказал Женька.
– Да я знаю… Это все мать…
Они помолчали. Поезд еще не подходил, но платформа уже заполнялась людьми. Зина, мать Игоря, была среди них.
Показался состав. Как всегда бывает, встречающие столпились в самом начале платформы, словно забыв, что поезд протянет вагоны до самого ее конца.
Женька и Игорь соскочили с решетки.
Состав целиком состоял из теплушек. Замелькали в раскрытых дверях лица, послышались крики: «Мама! Мама!», «Сережа!», «Мама, я здесь», «Ой, доченька!», «Не прыгай, обожди!». Но кто-то не выдержал, на ходу спрыгивает на платформу, падает, встает и попадает в чьи-то руки.
Поезд остановился. Платформа сразу наполнилась людьми, стало шумно. Зина, Игорь и Женька пробивались в толпе среди поцелуев, объятий, среди таких же, как они, растерянно смотревших по сторонам в поисках родного лица, среди плачущих женщин и коротко стриженных, худых девочек, приехавших «оттуда», вернувшихся, уцелевших, живых.
«Надю Рудницкую не видели? – спрашивала Зина. – Надю, такая светленькая девочка, не видели?». – «Нет, – ответили ей, – нет». – «Надю? – спрашивали ее. – Она не из Зигена?» – «Не знаю, – повторяла мать. – Не знаю!». «Вы Надю не видели? – спрашивал Игорь. – Надю Рудницкую, светлая такая». – «Да нет, – отвечали ему. – Не знаем, не видели».
Никто не знал Надю Рудницкую, а она тем временем обула тяжелые ботинки, накинула на плечо мешок, встала в дверях вагона, чтобы сверху все видеть.
Она была тонкая, высокая, в черном берете и суконной грубой куртке. Лицо у нее было худое, глаза на нем, как всегда бывает в таких случаях, казались особенно большими. Надя напряженно всматривалась в толпу.
– Мама! – вдруг закричала она. – Мамка!
И спрыгнула на платформу в толпу.
Так они встретились, и Надя обняла мать, и Игорь обнимал ее с другой стороны, а Женька сразу почувствовал себя липшим, протиснулся на край платформы, где народу было поменьше. Обернувшись, он еще раз посмотрел на то, как встречали приехавших «оттуда», живых, – из Освенцима, Майданека, Дахау и из менее знаменитых лагерей, где все было точно так же, только они были поменьше.
Высокий человек взял его за голову.
Он вышел из последней теплушки, в зеленой выцветшей гимнастерке с погонами лейтенанта, в солдатских галифе, с небольшим мешком. Он был коротко подстрижен, как будто волосы только что отросли. Пилотку он держат в руке. Лицо у него было темное, как после сильного ожога. Его никто не встречал.
– Привет! – сказал он. – Ты, случайно, не меня встречаешь?
– Нет, – резко ответил Женька и отошел на два шага.
– Жалко, – сказал человек. – Хочешь, угадаю, как тебя зовут?
– Мне это не нужно, – сказал Женька.
Человек присвистнул.
– Нет, забыл, – сказал он, – забыл. Ну, пошли, нам по дороге.
– Никуда я с вами не пойду, – сказал Женька.
И тут, расталкивая всех на своем пути, мимо промчался коренастый, небольшого роста человек с погонами капитана, без фуражки – ордена и медали подпрыгивали у него на груди. За ним через толпу бежали люди. Выражение лица у капитана было самое решительное. Совершенно белое было у него лицо.
Пробежал платформу, он соскочил с нее, упал на колени, вскочил тут же и устремился к последнему вагону – самая последняя теплушка в составе.
Дальнейшие действия капитана были такие: он сбил на дверях теплушки замок, отодвинул двери. Быстро он все делал, ловко. Вагон внутри был заполнен вещами очень странными: стояла большая деревянная кровать, часы, висел ковер и что-то еще, скрытое в темноте теплушки. Надо еще сказать, что на крыше теплушки была прикручена веревками небольшая светлая машина – открытая летняя машина, очень красивая.
Капитан действовал стремительно: он облил вещи из канистры бензином, поджег все, и все вспыхнуло тотчас ярким пламенем.
А люди уже подбегали: и те, кто преследовал, и просто любопытные в толпе, среди которой были и Женька и этот высокий приезжий лейтенант. Осведомленные люди говорили: «У него всех, оказывается, немцы переубивали», «Жену, двух дочек и мать», «Всех поубивали еще в сорок третьем, а он и не знал», «Вот и узнал человек».
А он стоял спиной к вагону, из которого уже пробивалось пламя, и невольно отходил от него чуть в сторону, пятясь от надвигающейся на него толпы. В руках у него был пистолет.
– Коля, перестань! Брось, Колька! – умоляюще кричали ему. – Ну зачем ты, зачем! Колька!
Но капитан никого не подпускал к горевшему вагону. Он вез все это домой. Вез, зная, что ничего нет дома. Живым вез из Европы, которую прошел всю, а перед этим – четыре года войны. И все эти приобретения внезапно потеряли всякий смысл.
Капитану они были не так уж и нужны, а тех, для кого он все это привез сюда, не было уже на земле.
Лейтенант и какой-то человек в ватнике, не сговариваясь, бросились к вагону. Надо было отцепить его от состава – пламя грозило перекинуться на соседние теплушки, а капитан, отступая от надвигающейся на него толпы, ступил на груду угля, спиной начал подниматься на нее, не выпуская пистолета, и тут его схватили, обезоружили…
А вагон с белой машиной на крыше медленно уходил от состава: его успели оттолкнуть.
За ним бежали какие-то люди, кричали тем, кто был там, впереди, кто мог направить его в тупик.
Пламя уже охватило его, То исчезая за другими составами, то появляясь в просветах, медленно катился он по путям. Скользила над чужими крышами, над другими вагонами эта светлая, как бы игрушечная машина, пламя уже касалось ее, и, когда вагон открывался весь, попадая в освобожденные от теплушек пространства, он шел в белом огне, в потрескивании досок и еще чего-то, в дыму – поскольку это происходило днем, пламя почти обесцветилось на солнце.








