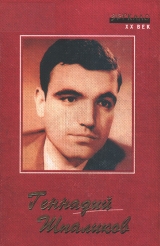
Текст книги "Стихи. Песни. Сценарии. Роман. Рассказы. Наброски. Дневники."
Автор книги: Геннадий Шпаликов
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)
Дальше я долго, долго сидел на скамеечке и ревел. Кепку я на глаза надвинул, даже газету взял, чтоб внимания не привлекать – подумают – пьяный или сумасшедший. Плакал я обо всем: об Ане, конечно, хотя чего уж там плакать, но – вот вам война, вот вам ее реальные последствия, вот вам наша голодуха, безотцовщина, безматеринство, случайность рождений – от людей больных, пьяных – бог знает.
А солнышко меж тем светило.
Великая моя страна, великая – всеми проклятая, проданная тысячу раз, внутри и издали – великая, прости меня, рядового гражданина, я боюсь за тебя, обеспокоен. Вот Аня померла. Хватит помирать, хватит. Просто даже места не хватает. Только – родственные захоронения.
Тут, читатель, ты будешь вынужден выслушать главу – опять-таки к сюжету не имеющую никакого отношения, хотя сюжет – будь он проклят! – тут не важен.
Нет у меня под рукой Ахматовой – нет – читатель, нет, но поскольку я убежден, что нет благороднее и – как бы вам сказать – бескорыстнее что ли – русского читателя, то вы сами это найдете и почитаете подробно.
Начнем с начала.
Чего не видел – досочинять совести не имею.
Вот то, что видел. А видел я, как трое, из «Ленфильма», трое столяров, пожилые люди, из цеховых, совсем уж поздно ночью – в нерабочее время – сооружали ей крест – такое свежее, молодое было это дерево! – в разрезе не видал – знаете – по виткам ствола – но – пахло – цвело, скажем так. Делалось все быстро, обдуманно и – профессионально, поскольку это произведение надо было ставить назавтра, в Комарове.
Денег они не взяли – совестно было и предложить, но – водки мы принесли и колбасу какую-то – святое дело, сказали эти трое, старше меня вдвое, святое дело для хорошего человека – раз уж он помер, крест сделать, да и редко такой случай выпадает – такое уж дерьмо делаем – декорации – а тут крест – и – говорят – для хорошего человека. Раз вы говорите – мы уж верим. Выпить – пожалуйста, а денег – не возьмем. Нам – они сказали в одиночку и вместе – за такое святое дело – повторим – не нужно. Мы уж проживем. Во, спасибо, что выпить есть, принесли. Крест они соорудили прекрасный. Мы – с моим товарищем – так и предполагали, что денег мастера не возьмут, а делают – втроем – хорошие люди – значит так – трое – три бутылки, а одну – про запас, чтоб не бегать. Мастера, все соорудив, – да над кем – господи! – знали бы они, над кем – но мастера знати одно, и это, может быть, было самым главным, что крест сооружен для хорошего человека, и еще – было у них, конечно, представление, что вот тут уж случай особенный. Мой приятель – разливая, пытался – и совершенно зря – объяснить значение – так скажем – Анны Андреевны Ахматовой для русской литературы – мастера, сочинившие крест, вежливо это выслушали, ожидая, когда же выпить придет черед, но – товарищ мой был велеречив, хотя он и человек хороший и впрямь был озабочен – чисто практическими делами – доставками креста в Комарове, что, если читателю малоизвестно, от Ленинграда далеко, не слишком – но – все-таки. Потом крест в такси везти – тоже задача. Но мастера все, по-моему, поняли. Один из них, постарше, сказал – все помрем, а кресты, суки, разучатся делать. В бога я не верую, но вот, понимаешь, я ведь и на войне мог свободно спотыкнуться – там фанеру со звездочкой ставили, если время было, а не успевали – так зарывали, но – скажу тебе, зарывали всегда, вот, понимаешь, зима – ты копал зимой? Копал, говорю, копал – и зимой закапывали – без похоронных команд, сами долбили. Стаканов у нас было два на пятерых. Пили сразу. И вовсе не за Ахматову. Вовсе нет, хотя все время – за нее. Мой товарищ пытался даже читать стихи Анны Андреевны, но – безуспешно, ибо – он, как человек вовсе не пьющий, да еще и без закуски – колбаса – слова выговорить не мог, а мастера все выпили очень спокойно и печально – естественно, не по поводу Ахматовой – по своему поводу, хотя внешне все соблюдаюсь, как на поминках, после и во время которых все забывают (и правильно делают), кого зарыли, и дело уже оборачивается у каждого по-своему, но – мастера, думая, а может, и не думая ни о чем, кроме того – вот уж повезло – сидим, пьем – выпили свое, и даже более, ибо товарищ мой впал в прострацию – не в смысле водки – он задумался о том, что происходит вот здесь, сейчас. Напрасно, друг мой, напрасно. Выпьем за покойницу, сказал самый пожилой – она что? – стихи писала – я слышал? писала, говорю, писала, сочиняла, – одним словом. Тут я опять стал матерно ругаться, что нисколько не удивило моих собутыльников, даже моего товарища не удивило, хотя он, как мне показалось со стороны, был обо мне иного мнения, но – три бутылки – кончились. Четвертую я отдал самому старшему из мастеров, крест мы вместе вынесли через проходную киностудии, получив предварительно пропуск на вынос креста, что было связано с определенными трудностями, но – после раскопок в пирамидах, после лабиринтов, смутных освящений и бездны, в которые проваливаются товарищи моих трудов – все уже не составляло уж таких особых забот. Такси нашлось. Поехали, поехали.
Глава 6
…а то мы люди темные, что нам говорят, тому и верим.
Алевтина Ивановна, соседка
…Бог, унизив женщину, признал ее неполноценной.
…ее отход от веры совершался поэтапно.
…Радостно было смотреть на эту женщину.
Т. Н. Володаева, атеист, боровшаяся с Алевтиной Ивановной – радостно смотревшая на нее, когда та, узнав, что при раскопках, запусках спутников, космонавтов, а также при прямом сопоставлении библии с научными достижениями, оказалось, что бога нет, обняла ее и расплакалась.
Мы вышли – вчетвером – вспомни, читатель, кто: золотоискатель – отец красавицы, красавица, гравюра и я. Я, как тебе уже известно, должен был в двенадцать часов с минутами быть в крематории – ибо там все поочередно и опаздывать нельзя, ну, скажем, – прибеги, если успеешь. А пока что – рано еще было, совсем рано. Прекрасный летний рассвет, прекрасный. Они чего-то болтали, а отец вел дочь под руку, не зная, наверно, что ей говорить, но я бы – на его месте – тоже не знал. Хотя, знал бы. Точно – знал. Но, шагая за ними по этому прекрасному летнему рассвету, я – не из вежливости, не из интереса, а просто глядя на человека, пытался как-то помочь ей, хотя безуспешность помощи была очевидна. Гравюра шла молча, рядом со мной. Она даже не подозревала, как была сейчас хороша – в этом освещении, бледно-розовом, сама – бледно-розовая, в белейших кружевах, трезвая, грустная, сосредоточенная – в чем? – Вот тут уж я голову склоняю – не могу, права не имею вмешиваться – почему голова ее склонена, Почему – ох! – столько почему, что уж лучше потрепемся – что я – через силу – себя преодолевая – начал, а она, милая, все поняла – и – мы сыграли хорошо. Я ее спросил: как вам удается выглядеть так хорошо так рано? – ничего умнее в голову не пришло – она, милая, сказала – вот птички поют – пели, действительно, какие-то птички, и тут – я спросил, поддерживая беседу в том направлении, которое она сама предложила, – вернее – было мне не до направлений разговора – лишь бы до дома довести, лишь бы сдать – прямо в дверь, иного выхода не было, но – но я ей еще сказал – про птиц – раз уж такой разговор, про птиц – а какие вам нравятся птицы? – Никакие, так она сказала, – и вообще – хватит, хватит, – вы понимаете? – абсолютно, сказал я, – тогда уж заткнемся – так сказала она. Далее шли молча, а погода начиналась великолепная, лето, которое я лично прошляпил, а они, наверно, смоются куда-нибудь, куда-нибудь в теплые края, к солнышку, к морю с ними бы я ни за что не поехал – хоть бы на коленях просили – не попросят, конечно, – с ними – ни за что. А с кем, подумал я, шагая за красавицей и ее отцом, плащ которого в лучах рассвета сверкал все более и более – с кем? – Вот что, сказала моя спутница (спутница золотоискателя), у нее телефон есть? Не помню, забыл. Да я вообще у нее редко бываю. А что? Тут рядышком четыре телефонные будки. – Так я ей сказал. Эта сука, сказала она – не о красавице, об отце – прямо рукой показав – в спину, правда и негромко – так вот, эта сука ровно в девять должен быть в полном порядке. Какой у вас размер рубашки? Ворота? Сорок второй. Белая дома есть? Есть – я уже все понял. Ладно, сказал я, вы за ними идите, а я вернусь – с рубашкой. А хоть чай у нее есть? – спросила она – а зажевать? – Не знаю, сказал я, но я сам принесу – можно еще подсолнечного масла выпить, чтобы не несло – я ей посоветовал. Вот что, сказала она, гравюра Теофиля Готье, – если есть у кого-нибудь – из соседей – у вас нет, конечно, – спросите, пожалуйста. И я побежал.
Глава восьмая, не имеющая к делу никакого отношения, но, как автору кажется, очень важная глава
Предпошлем эпиграф.
…Сегодня закрылась весенняя международная лейпцигская ярмарка. К середине дня 14 марта советские внешнеторговые организации заключили контракты более чем с 20 странами мира на сумму, превышающую 200 миллионов рублей.
«Правда», 15 марта 66 года
…Вьетнам.
…Китайские представители…
…Запущен 146 спутник…
Из газет.
…Каждый день – темный, в субботу, сволочь, напился, в воскресенье – пьяный, а в понедельник – сама видела – на платформе красное пил, а денег дома нет, сам же знает…
Из разговора, вовсе не подслушанного, – просто рядом говорили.
Она спала в электричке – сидя, конечно, сидела напротив меня и спала – примерно ровесница. Ее лицо – устало – с утра-то – с утра. Ее глаза – закрытые все время и лишь где-то на остановках, когда электричка замедляла свой стремительный бег к Москве, вот лишь тогда приоткрывались эти голубые-голубые, а под ними – уже складки, морщиночки – ох! – приоткрывались и смотрели испуганно – не проехать бы! – а после уже успокоения закрывались – до Следующей остановки, чтоб снова после приоткрыться – на мгновенье, посмотреть – оторопело – устало, осмысленно, конечно, осмысленно, но в самом простом смысле – не проспать бы, не проехать. Никогда я не забуду и не прощу никогда это русское лицо, молодое еще, молодое и также уже вовсе не молодое – за что? – засыпая и просыпаясь, летела она (время – в волшебство) мимо чудесных подмосковных мест, руки ее, рабочие, руки работающего человека – ну, скажем, наверно – и наверняка, – каким-нибудь физическим трудом – руки ее лежали на сумочке, крепко ее держали, сумочку, – а то ведь! – ох – тут она приоткрыла на лету свои бледно-голубые глаза – и – вышла.
Воображаемое письмо
Вообразите, хотя вы и воображения и лишены —
не для жены – тут у вас – сколько хочешь
воображения —
что, вообще говоря – не так уж и плохо —
замечательно – но – вообразите,
вот сад, не такой, не нескучный, хотя – он-то
и самый скучный,
все.
Я бы хотел поставить тут – здесь – точку – но
в одиночку
сложно
милая
(вовсе не милая – так, переспать,
хотя я – так – только спьяну, да и то).
Но – милая – все равно —
руки, ноги – по дороге.
Все же, вы знаете, неохота – чтобы какая-то, скажем, морская пехота, или – земная – вот ваш удел. Не завидую я женам старших лейтенантов, капитанов, майоров и даже генералов, – горжусь, – но – стихи – не о том.
Воображаемое письмо в Ленинград
За кронверком – на повороте
есть дом
Там вы живете
Вдвоем, втроем.
Мне – все равно —
За кронверком – на повороте,
Вот – за аптекой поворот,
За кронверком, на повороте —
Мой друг – живет.
Вот тут бы матом, милый мой,
вот тут бы матом,
Но – мат – словосочетания – это —
не ваши слова и не мои,
Но – вот все из но, хотя точку тут,
Как ставили былые классики – нельзя —
А надо сказать – в рифму:
любимая, все мостовые…
Скучно.
Спи, моя красавица, сладко спи.
Кто все умеет, тот ничего не умеет.
Если он так говорит.
Кто опытен – если он так говорит – так он не только болен – плохо ему – бывает, – но – но – то – ты бог? – из-за, из-за?
Я вечен.
Так он сказал. Так.
Бог.
Бог его знает.
Врет он все, врет, честное слово, врет, врет, вранье, вранье, вранье и 567 раз – вранье – можно 892 – вранье – все врет – бог творец – из шашлычной.
Воображаемое письмо в 1657 году
Я уж не знаю – на каком языке…
(эпиграф)
На любом.
– Историю – на нашем языке – и то уж – смутно…
– Жалко – говорит мне шоколадница Лиотара, нравящаяся во времена и народы.
– Вы-то хотя бы знаете?
– Чего?
– Как вас зовут?
– Без имени. Шоколадница.
– Вы бы поднос отложили.
– Чем могу служить?
– Милая моя (не моя), ничем.
– А господин?..
– Предупрежден.
– Вот так.
– Вот так.
– Тогда – мне – переодеться.
– Да вы что? Утро?
– Вот – утром.
– Где мне подождать??
– Возьмите карету – раз уж господин.
– Повинуюсь. Ох. Как вас зовут? – крикнул я вслед убегающей – она засмеялась.
Гл. 89
Мы ехали – в неизвестность.
– Вот вы даму пригласили – это она щебетала – с утра.
– Что вы там, на подносе, несли?
(читатель, она была прекрасна, прекрасна, – вообрази – каждый по-своему. Но – сидела – слева женщина в кружевах, бело-розовая, причесанная – с утра – в темном бархате.)
1 г.
го-оо-о-ооо
Г – 2 – 44–67,
В – 8 – 00–90.
А – 8 – 55 – 666
добавочный
все звонят по телефону —
потому что нужен он.
Автор.
Я знаю, как стары стихи про телефон – но – вот —
от станции Мары до горы Афона (за рифму —) протянут
телефон, а если не протянут. То значит его тянут…
Бесполезность телефонных разговоров общеизвестна.
Только скорую помощь можно позвать. Да и то.
Но.
О чем?
Вон птички поют.
Вон этих птичек, вон.
– Водевиль, – сказали.
…спала, милая, спала, дорогая,
уже ото всех бед оправившись – спала – не забывай
ее, читатель,
а– то —
Вставай, страна огромная, вставай на
смертный бой, с фашистской силой темною
с проклятою ордой – пусть ярость благородная
– …пусть ярость.
…но.
…Играй, Адель, не знай печали!
…Адель? – Аня – Аля – играй.
Гл. 765
Привычно.
…Найдется из любящих кто-нибудь?
Рейнер Мария Рильке
…А ну, вас.
(Человек, бросившийся с Крымского моста.
Об лед – зимой.)
Беспечально мне – поскольку —
…В прорубь.
…Больно.
…Кепки скинем.
И пусть скинут свои беретики, свои шапочки, шляпочки, все головные уборы, – ежели нет их – пусть поклонятся —
…А ну вас, – а ну.
К сожалению, он, утопленник, был неправ.
Об лед.
Проще дома.
А эта показуха всеобщая. Ну, тут уж знаете, Минута молчания.
Не больше.
А что дальше.
Жалко.
Жалко.
Жалко.
И не жаль.
Гл. …
Свидание.
Пробираясь вдоль калитки…
Засыплет снег дороги, завалит скаты крыш.
Пойду размять я ноги – за дверью – ты
стоишь. Одна, в пальто осеннем, без шляпы,
без галош, ты борешься с волнением и мокрый снег жуешь.
А кто мы и откуда, когда от этих лет – остались пересуды – а нас на свете нет.
Б. Пастернак
…Но – Адель! – призыв, приказ, напоминание – не знай печали – сама опечалишься, что, конечно, неизбежно, то детям, Адель, передай – чтоб не печалились.
Автор
…Ибо– хариты, лель – кто они такие – понятия не имею – но, видимо, достойные люди венчали – позже – а вначале – и колыбель твою качали! – достойные люди.
Играй, Адель!
– Бог с ней, – сказал я.
– А вот и Терешкова летит! – сказала Марина, и Терешкова, видя нас, пролетающих рядышком, передавая приветы народам Азии и Европы, заметила – на лету – что мы – пролетаем – и из своего метеоритно непробиваемого и защищенного ото всех несчастий иллюминатора – помахала нам рукой – в перчатке.
– Ее Валей зовут?
– Валей.
– Сколько лет?
– Не знаю. Лет 25.
– Ох, зачем?
– Ну, нельзя женщин запускать, непозволительно. Она замужем?
– Не знаю. Откуда я знаю? Вы, Марина, преувеличиваете мою информацию относительно той жизни.
– Вам не холодно?
– Не то слово.
– Сейчас, сейчас.
Марина сделала решительный разворот, вернее, остановилась и – помахав рукой – позвала пролетающий рядом предмет, яркий – под солнышком, – ибо мы входили в утро. То был очередной искусственный спутник – но – Марина знала, что делала! – гениальная женщина – спутник не с приборами – с собачками, мышками и кошками, и бабочками и водорослями – всего не разобрать в подробностях.
– Тепло? – спросила Марина.
– Тесновато.
– Вы еще не справедливы.
– Да нет, спасибо.
– А собачки – милые.
– Ничего – я пристраивался, едва от замерзания отходя.
– Володя чудесно все о них написал – помните – тут у булочной, одна – сплошная плешь – из себя – и то готов отдать печенку…
Гл.
вот уж не знаю какая, серьезно – ибо мы отбросили театр, когда, вы знаете, раскланиваются,
тут – без поклонов.
Публика может выходить.
Мольер умер в театре.
Жаль.
Инфаркт?
Но неочевидно.
– Несомненно, – сказал самый главный человек по инфарктам. Как человек добросовестный – он спросил – как? – во сколько лет? – и —
тишина, молчание, плеск волны, вечер, бледно-розовый —
абвгд.
Упресече,
постарайтесь, постарайтесь,
пересечь.
абвгд – а– б– в– г– д.
Эта река – река – пересечения – очень красивая – дело было летом – пасека – ну – с утра побрился и – три яхты купил – вместо галстука – а– та – бедная Лиза – все у аптеки, а та, в электричке, уже.
Московское время 14 часов.
Гл. 567
– В анабиоз,
– конечно.
– на сколько лет?
– ……….
– Ну?
– ……….
– Прямо.
– Ни в коем случае.
В штопор – совершенно сознательно летит Костя Арцеулов, друг мой.
Самолет – не беленький-беленький – а старенький-старенький в штопор.
Штопор. Штопорт.
Мало кто видел, как…, вертясь. Падают,
все впоссовиях.
И негрл оги – сообразят,
быстро.
Разговор, не долгий,
№ – в шт.
– Но зачем?
Спасатели откачивали бедную Лизу, Машу, Валю, Катю,
но – Лизу – в конечном ее результате.
Зрелище – откачивания – опустим. Если читатель не видел – лучше и не смотреть. Таково мое твердое мнение. Старичок – упорный был старичок – не уходил. На песке.
– Зачем?
– Вот что…
– Если ругаться станете, лучше уж ударьте.
– Вы что, Карамзин?
– Да.
– Простите.
– Зачем?
Спасатели откачивали Лизу, возвращая ее к жизни, старались изо всех сил, переворачивали, приподнимали.
– Чтоб жила.
– О, это не ответ.
– Чтоб жила.
– Я вас не понимаю.
– А я вас понимаю.
– Мне кажется…
Тут Карамзин заговорил на свой лад, а мне было важнее иное – как там – с Лизой, как там – на песке —
вот уже села, вот уже покачивается голова, вот уже плечи под белым платьицем дрожат, вот уже зевает, вот уже волосы – женщина! – рукою поправляет, вот уже – упала навзничь.
– Вот что вы наделали – говорю я – лишь бы что сказать.
– Я удаляюсь, ибо…
– Нет, вы уж не удаляйтесь.
– Тогда – удалюсь. Зрелище это мне омерзительно. Лиза снова приподнялась, поддерживаемая мощными руками, локтями, приподнялась – приоткрыла свои бледно-голубые глаза – и – стала извиняться за совершенный поступок.
Аве, Маруся.
Мария.
Чтоб не ерничать, ибо, —
Аве – что такое – Аве? – мало кто знает – не то во здравие, не то – за упокой, – аве – а – в – е.
…а бедная Лиза неслась к пруду. За ней бежали: Марина, Аня (быстрее всех) и я. К сожалению, а может быть, к счастью, все на свете повторимо – и – неповторимо – повторимо – бежит эта бедная Лиза – снова – в пруд – из-за – имени не знаю, но вряд ли что как у Карамзина – в общем, чтоб покороче – бежит – очень хорошо бежит, как бегунша со стажем.
По воде пошли крути,
Самому себе – не лги.
Над тобой они сомкнулись,
Те старинные круги.
Песенка.
Помните?
Все лето плохая погода, звучит этот вальс с парохода, над пляжем…
на катере ездят
все лето – спасатели в желтых жилетах, спасители душ – неразумных – раздетых и даже – разутых…
Эти полусонные, полутрезвые ребята – в желтых жилетах – я тоже – безуспешно – просто навыка нет – спасали эту бедную Лизу.
Положили мокрую на песок.
Подошел некий господин, старичок, но с выправкой военной.
– Зачем? – спросил он, глядя, как спасатели спасают.
Тут идет ряд матерных слов – от спасателей и от меня.
– Да, я понимаю, – сказал старичок – я и сам так выражаться умею, не выражаясь никогда, как вам не удалось бы выразиться.
– Зачем я здесь? – спросила Цветаева.
– Да я сам не знаю. Вы же сами попросились, а я не протестовал – раз уж вы попросились.
Гл. 23
Дом Марины.
Дом, на самом деле – дом.
Марина – не та, не та, в этом своем свитерке и плаще – наброшенном – не та – Марина, не та.
Все иначе,
Америка,
Аптекарша, ну, это неважно.
Что аптекарша —
Неважно.
Две Марины.
Ветер века.
Не объяснишь.
Нет.
Уж точно.
Ветер века.
Если это – ветер.
Проносит, несет, заносит, выносит, Ветер века.
Он в наши дует паруса. Понадеемся, понадеемся.
Надежды юношей питают.
Играй, Адель, не знай печали.
Ни в коем случае.
Ни за что.
…….
Как сердцу высказать себя?
Тютчев.
Гл. 21
В Минске.
Не в Америке.
У меня была одна знакомая, дочь партизана, вернее – сирота.
Она работала в аптеке, в Минске, напротив обелиска – очень высоко – и – вечного огня по тем, что – померли, так скажем, коротко – Марина. Тоже Марина.
Гл. 22
Америка.
– Марина, как жизнь?
– Ничего.
– А как ты?
– Ничего.
– Познакомьтесь, товарищ, Марина.
– То же самое. – Та говорит, что помоложе.
– Марина.
– Как Юра? Как Галя?
– Ты из вежливости?
– Нет, из интереса.
– Ничего. И Юра и Галя – ничего. А как ты?
– Из вежливости?
– Нет, серьезно – как? Как дети? Как все устроилось?
– Отлично.
– Марина – это я к Цветаевой – это мои товарищи. – а это – Марина Цветаева.
– Слышала, но не читала.
– И не читай, – сказала Марина Цветаева.
– Все же – я посоветовал – вы уж так не разговаривайте. Читатель – можно и не читать. Тебе, Марина, можно. Ничего не читай вообще. Совет нелеп. Но – не читай, разучись грамоте вообще.
– Сумеете?
– Запросто.
Вылетим.
И вылетели – ровно над тем местом, где и предполагалось. Во что я верил – вылетаем.
Гл. 21
Вылетели, вылетели.
Марина приземлилась лучше, чем я.
Тормозной парашют сработал.
Я – лично – не надеялся, ибо Марина все сочиняет – но – сработал.
Нас выбросило туда, куда нам попасть хотелось.
Там шел дождик.
Ну мелкий, такой мелкий.
Зонтов – не нужно, а им, американцам все под зонтами, в нейлоне и поролоне – в чем? – Зонтов почти не виделось, на
что Марина, не удивившись, а усмехнувшись —
улыбнувшись – мне сказала – суки.
Тут извинилась, хотя.
Стон.
Мы с Мариной очутились там, где нам и быть недолжно – не по чину, – я имею в виду – и – на виду – Марину – но – очутилась с неба свалившись. С неба. С помощью тех систем торможения – если надаешь – о чем Марина забыла – или – понадеялась, что и тут ее уж пронесет – нет – не пронесло, все было технически исполнено очень и очень точно.
Америка.
А мы – мы – по делам.
– Марина, это их дела. Нам важно – не пролететь.
– Не пролетим.
(собачки, милые, что ели из своих вроде мисочек.)
– Вы понимаете – не промахнуться.
– Я вам обещаю.
Читатель, земной шар – сверху – выглядит блистательно. Он голубой – морей больше, чем суши, – он – родина человечества – голубой, бледно-голубой – а иной раз и – ярко. В общем – поскольку у нас с Мариной были свои дела – вовсе не космического порядка, но – женщина в ней преобладала и – вот тут уж, читатель, я ничего не понимаю. Абсолютно.
Как красиво все было – прекрасно.
Мне сверху видно все – ты так и знай.
Летели.
– Марина – не пролететь бы. Гренландия-то позади.
– Не пролетим.
– Да я вам верю, Марина, но – чисто технически – пролетим, а для дела летим, – я – не для выяснения – повидаться, а вы – уж не знаю в каком качестве.
– Мариной.
– Марина, Марина, Марина – ты маленькая прима-балерина?
– Не обо мне.
– Знаю.
– Не пролетим.
– Уж Калифорния под нами. Вы посмотрите?
– Я вижу.
– Что делать?
– Во-первых, – вы уж простите, что я так с вами говорю – освободиться от собачек – вернее – собачек отсадить от нас.
– Проще простого.
Итак, мы оказались в Каире. Испытывая некоторые трудности – впрочем – технического порядка: отсутствие пробковых шлемов, незнание арабского языка и еще чего-то неосновного, а основным была жажда – увы – не познания – а воды. Все-таки сказывалось, что накануне, перед отлетом, мы выпили. Не читайте на ночь журнал «Наука и жизнь», советую, очень советую. Далее мы – причем небезуспешно – производили уникальные раскопки пирамиды Тутанхамона 25-того, которого так глубоко закопали – вернее – запирамидили, что нам стоило большого труда пробраться сквозь лабиринты, провалы, освещенные смутно – причем, один из нас провалился в бездну – вот кто – забыл, но мы все добросовестно разыскали, все предметы обихода, быта и небытия, где в ряду каких-то чудес роскоши, среди которых было четыре совершенно одинаковых – чистого золота – Нефертити, одна из них, причем, была в кепке, – оказалось множество других предметов – вот уж не ожидал, вот уже – не надеялся: не мыслил, не помышлял, что в пирамидах скрываются, кроме мумии, родственники, знакомые, соседи, какие-то самые наилюбимейшие собаки и кошки, парикмахерши, лифтерши, тети Вали и дяди Миши, одна знакомая девушка с Серпуховки, что невдалеке от метро, и рябая продавщица нива, забывавшая каждую зиму, когда пива на открытом воздухе не продают, что мы знакомы, что меня крайне расстраивало, и тут они все – и продавщицы, и прочие – вдруг полетели на парашютах – разноцветных, разнообразно и разновысоко покачивающихся в теплом вечернем небе, подпрыгивая ногами, улыбаясь, стропы придерживая, едва не касаясь ногами крыш и – прямо на меня, а среди них – вот уж чего не ожидал, не надеялся, не верил и не предполагал – летела моя любимая, ах, как она летела! – в бледно-зеленом платье, румяная, как заря, выцветшая, светловолосая, рыжая, голубоглазая, очень серьезно относящаяся, очевидно, к полету – в таких совершенно летних сандалиях или же тапочках – не разглядел, ибо заслонили ее тети Маши и дяди Пети, пролетая мимо, но что успел, то разглядел – что смотрела она куда-то в сторону, где пролетал некий молодой орел в чем – не заметил, ибо ничего кроме любимой заметить не мог – а золотоволосая ее голова, рыжая, родная – глаза удивленные, пролетающие, ресницы выцветшие – хоть бы слово сказала, пролетая, – ничего, и не сказала ни единого слова, тихий ангел пролетел. Я пытался приостановить – задержать хотя бы – этот сон, оттеснив в сторону тетю Машу, парикмахершу, которые упорно как-то загораживали мою любимую, оттесняли ее на задний план так, что лишь где-то, вдалеке, уж бледно зеленело ее платьице, тапочки покачивались, покачивались, все сносилось вбок, в лес какой-то – отдаленно – сосновый, сносилось – увы! – не разглядеть. Прости, читатель, прости. Читатель, ты прости, когда грустит писатель, ему сюжет вести все кажется не кстати, ему сюжет вести – как иногда грести – желанье пропадает, а лодочка плывет. Плывет, плывет по Волге лодочка, плывет туда, где милый мой живет, где ждет, скучает – долго, куда меня Волга вдоль по течению несет. Есть такая песенка, песенка любимая. Нескончаемо долго – после пирамид, парашютов и пролетающих любимых – я брел по какому-то лесу, в прохладе и покое. Время близилось к вечеру. Все было беззвучно, все остановилось. Птицы останавливались на лету. Шишки не долетали. Белки, подпрыгнув, висели, вернее – зависали – что им несвойственно, ибо даже при прямом падении – а может, нам-то кажется, что они падают, а они – летят, – так вот даже белки, помню, остановились. И листья, медленно спадающие с дерев, встали, как им уж удалось встать в воздухе, переворачиваясь и не переворачиваясь, боком и вкось и вкривь, но – застыло все. Я брел по этой застывшей и глубоко мне невыносимой местности, где все молчит, висит, не сообщается – брел, понимая, что я – во сне, но одновременно – понимая, что вовсе это не сон, и нет грани между сном и тем, что считается жизнью, – условно, читатель, условно! – безусловно лишь то, что человек спит и снится ему ноле и снится ему – с настойчивостью и безнадежностью, что можно это вновь повидать, – его любимая. Снится какая то электричка – почему? Электричка мчалась прямо через ноле, осеннее, пустое, печальное – что еще сказать? – под небом осени печальной – летит – опять же в полной тишине, а любимая – тут, читатель, на самом интересном, а может быть, и самом неинтересном месте, – лента оборвалась. Забыл я, что в таких случаях кричат киномеханикам – но тут уж, поскольку я сам был и киномеханик, и зритель, и какой-то неведомый прибор, с помощью которого можно увидеть наяву любимую и раскопки пирамид, то тут уж никто не виноват, кроме реальной жизни, которая входит в сны со всей бесцеремонностью реальной жизни. Обычные. Только зря она напивается. Хотя – какое мое дело? Итак, итак. Будьте здоровы, милая. Я уж сразу. Ура. Вот вы писатель, говорит она, писатель. Да нет, говорю я, какой я писатель – я ей вполне серьезно говорю. Нет, отрицает она, вы все-таки писатель. Да вы же ни строчки не прочитали, ни странички. Да я вообще не читатель, не читательница. Но – по общественному положению – вы писатель. Нет, говорю я, нет такого общественного положения. Можно быть депутатом, судьей, милиционером – я намеренно беру должности, а не службу, хотя – где она, эта грань между должностью и службой? – вот я и запутался. Потому что с утра тоже ничего не ел, а выпил – ох, плохо это кончится. Давайте я за вас замуж пойду. Нет уж, нет. А чем я хуже других? Я красивая, правда? Мне бы дурой быть – вот бы помогло! Но я – не дура, то есть, конечно, дура, но не в практическом смысле, дурой надо родиться. Дура – это талант. Сволочь – тоже талант. Неохота быть юродивой, но уж в такой день! Монологи продолжаются, а вы, писатель, слушайте. Слушайте и кушайте, закусывайте. А то мы оба будем хороши. Кстати, я вас с женихом познакомлю. Вот-вот нагрянет. Жених. Подколесин. У меня удобно – первый этаж. А представьте, каково бы с пятого! – допустим, выпрыгивать! – но – мы – не допустим. Мы его остановим и выставим через дверь, как гуманисты, ведь писатели – гуманисты? Кто сеет разумное, доброе, вечное? Через дверь. Летите голуби, летите. Но – он мне шанель принесет. Вы знаете, что такое шанель? Дерьмо. У всех сук обязательно должны быть шанель. Как пароль. Вот вы были в Париже, как там, у всех шанель? Да не был я в Париже. Быть этого не может, говорит она. Как же так? Писатель обязан побывать в Париже. Вот Эренбург. Я читала. У меня денег нет, говорю я, нет и нет. И вообще. А кто жених? Ох, говорит она. Ох, боксер. Очень хороший боксер – я видела – не сочиняю. И вообще очень хороший человек. Даже странно, что такие бывают. Он такой хороший, что его под колпаком стеклянным надо поместить. Правда, он задохнется – как вы считаете? – или можно шлангом туда воздух пропустить? У него очень смешное лицо. Нос. Совершенно мягкий – мнется. Все бы хорошо, но – большое стремление к культуре. Все подписные издания покупает. С артистами знаком. Вот купил книгу: из парижского наследия Тургенева – мне принес. Весь мир объехал – не то, что вы. И он – богатый – опять-таки не то, что вы. Ну ладно, говорю я, ладно. Давайте выпьем за его здоровье. Наверняка – раз он боксер – он хороший парень и всякого понатерпелся. Вот нос. Да и вообще мы мало что в этом понимаем, когда бьют тебя ежедневно внутри страны и на международных соревнованиях. Но, читатель, хотя утро уж приблизится, история, к сожалению, не кончается никак – то есть – спать нора, а не выходит и – не надейся – не уснуть. У меня был простой план. Если она не уснула, заставить ее выпить – даже если она не захочет и будет сопротивляться – в чем, конечно, я был мало убежден, но вдруг подумает – спаивает для каких-то вполне определенных гнусных целей, но целей не было иных, кроме очень простой – если не спит – пусть заснет, свалится, провалится, как в пропасть, в колодезь, в прорубь – лишь бы провалилась и выспалась, а назавтра все образуется, образумится, а я – что я? – другую женщину люблю, а она меня упорно не любит, хотя если в упорстве есть определенное постоянство, то, следовательно, и причины тому есть. Но – дело не в этом. Сам я пить не мог, не стал, но ей – без труда, впрочем, влил, полстакана хватило – и она, милая, уснула мгновенно, что-то говоря в полусне, что не имело никакого отношения к происходящему, и называла меня совершенно иным именем, которого я не расслышал вполне, но суть ее прощания с этим днем была примерно мне ясна – и повторять его неохота – оно слишком похоже на все, что она говорила – произносила – скажем так – ранее, но самое важное, что я снял с нее туфли, накрыл одеялом, поудобнее пристроил подушку, помолился – самыми матерными словами из тех, что знаю, что кончился этот вечер – не подозревая, что все только начинается, – раскрыл и расправил раскладушку, лег и – вот тут все и началось. Читатель, я не избалован происшествиями. Жизнь моя – обыкновенна. Более того – я вообще, в принципе, так сказать, против происшествий такого рода, о которых пойдет речь – но – что делать! – что делать, как быть? Тут бы спать, спать – как она вдруг запела во сне – спать-спать по палатам пионерам, октябрятам, неженатым и женатым! – Запела. Спи, моя красавица, сладко спи. Хоть не моя – но – что скрывать! Красивая она была и во сне и наяву, красивая. Просто мне за таких красивых всегда как-то страшно. Красавица. Рука в сторону висит. Лицо совершенно детское, спокойное. Спи, моя красавица – хоть и не моя – радостный светлый сон пусть уж на тебя слетит, хотя, подумал я, вряд ли ей что-нибудь сейчас хорошее приснится или даже нехорошее, но хотя бы не кошмар. Опыт такого рода засыпания у меня был, есть и будет – поэтому, будучи предсказателем снов, я вполне вижу все за нее в подробностях. Моя красавица – уж не моя – в том смысле, что все мои наивные, как я понял, способы усыпить ее, отправив в потусторонний мир, где, может быть, хотя и маловероятно, тоже что-нибудь снилось, или же было забвение – с медицинской точки – с позиции чистого разума – самое лучшее, но позиции чистого разума оказались слишком шаткими – вот как в юности спят, вот вам пример. Свежо, как – уж не знаю, как что – спросонья не разобрать – она стояла передо мною, спящим, не раздевавшимся, то есть – не раздевшимся вполне от холода в комнате, и бесцеремонно расталкивала меня. Рядом с ней стоял человек средних лет в каком-то переливающемся, немнущемся, очевидно, нетонущем и негорящем тоже не то пальто, не то куртке – во всяком случае, очень подтянутый, выбритый, излучающий трезвость, предприимчивость золотоискателя, хотя золотоискатели вряд ли такими уж были трезвыми – судя хотя бы по литературе – но – времена меняются, читатель, меняются времена – но главное, что рядом с золотоискателем стояла прелестная молодая женщина, одетая во все абсолютно новое, современное и – скажем так – с обдуманностью, которая сочетает – бог знает, как у них это получается – да и он вряд ли, думаю, что и он – господь бог – всего бы не предвидел, одеваясь с утра, причем, как была одета, умыта и причесана эта сподвижница золотоискателя. Добавим только, что обдуманность – не самое худшее, что может прийти в голову. Да и на манекенщицу она была не похожа, а так, знаете, как с гравюры: черный бархат, кружева – сон, продолженье сна – сошла с гравюры, из стихотворения Теофиля Готье, которого я не читал. Но мне всегда – со стороны и через устные, вольные переводы – казалось, что у Теофиля Готье – примерно, конечно, вот такой вкус, хотя, конечно, сделаем скидку на то, что это все же происходит в 66 году, что, конечно, резко усложняет дело. С Теофилем Готье и прочее. Так они стояли, втроем, над моим распростершимся телом, ожидая чего-то. Женщина из Теофиля Готье (условное наименование) явно нервничала, хотя с момента моего просыпания прошло гораздо меньше времени, чем я затратил на чисто внешний рисунок картины – добавим, что в комнате, хотя свет я забыл выключить, засыпая, было уже окончательно светло, бледно-светло, но – все же утро.








