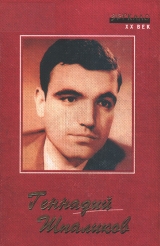
Текст книги "Стихи. Песни. Сценарии. Роман. Рассказы. Наброски. Дневники."
Автор книги: Геннадий Шпаликов
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц)
ВСЕ НАШИ ДНИ РОЖДЕНИЯ [22]22
Сценарий написан в соавторстве с С. А. Соловьевым.
[Закрыть]
– Там, за рекою,
Там за голубою… —
просыпаясь, Митя вздрогнул, ясно услышав эти слова. Будто бы ему кто спел их – голосом высоким, чистым и знакомым. Каким-то давним будто бы голосом, но чьим, Митя вспомнить никак не мог.
Митя хотел было снова заснуть – рассвет здесь, внутри старой сумеречной их московской квартиры, едва ощутим был только, – но это ему не удалось, то ли голос его не оставлял, то ли – чей он – опять силился вспомнить, но сон ушел окончательно.
Блуждая, прошел по комнате, вышел на кухню – за окном, посередине московского дворика росло дерево, большое старое дерево, и оттого, что его тоже тронул рассвет, оно казалось сейчас сизым. Это отметил про себя Митя, стоя посередине кухни в пижаме и шлепанцах на босу ногу, – и песенка в голосе вертелась, иногда мелодией только, но вдруг опять обрывки слов выплывали, – и этот голос – он его узнавал:
Там, за рекою,
Может, за Окою —
Дерево рябое…
Дерево отражаюсь в его окне. Сквозь зыбкое движение листвы само лицо виднелось неясно. И казалось не только лицом даже, но частью – этого дерева, листвы, ствола, стекла, – всего частью.
Потом голос затих и исчез совсем. Больше не возвращался. И даже мелодия улетучилась. Тогда он почувствовал, что замерз. Но назад, в теплую постель, все-таки не вернулся. Блуждая, прошел по прихожей, свернул на кухню.
Там тоже был полумрак. Он стоял посередине кухни, опять не слишком понимая, зачем пришел. Мелодия покинула его, и шелест дерева не достигал, но бессонное волнение не исчезло. «Это, наверное, я просто есть хочу», – подумал он, подошел к плите и наугад поднял какую-то крышку. Вилкой подцепил макаронину. Дальше он и сам не сообразил, как все это произошло. Крышка вдруг скользнула между пальцами и со страшным грохотом упала на кафельный пол. Он испугался резкого звука и вздрогнул. Тогда и кастрюля свалилась. Тут же что-то стеклянное разлетелось с жутким звоном. Собака залаяла – рядом совсем – обалдело и громко.
«Ах, какой компот!» – почему-то подумал он, и в прихожей щелкнули выключателем, и там зажегся яркий свет. Он вышел.
– Это что? – спросили.
«У нее довольно приятное сопрано…» – подумал он, но вслух ничего не-сказал. На пороге спальни стояла его жена Светлана – в длинной кружевной рубашке до пят. «Это невероятно, но она смахивает на Джульетту…» – опять подумал он про себя и опять смолчал.
– Это ты? – спросила Света, от света щурясь.
– Это я, – сказал Митя.
Страшно залаяла собака, будто след взяла.
– Что случилось?
– Ничего. Я кушал.
– Что ты кушал? – удивилась Светлана.
– Макароны…
– Матильда! – вскричала вдруг Светлана страшным голосом. – Если ты не замолчишь, я скончаюсь!
Лай смолк, а Мите показалось, что Светлана сейчас рухнет в обморок.
– О боже! – сказали тут явственно и в то же время будто из преисподней.
В свет выкатилось кресло на колесиках. В кресле сидела опрятная старушка в белом одеянии, в буклях и чепце. Все переменилось. Сцена стала походить на бессмертную «Пиковую даму».
– Боже! – продолжила старушка. – Это я скончаюсь!..
– Сейчас же перестань волноваться, мама! – сказала Светлана жарко, с участием и поцеловала старушку в чепец. – Ничего страшного. Митя кушал.
– Что Митя кушал? – спросила старушка строго, с недоверием, не слишком соображая спросонья, что происходит.
– Макароны, – опять сказал Митя.
– Почему макароны? – строга спросила старушка. – Почему ты опять не кушал хек?
Ответить Мите не удалось. Матильда загавкала с новой силой.
– Матильда, смолкни! – крикнула Светлана в пространство, и лай прекратился.
– Я думала – мне все снится. – Все повернули головы. Новое лицо явилось. В дверях другой комнаты заспанно щурилась на них девочка лет пятнадцати. Его дочь, Митина, – Катя, – не его одного, разумеется, – общая их дочь – со Светланой.
– Тебе все спится, – мрачно подтвердила мать.
– А что произошло?
– Ровно ничего, – ответила Светлана просто. – Папа кушал.
– Он почему-то кушал макароны, – пояснила старушка, – хотя мог кушать хек.
При слове «хек» Матильда снова обезумела.
– Я задушу тебя! – крикнула Светлана, и тишина воцарилась.
– Ох! – выдохнула девочка в тишине и прошлепала босыми ногами по прихожей к отцу. – Ох! – сказала она еще раз и чмокнула Митю в щеку.
– Не понимаю, – сказала старушка.
– Чего? – спросила Катя. – Чего вы всегда не понимаете? Ему сейчас, может, сорок пять стукнуло.
– Кого стукнуло? – опять не поняла старушка.
– Мамочки! – сказала Светлана, к старушке не обращаясь. – Прости.
И тоже поцеловала Митю в щеку. В другую.
– Браво! – сказала старушка.
– Мите, мама, сорок пять сегодня исполнилось, – объяснила Светлана. – Поздравь его.
– Да, – горько сказала старушка. – Это склероз. Поди сюда, Дмитрий!
И Митя подошел. Старушка торжественно приложилась к его лбу.
«Ничего, – подумал Митя про себя, согнувшись. – Все-таки она довольно славная старушка. Ничего-ничего… Все пока идет ничего».
Когда же это было? – так давно, что и было ли вообще? – он не верил, конечно, что было, но вот, пожалуйста, – фотокарточка, – документ, можно сказать, – правда, желтая уже совсем, без угла, – и он на ней, жухлый, голый, ползет куда-то, – куда, господи? – его за лодыжку чья-то рука держит, когда-то мать говорила, что это бабка, но никакой бабки он и вовсе не помнил, а оттого и к фотокарточке относился совсем сторонне – никогда она его не задевала, и никогда он не мог соединить себя, каким себя знал, представлял, с этим пухленьким нечто, ползущим в никуда куда-то, да ему и неприятно было это ангельское дитя, – и потом, – дальше – вот под фикусом в кадке с матерью и отцом, боевым военкомом, он в матроске был, – ее, матроску, он слабо припоминал и теперь, – а вот и школа, – первый класс, и дальше – ворошиловские стрелки, – в ряд, со значками на цепочках, – и он в том ряду, – шея то-о-ненькая, – тоже стрелок, – это уже ближе, – тоже далеко, но все-таки ближе, – это он уже припоминать начал, – а вот их выпуск школьный, – они у забора почему-то все стоят, – у длинного серого забора, – что за забор-то? – плац это, – вспомнил, – плац, – водоподготовка, и они, – это сорок третий, – все восемнадцать ребят, весь выпуск их у забора этого, – а в живых осталось трое из восемнадцати, – потому что дальше киша была, – война, – это он помнил, конечно, – если вспоминать начинал, то вспоминал редко, – что-то мешало ему вспоминать про это часто, а помнить всегда и совсем невозможно было, – что-то в воспоминаниях этих его тяготило, – и не страх один только, – вовсе нет, – хотя и страх этот он помнил, конечно, – но не в нем была суть, – другое, – что-то хорошее, страшно сказать, в тех годах его смущало, но что именно, – так припомнить он и не мог, а, честно говоря, – и не хотел, – вот послевоенный он уже, – такой до смешного мирный вузовский выпуск, – большинство в шляпах, – но и здесь толком вспомнить ничего он не мог, – да и мудрено было вспомнить, – их там на этом картонном листке человек сто, может, – и все в кружочках, – а большинство в шляпах, – он и сам-то себя всегда подолгу отыскать не мог, – хотя каждый раз и силился запомнить то место, где его кружочек; а вот, пожалуйста, полюбуйтесь, – у орла, распростершего крылья, – и надпись художественным росчерком: «Ессентуки» – он, Светлана, Катя двухгодовалая, – это уже близко, тут он уже ориентировался, в общем-то, довольно складно.
Господи, да когда же все это было? Да и было ли вообще?
Но вот, – фотокарточки, – документ. А значит, – наверное, было. Было все это. Вот так.
Между деревьев везли каталку. Везли сосредоточенно, серьезно. Везли четверо в белых халатах – крайним справа был Митя. День был прохладный, ясный. Недавно дождик прошел. Трава зеленела ярко.
Вывернулись по дорожке к дому. В кирпичной стене были проломлены ворота. Теперь ворота были закрыты. Собственно не ворота даже – огромный белый лист рифленого железа, по которому очень большими красными буквами написали: «Не курить!». Остановились у ворот. Каталка сверху была прикрыта куском брезента. Тихо было. Брезент хлопал по ветру. Митя подошел к стене, в которую вмонтированы были стационарные кнопки. Одна красненькая, другая черненькая. Митя с усилием прижал красненькую, тут же что-то загудело, рифленый лист с надписью, – погромыхивая, медленно пополз вверх. За листом, за воротами уходила вниз, куда-то в черноту, асфальтовая дорожка.
Взяли каталку и пошли вниз. Растворились в черноте.
Вдруг Митя возвратился. Прижал черненькую кнопку. Опять зловеще загудело, лист пополз вниз. Митя исхитрился и ловко юркнул под закрывающий проем лист. Лист тут же с грохотом упал на землю, и все стихло. Будто и не было. Где-то птички пели.
Теперь везли каталку длинным темным коридором. По потолку вились кабели. Вспыхивали лампочки в проволочных сетках. Везли все так же сосредоточенно, без разговоров. Остановились снова у куска рифленого железа. Не такого, конечно, огромного. Поменьше. Рядом вешалка стояла.
Один из сотрудников снял шляпу и повесил на вешалку. А Митя снова прижал красненькую кнопку. Опять загудело и загромыхаю. Дверь в сторону поползла. За дверью светил яркий свет.
Огромная комната без окон, без дверей была вся облицована белоснежным кафелем. В беспорядке были расставлены железные стулья. На стульях сидели люди. Большинство в белых халатах. Шло научное заседание.
– Вот он! – сказал высокий мужчина с суровым лицом, и все повернули головы.
Митя с товарищами вкатили коляску. Остановились у стены. Взоры всех были обращены на них. Смутившись, Митя отошел к стенке и опять кнопочку прижал. Моторы заурчали, лист погромыхал и стих.
– Прошу секунду внимания! – опять сказал мужчина. Это был профессор, руководитель научного эксперимента, звали его Онанием Ильичом Грибановым. (Онанием вместо Анания записали его по ошибке в метрике, да так и закрепилось на всю его жизнь.) Онаний Ильич ловким движением иллюзиониста сдернул брезент.
На каталке были укреплены колбы, соединенные никелированными трубками, матово светились манометры со стрелками на нулях – все вместе напоминало комбинацию искусственного спутника с радиатором парового отопления.
Трое молча углубились в разглядывание сооружения.
– Коллеги! – сказал Онаний. – Позвольте ознакомить вас наглядно с опытным образцом установки «Синдром 810». Новый вариант «Синдрома», как я уже говорил, отличается чрезвычайно высокой характеристикой диффузионного поля, устойчивостью молекулярных соединений, способных к ионному обмену, поистине уникальной гидрофильностью, векторно подвижен, как интеграф линейных ускорений, обладает надежной термоизоляцией емкостей гидростабилизированиых платформ, с уходом порядка всего одна десятая процента углового градуса в час…
Онаний Ильич перевел дух. Слушали его внимательно.
Пока профессор говорил, Митя бесшумно тянул длинный цветовой фал от устройства к стене, где укреплен был еще агрегат, смахивающий на умывальник с металлической раковиной. Фат Митя надел на медный кран и повернулся к Онанию Ильичу.
– Первый готов, – сказал Митя.
– Так, – сказал Онаний Ильич. – Начнем, помолясь.
Митя подошел к «Синдрому» и прижал ногой маленькую педаль.
Заурчало сразу – внезапно откуда-то сбоку «Синдрома» вылупился небольшой ярко-красный резиновый шарик, который медленно раздувался.
Митя следил за показаниями приборов.
– Сто… – говорил он время от времени. – Сто десять… Сто двадцать… Сто шестьдесят…
«Синдром» гудел все более натужно, угрожающе…
– Сто восемьдесят пять… – сказал Митя и добавил тихо: – Может, хватит?
– Давай! – прошептал Онаний Ильич.
– Сто девяносто пять… – сказал Митя и зажмурился.
– Еще давай!
– Двести, – сказал Митя.
– Стоп! – сказал Онаний Ильич.
Шар покачивался над «Синдромом». Гул стих, и колокольчики замолкли.
– Репард! – Онаний Ильич и протянул руку. Один из сотрудников протянул ему длинную иглу. Онаний Ильич сделал шаг к «Синдрому» и, помедлив мгновение, ткнул иглой в шарик. Шар с оглушительным треском разлетелся на мелкие кусочки.
Митя отер пот. Настала зловещая тишина.
Потом кто-то робко хлопнул в ладоши. Потом еще кто-то. Еще. Научное заседание зааплодировало.
– Вот так, – сказал Онаний Ильич.
К нему подошел человек в белом халате и встряхнул руку.
– Очень интересно, – сказал человек в халате Онанию Ильичу.
– Собственно еще надо расшифровать спектрограмму, – сказал Онаний Ильич с достоинством.
– Разумеется, – сказал человек в халате. – Но тем не менее общий результат вполне очевиден. Поздравляю. От имени всего института поздравляю.
И опять люди на стульях похлопали.
– Коллеги, – сказал Онаний Ильич, подняв руку.
Еще минуту внимания. В этот, как бы сказать, удачный для всех нас день мне приятно сообщить вам, что нашему уважаемому Дмитрию Петровичу Арсентьеву исполнилось сорок пять лет. Ровно двадцать лет назад он впервые вошел в эти стены.
Митя встрепенулся, будто его застигли за чем-то неприличным.
– Не вам говорить, как существен вклад Дмитрия Петровича в создание «Синдрома». Еще в первом, робком «Синдроме» пятьдесят четвертого года была использована пневматическая схема сосудов, основанная на применении так называемого шарика Арсентьева, честь изобретения которого принадлежит Дмитрию Петровичу…
Онаний Ильич смолк, а люди на стульях похлопали.
– Мы тебе, Митя, сюрпризец приготовили, – сказал Онаний Ильич уже Мите лично. – Васенька, давай! – обратился к одному из ассистентов.
Васенька вытащил из угла тюк, закутанный в газеты. Онаний Ильич царственным жестом содрал газету. Взорам присутствующих предстал «Синдром», только уменьшенных размеров.
– Действующий, – сказал Васенька.
– И вот, – сказал второй ассистент, протянув Мите здоровый полиэтиленовый пакет, наполненный разноцветными шариками. Вроде как для пинг-понга.
Онаний Ильич полез в пакет и двумя пальцами вытащил шарик. Поднял его над головой.
– Вот он, – сказал Онаний Ильич. – Скромный шарик Арсентьева. В пакете их ровно двадцать!
И все опять похлопали.
Митя стоял посередине моста. Под мышкой, завернутый в газету, торчал «Синдром». В другой руке он держал пакет шариков. Народу вокруг немного было. Летом Москва пустынная.
По мосту проехал цементовоз. У перил, согнувшись, стоял рыбак с длинной удочкой. Митя встал рядом. «Мне бы пить явайский ром, а я ношу с собой „Синдром“», привычно крутанулось в голове, но обыкновенной радости не доставило. Рыбак молчал. Митя в задумчивости повертел пакет с шариками. Вынул один. Синенький. В речку бросил. Потом красненький. Поглядел. Красиво плывут.
– Балуешься? – спросил рыбак мрачно.
– Чево? – не понял Митя.
– Через плечо, – ответил рыбак мрачно. – Это не помойка.
– Чево? – опять не понял Митя.
– Речка, говорю, не помойка, – сказал рыбак еще мрачнее. – Вся рыба от вас передохла.
– Иди ты знаешь куда… – сказал Митя вяло.
– Это ты иди, – сказал рыбак. – Туда.
– Ладно, – вдруг покладисто сказал Митя.
Поднял «Синдром». И действительно пошел.
– Готово? – спросили.
– Ага, – ответили.
– Давай, – сказали.
В огромной комнате – с большой балконной дверью, выходящей в сад, – было полутемно уже. А может быть, это так казалось – от старого пианино с латунными подсвечниками, от резного ли буфета, уставленного закусками, от старомодной ли висячей люстры со стеклярусом – только в комнате сумеречно было. Таинственно. Да еще громадная картина в золоченой раме, изображающая человека в лосинах и мундире на боевом коне среди взрывов. За окном огромным, за балконом вечер еще не начинался.
– Пускаю, – сказала Катя, Митина дочь.
Народу в комнате было немного. Гости еще только начали собираться.
Трое Катиных одноклассников сиротливо сидели у стены, одинаково закинув ногу за ногу.
Юлия Павловна – Митина теща – в большом кружевном жабо с брошью сидела у себя в углу в покойных, правда, продранных уже вольтеровских креслах, и давний ее поклонник – Серафим Лампадов, гордый сухой старик, – привычно сидел рядом. Выглядел он тоже празднично – в синей «бабочке» в мелкий белый горошек.
Васенька – Митин сослуживец – маялся на стуле, возле бутербродов. Света – Митина жена – сидела посередине комнаты на низком пуфике, прикрыв глаза. Катя возилась с чем-то, стоящим на крышке пианино.
– Ну что ты тянешь? – спросила Светлана.
– С непривычки. Рука дрожит.
– Чего дрожит? – поинтересовалась старушка.
– Пустое, – сказал Лампадов.
– Готово, – сказала Катя.
Все затихли.
– …Эта пластинка… – раздаюсь вдруг, – …познакомит вас с тем, что такое стереофония, и поможет наладить аппаратуру…
Опять мгновение было тихо, и все в комнате сидели тоже очень тихо и неподвижно, уставившись в пространство. Вдруг музыка грянула, отчаянно, бравурно, – с разных сторон обрушились скрипки, медяшки труб, тарелки звенели празднично, барабан торжественно ухал.
– Вот это да! – наконец выдохнула Света.
– Забалдеть, – сказала Катя, застывшая как истукан. – Царский подарок.
– Кому? – поинтересовалась старушка.
– Вероятно, Димитрию Петровичу, – пояснил Лампадов.
Скрипки возносились под небеса и падали в пропасть.
– Вы слышите ложечки? – спросила Света.
– Какие ложечки? – не сообразил Васенька.
– Там. В оркестре, – пояснила Света.
Действительно, бились в трепете ложечки.
– Что, собственно, дают? – наконец сказала бабка, натруженно прислушиваясь.
– А-а? – спросила Катя, приложив ладонь к уху.
– Бабушку интересует, вероятно, что играют? – прокричал Лампадов.
– Щедрин – Бизе, – проорала в ответ Катя, – «Кармен».
– Все-таки это довольно нахально, – вдруг сказала бабка. – Щедрин – Бизе…
– Чего? – не расслышала сквозь оркестр Катя.
– Бабушка удивляется, почему Щедрин – Бизе?.. – проорал Лампадов, и жилы на шее у него вздулись. – Почему не просто Бизе?..
– А Бах – Бузони? – проорала в ответ Катя.
– Что вы разорались? – недовольно сказала Света. – И сделайте все-таки потише. Это невозможно.
Катя сделала потише.
– Бузони-музони… – вдруг неожиданно сказал Васенька, – а Мити все нету…
И покраснел.
На столе – модель «Синдрома».
– Поразительная вещь, – сказал Митя пожилой женщине. – Уникальная.
Она сидела в середине темной комнаты, от пола до потолка забитой какими-то поблескивающими экспонатами. Громоздились разломанные пианолы, книги, опять медяшки оркестрантов, – а вверху очень яркая горит электрическая лампочка.
Митя неподалеку с оберточными газетами в руках.
– И вы говорите, что хотите передать это в дар музею?
– Хочу передать, – сказал Митя твердо. – В дар.
– Безвозмездно, говорите?
– Абсолютно безвозмездно, – подтвердил Митя. – Я в принципе против частных коллекций. А вы?
– Да, пожалуй…
– Я не сравниваю, конечно, – но вы могли бы хранить дома подлинного Леонардо?
– Нет. Не могла бы…
– Вот видите, – сказал Митя удовлетворенно. – Мы не варвары. Не гуммы.
– Ну да.
– К тому же агрегат действующий… – обнадежил Митя. – У вас водопровод далеко?
– Нет.
– Поди сюда, милый… – позвал Митя, и от стены отделился худой парень в синем халате. Сквозь сильно увеличивающие очки глаза его глядели почти безумно.
– Тяни фал, – сказал сурово. – К водопроводу. И на кран надень. Потом жди команды. Понял?
– Понял, – сказал парень и пошел с фалом.
– Готов? – крикнул Митя.
– Готов!
– Пуск! – крикнул Митя.
– Чего?
– Я говорю, кран открывай. Воду пускай. Смикитил?
– Смикитил.
Митя нажал педаль. Модель заурчала. Опять красный шарик вздуваться стал. Перед лицом зачарованной женщины.
– Перекрывай гидравлику.
– Понял, – крикнул парень, и аппарат затих.
– Ну, репарда у вас, конечно, нету… – сказал Митя грустно.
– Нету, – подтвердила женщина.
– Заколочку одолжите, – попросил Митя.
Она вынула заколку. Митя ткнул заколкой в шарик. Он с грохотом разлетелся. Все шло как по нотам.
– Это фантастика! – сказала женщина потрясенно.
Парень мигал огромными глазами сквозь очки.
Между тем день рождения Мити пребывал в довольно странном состоянии: он как бы уже и начался, но в то же время никуда не сдвинулся.
Гости неопределенно слонялись по квартире. Гостей прибавилось. Был тут и второй Митин коллега с женой. Подошел третий. Коллеги сгрудились вокруг стола с закусками, друг на друга не глядели, томились. Меланхолически перебирал клавиши Гоша Струйских – красивый седоватый мужчина, журналист-международник – старый друг дома.
Катины приятели все так же сидели на стульях вдоль стены. – Может быть, мы пойдем уже?.. – тихо спросил один из приятелей Катю.
– Тебе чего – не сидится?
– Сидится, – ответил приятель и замолчал.
– Может, есть хочешь? – опять спросила Катя.
– Да, – сказал приятель, по совсем не тот, которого Катя спрашивала.
– Сейчас жвачки дам, – пообещала Катя. – Струйских привез, с экватора.
Струйских перебирал клавиши, и, казалось, ему нравилось. Зажевали жвачку.
Тогда бабушка спросила:
– Это что?
– Это жвачка, – объяснила Катя.
– Дай пожевать, – приниженно попросила бабка.
И Катя дала. И сослуживцам дала. Только Струйских не взял. Не хотел. Жевали.
Тут звонок раздался.
– Слава тебе, господи! – сказала Света.
Пошла в прихожую.
Собака залаяла. Все оживились.
За дверью стоял Онаний Ильич Грибанов с супругой.
– Это мы, – сказал он громко.
Митя оживленно шагал по предвечерней улице. «Синдрома» с ним не было. Только пакет с шариками. Настроение поправилось.
– Гражданин конструктор! – закричали сзади, и Митя на всякий случай обернулся.
Размахивая руками, вытаращив увеличенные за очками глаза, за ним гнался парень из музея. Митя втянул голову в плечи и бросился бежать. Бежали по-спортивному. Споро. Потом дыхание у Мити начало сдавать. Пучеглазый чуть на него не налетел.
– Тебе чего? – спросил Митя.
– Вас просят вернуться… – задыхаясь, сказал парень.
– Вот, – сказал Митя решительно и показал кукиш…
– Гражданин конструктор! – опять сказал парень, догнав его вновь.
– Дар есть дар, – сказал Митя грубо. – Мое дело подарить. Ваше дело – дальше думать…
– Я хочу сказать… – начал парень, но Митя перебил:
– Подарки не отдарки. Соленая печать – назад не ворочать.
– Да не в этом дело… – пытался вклиниться парень.
– А в чем? – спросил Митя с вызовом.
– Вас сфотографировать требуют. На стенд. Фотография в экспозицию пойдет…
– О, мама дорогая… – грустно сказал Митя.
Но ему опять полегчало.
День рождения, в общем-то, катился. Уже бутерброды жевали. Пить, правда, не пили, но уже ели.
Говорил теперь Гоша Струйских, говорил негромко, но все слушали:
– Аллопатин, гомеопатии… Все хорошо, конечно. Все, в общем… мало… А вот полюбуйтесь-ка, Тибет… Дичь, скажете, юрты, кибитки, китайцы, нанайцы, – а медицина феноменальная… И глубоко интеллигентная… Нирвана. Полное отсутствие всяких эмоций… И все секреты у монахов. Древние книги, черная магия… Шутки-шутки, а это еще человечество посмотрит, где черненькие, а где беленькие… Вы нас черненькими полюбите… Ха-ха-ха!.. – Гоша поперхнулся бутербродом и закашлялся.
Катя несколько раз стукнула его по спине.
– Вот так в дыхалку заскочит, и каюк, – сказала Катя.
– Чего заскочит? – поинтересовался Гоша.
– А чего хочешь, – объяснила Катя. – И никаких монахов.
– Катя, не мешай, ради бога, – строго сказала Света. – Ну-ну, Гоша.
– Вопрос в том, как до них добраться…
– До кого? – вклинилась Катя.
– До монахов, – объяснил Струйских. – Больному Гималаи не одолеть, а монахи вниз спускаются редко…
– А вы как же? – опять спросила Катя. – Через Гималаи?
– Да, – сказал Струйских. – На вертолете.
– А вертолет откуда?
– Падишах дал.
– А падишах откуда?
– Мы с ним в теннис играем…
– Ясненько, – сказала Катя.
Между тем у бабкиного кресла тоже текла беседа. Светская. Бабка давала объяснения к фотографиям, которых развешано было видимо-невидимо – за креслами, от пола до потолка.
– …Это я в «Весне священной»…
Фотографии рассматривал Онаний Ильич с супругой. И Серафим Лампадов был рядом. На всякий случай.
– А рядом, вот, полюбуйтесь, Фокин… Танцовщик был не без полета, но человек тяжелый… Немирович, пожалуйста… Одевался всегда прекрасно… Он ничего был… Славный. Нет-нет, это не я. Но мы похожи были. Нас частенько путали. Это актриса Корша Катенька Полевицкая читает стихи Блока на смерть Веры Федоровны Комиссаржевской… А это, – это позднее уже… Это Митя… Димитрий Петрович… Вот под этой кадочкой… – бабка показала кадку под окном, – перед войной…
Милый какой! – сказала жена Онания Ильича.
– Да, милый, – сказала бабка и тяжело вздохнула.
– Головку чуть повыше!
Митя стоял у беленой стенки с «Синдромом» в руках.
– Склонитесь к агрегату… – попросили.
– Так хорошо? – спросил Митя.
– Хорошо.
Потом вспыхнул свет – на мгновение – яркий, и изображение застыло. Митя и впрямь был мил.
Бабка продолжала давать объяснения. Катя металась сзади.
– Это – узнали, конечно, – Федор Иванович… Ну, конечно же… Шаляпин…
Неужели Шаляпин? – спросила жена Онания Ильича. – Вы его близко знали?
– Довольно, – уклончиво сказала бабка. – Я его отлично помню: блондин, хорошего роста…
Большой талант, – согласился Онаний Ильич.
– Сгубил себя, – огорчилась его жена.
– В изгнании, – пояснил Онаний Ильич.
– Даже птице не годится жить без родины своей, – встряла Катя. Никто ей не ответил.
Митя стоял в автомате. Бросил монетку. Номер набрал.
– Катя! – сказал он в трубку. – Слава богу! Почему слава богу? Ни почему. Как мать? Печально…
Катя шептала в телефон:
– Это, отец, цирк какой-то, все сидят, тебя ждут…
– Кто сидит? – поинтересовался Митя.
– Твои из лаборатории. Профессор с женой…
– Ну?
– Васенька, Кирилл Сергеевич с женой, Лягин…
– Выпивают?
– Нет, тебя ждут…
– Лампадов там?
– Конечно.
– Бабка про Шаляпина рассказала?
– Еще как!
– Гоша про Хусейна?
– Какого?
– Короля. Второго. Хусейна второго.
– Нет, он сегодня про монахов.
– Молодец. Не штампуется.
– Ты едешь или не едешь?
– Лечу.
Митя вышел из будки. Вечерело. «Пора бы пить яванский ром, но силы все забрал „Синдром“», – опять подумал он вяло. Покрутил пакетом с шариками. И пошел.
– Эта пластинка… – опять сказали, – познакомит вас с тем, что такое стереофония…
Оркестр грянул. Все сидели тихо, умаявшись. Никто не разговаривал.
Катя услышала звонок. И собака залаяла. Никто внимания уже не обратил. Катя открыла дверь. Митя стоял на лестнице. Музыка гремела. Митя глядел невесело, устало.
Онаний Ильич качал в воздухе стопкой:
– …Хочу вспомнить сегодня одну старую притчу. Некий прохожий увидел в жаркий день усталых людей. Они таскали камни, изнемогая под тяжестью груза. И лишь один из них трудился радостно. «Что ты делаешь?» – спросил его прохожий. – «Я строю Шартрский собор», – сказал ему гордо человек, отирая нот. – «Но ты таскаешь камни?..» – недоумевал прохожий. – «Да, – ответил труженик, – но камни эти ложатся в стены собора, а значит, я строитель его». Митя свой камень в собор науки уже заложил. Камень – это я фигурально. Но «шарик Арсентьева» бьется во множестве гидроприборов. Я ценю в тебе, Митя, человека на своем месте.
– Обыкновенного человека – на своем обыкновенном месте… – поддержал Митя.
– Ну да, – сказал Онаний Ильич.
– Спасибо, – сказал Митя. – Очень мило. И про собор. Одну минуточку.
Митя потянулся к полке и достал книгу.
– Что это? – спросил профессор.
– Это, Онаний Ильич, «Стоматологические отклонения у детей дошкольного возраста». Шестое издание. Исправленное и дополненное.
– Понимаю, – сказал Онаний Ильич, ничего не понимая.
– А это, Онаний Ильич, – я. – И Митя показал профессору фотографию ребеночка, которому кто-то пальцем оттягивает щеку, а за щекой у него – два зуба. – Глава называется «Занимательные отклонения». У меня в этом возрасте совершенно не ко времени прорезались два коренных зуба. И не на том месте. Меня тогда снимали. Зубы потом выпали, а фотокарточка осталась…
– Митя, зачем это? – спросила Света устало.
– Занятно, – сказал профессор.
– Да, – подтвердил Митя. – Я был незаурядным ребенком. В этой книге меня называют феноменом. Мне иногда кажется, что шарик Арсентьева всего лишь малое следствие стоматологического казуса…
– Ну-ка, покажи… – заинтересовался Васенька, и Митя показал ему книгу.
– Это ты? – удивился Васенька.
– Я, – подтвердил Митя.
– Не ври, – сказал Васенька грубо.
– Вот те крест, – сказал Митя и перекрестился.
– Не богохульствуй, Димитрий, – сказала бабка и тоже подняла рюмку, – но это в самом деле он.
– Я, – подтвердил Митя мирно.
– Ноги балерины – ее карьера, – ни к селу ни к городу сказала бабка. – моя судьба…
– Бабушка, – протянула укоризненно Катя. – В такой день…
– В такой день говорить можно все, – сказал Митя.
– Что делать, Митя? – сказала бабка совсем туманно. – Да и ты не виноват. Такова судьба. Смирись, гордый человек, сказала я себе. А в тебе полюбила свою боль, утрату. И горбатые дети – для матери все дети. А ты, Митя, мне ближе сына…
Бабка умолкла так же внезапно, как начала. Никто ничего не понял.
– Будь здоров, Митя, – сказал находчивый Онаний Ильич, и опять все оживились.
Катя играла на пианино. Серафим Лампадов пел. Пел прочувствованно и с душой.
Слушали его внимательно. Все-таки трогательный старик. Похлопали.
– А теперь я, – сказал вдруг Митя.
– Ну почему же – ты? – спросила Лера.
– Ни почему, просто петь охота, – Митя протиснулся к пианино и встал на место Лампадова. – Катя, давай! – сказал он дочке.
– Может, не надо? – слабо спросила Катя.
– Надо, – сказал Митя, и Катя проиграла вступление.
Митя начал. Песня была довольно старая, популярная когда-то:
Или ты забыла
Кресло бельэтажа?
Оперу «Русалка»?
Пьесу «Ревизор»?
Дальше шло про «тихие аллеи сада „Эрмитажа“» и про «серьезный, тихий разговор». Митя пел, вошел кто-то и, не мешая певцу, тихо встал в дверях. Митя споткнулся на полуслове.
– Это кто? – спросил он в полумрак.
– Это я, – ответили оттуда, – Леша.
– Какой Леша? – спросил Митя. – Зажгите свет.
Свет зажгли. На пороге стоял плотный человек средних лет с мужественным лицом. Он был одет в кожаную куртку, одна рука – забинтована и торчала отдельно от человека, вроде наперевес. В другой был большой пакет странной формы, завернутый в оберточную бумагу и перевязанный бечевочкой.
– Леша? – удивленно спросил Митя и вдруг узнал.
Сидели на кухне друг против друга.
– Ах, сколько лет, сколько зим! – все повторял Митя. – После школы, постой, – это сорок третий… ай-ай-ай… А как же ты вспомнил?
– Да я книжку нашел. Старую. Там все дни рождения помечены. И ты. Крестиком…
– Крестиком?
– Крестиком.
– Жалко.
– Что жалко?
– Что крестиком. А что у тебя с рукой?
– Да так. По работе, – уклончиво сказал Леша.
– А где работаешь?
– Там же…
– Где – там?.. – спросил Митя осторожно.
– Миры – антимиры… Эффекты, в общем.
– Эффекты?
– Ну да. Мирные. Надмирные. Чертовщина.
– В каком смысле?
– В прямом. В основном в театрах, – охотно объяснил Леша. – Пиротехника. Трюки.
– Смурная работа, – посочувствовал Леша.
– Денежная?
– По-разному, – сказал Леша. – Сдельная. Тяжело.








