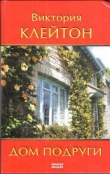Текст книги "Белый Бурхан"
Автор книги: Геннадий Андреев
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 52 страниц)
Суета сует? Но только ли она одна виной, что все переменилось в душе? Может, разочарование и апатия рождены другими причинами? К примеру, ложностью избранного им пути, оказавшегося неожиданно сложным и труднопреодолимым?.. Боже упаси и помилуй!.. Просто, у него нет больше сил для черновой и неблагодарной работы, нет желания браться за то, что ему заведомо не одолеть…
На запросы и многочисленные письма консистории и начальника духовной миссии, приходившие с оказией, отец Лаврентий давно уже не отвечал, рассудив, что зимой до него бийские и томские духовные власти не доберутся, а к весне, глядишь, и само по себе все как-то утрясется и уладится… В крайнем случае, можно будет самому съездить и с глазу на глаз объясниться с преосвященным и викарием, доказать, что не так уж и медово ему живется в этой окаянной тьму-таракании, куда его затесали неизвестно за какие прегрешения… Можно и на колени бухнуться, лба не жалея, воздев руки горе и возопив: «Владыко! Не пора ли праведный гнев сменить на вселенскую милость? Пусть уж кто помоложе и посноровистее испробует теперь горький и соленый миссионерский хлебушко, а меня уволь, ради Христа, от каторги сей! В Россию хочу, пока не озверел и не оброс шерстью, яко зверь! К русскому люду православному, к сладостной бестолочи крестьянской и мастеровой…»
Неужто не дрогнет сердцем преосвященный, истосковавшийся по родным весям не менее, ежели не более, чем он, в этих окаянных тундрах?
Часто отцу Лаврентию во время таких одиночных прогулок попадался Дельмек, дивным образом избежавший купели. Теперь он не выказывал ни страха, ни почтения, хотя, в свое время, бежал в горы именно из-за настойчивости попа. Дельмек не окликал его, не выходил навстречу, лишь молча провожал глазами.
Иерей видел, что Дельмек вхож в любое жилище язычников, где охотно присаживался у огня со своей трубкой и не столько говорил со своими соплеменниками, сколько молчал. Но это его молчание было красноречивее любого разговора: даже взгляду его верили, даже жест воспринимали как приказ! Вот такого бы помощника заиметь отцу Лаврентию… Может, попытаться? Но как выйти на прямой разговор, с какого конца подступиться к нему?
Когда-то это было просто для священника. Остановить, снисходительно оглядеть сверху вниз или снизу вверх (в зависимости от настроения) и спросить, с непременной оскорбительной вставкой, о здоровье, о мыслях, о самочувствии. А сейчас этого никак нельзя! Отец Лаврентий видел, что по своему положению среди теленгитов Дельмек занимал такое же, если не более высокое место, чем он среди своих прихожан… Неожиданно Дельмек просто-напросто стал недосягаем для него. И это было, пожалуй, самым болезненным ударом по самолюбию.
И все-таки им пришлось столкнуться…
Нагулявшись до озноба, отец Лаврентий подошел к одному из костров, горящих рядом с жилищем, протянул к огню негнущиеся от холода руки. Приятная истома живого тепла окатила его тело, он прикрыл глаза от наслаждения и, кажется, пошатнулся. Тотчас с одной стороны к нему протянулась фарфоровая чашка с каким-то питьем, а с другой – курительная трубка: Иерей уже знал, что так, по обычаю, язычники встречают у своего огня гостей.
– Благодарю вас, дети мои…
Слова выпали машинально, без всякого умственного или волевого усилия и почему-то на этот раз испугали иерея:
– Я на минуточку, я сейчас уйду…
Ему отозвался знакомый голос Дельмека:
– Это арака, поп. Она чистая. Пей.
– Дельмек?!
– Да, это я, поп. Выпей араку, она согреет тебя, и ты не будешь болеть. Я сам наполнил чашку из тажуура.
Отказаться было невозможно. Священник принял чашку, всплеснув часть содержимого в огонь (руки плохо слушались), отпил глоток, с трудом проглотил обжигающую горло жидкость, повторил глоток и уже с меньшим отвращением допил чашку. Возвращая сосуд, удивился, как быстро, почти мгновенно, хмель ударил в голову и сразу же развязал язык:
– А сивуха-то – неплоха! А?
– Да-да, – охотно отозвался Дельмек, – греет сразу… Начало клонить в сон, но отец Лаврентий сделал над собой усилие и встряхнулся. Все как-то переменилось: и пламя костра стало добрее и уютнее; и люди, сидящие возле него, уже не походили на чуждых и непонятных; и Дельмек, недавний глухой супротивник, с дымящейся трубкой во рту, не казался упрямым и тупым, как прежде.
– Ну, как живешь, Дельмек? – спросил иерей без всякого интереса. – Ты ловко стал говорить по-русски.
– Хорошо живу, поп. Доктор не ругает, хозяйка не ругает, ты тоже больше не приходишь меня ругать… Хорошо теперь живу!
– Весной опять уйдешь в свои горы? Ты же только зиму перебыть к доктору пришел!
Дельмек смущенно отвел глаза:
– Нет, поп. В горы я больше не пойду. Тут жить буду… Грамоту учу, буквы… Научиться надо!
Это для иерея была уже новость! Кто же его учит русской грамоте? Уж не сам ли доктор решил расширить сферы своей культуртрегерской деятельности? Модная в свое время тактика «малых дел»? М-м… Как говорится, чем бы дитя ни тешилось…
– Принял бы крещение, отправил бы тебя в настоящую школу! – упрекнул Дельмека иерей.
– Я и с косичкой уже все буки знаю! И веди и глаголь!
– Там бы из тебя толмача могли сделать, священника, как Чевалков… Служил бы государю, как сыр в масле катался!
– Нет-нет! – взмахнул Дельмек трубкой. – Твой бок Христ мне не нужен! У меня теперь свой хороший бок есть!
– Кто же? – нахмурился священник. – У вас этих богов, что мухоморов в лесу: Ульгень, Кудай, Алтай, Эрлик…
– Нет, у меня совсем новый бок! Хороший и сильный! Белый Бурхан!
– Кто?! – не то испугался, не то растерялся отец Лаврентий. – Разве он бог? Он такой же сатана, как твой Эрлик!
– Белый Бурхан – хороший бок, поп! – сказал Дельмек убежденно. – Самый честный и сильный!
Какую-то секунду иерей находился в трансе. Разговоры о Белом Бурхане и его друге хане Ойроте затихли еще осенью, перед первым снегом. Откуда же сызнова взялся этот тибетский дьявол?
– Разве он еще в горах?
– Весной воевать будет, – кивнул Дельмек, не вынимая трубки изо рта. Хан Ойрот уже собирает себе воинов… Шамбалу будем воевать у русских!
«Господи! – ужаснулся Широков. – Говорит как о деле решенном… Неспроста все затихло по осени!.. Надо кого-то гонцом в епархию посылать, а может, и самому ехать в великой срочности!»
На стук священника открыла жена Панфила Ольга. Изумленно охнула, сгребла в кулак батистовую кофточку на роскошной груди, взметнув черные дуги бровей на круглом, пылающем румянцем лице:
– Боже ж мой! Панфил!.. Я счас!..
«С греха плотского поднял, – злорадно отметил иерей, оценив растерянность и смущенье бабы по-своему. – Ишь, как взвинтилась, похотливая!»
Загребая ногами половики, прошел в прихожую, метнул руку в крестном знамении на медную иконку, ухмыльнулся: «На том и прижму вас, паскудники!»
Панфил вышел в нижнем белье, зевнул нахально:
– С какой такой докукой, батюшка?
– Прикрой срам! – прикрикнул поп. – Я тебе не твой брат-дыромолец, перед которым можно, как на ведьмином шабаше, голым плясать!
Панфил изумленно присел на скамью:
– Э-э… Лаяться-то, батюшка, зачем?
– Крестили в проруби своих?
– Была Иордань. По уставу. Откуда прознал-то?
Смел, дерзок, священнослужителя православного и в грош не ценит… Что случилось-то с ним, давно ли овцой блеял?
– Бурхан пришел!
Панфил вскочил. По его лицу пошли багровые пятна.
– К-когда? – спросил он, заикаясь. Чуть опомнился, заорал: – Ольга! Мчи за Капсимом! Вместе с дырявыми валенками тащи его сюда немедля!
Иерей рухнул на колени тяжело и гулко, ударил нежданным фальцетом в уши:
– Господи!! Праведный!! Милостивый!! Спаси нас, рабов твоих, червей вонючих, не достойных и имя твое поминать!.. – Покосился через плечо на Панфила – встал или не встал на колени. Встал, двумя перстами с большого разгона в лоб влепился. – Твои сыны во мраке неверия, господи! – И тотчас стремительно встал, уронил сокрушенно: – Не слышит нас господь… Глух…
Панфил судорожно рванул рубашку, посыпались мелкие белые пуговки, звеня, как бусы. Поднялся, шатаясь и мотая головой. Лик перекосился, глаза бегают, посиневшие губы трясутся. Хотел что-то спросить у священника, не смог – спазма сдавила горло.
– Требы-то хоть исполняли в должной строгости?
– П-п-поменяли… По «Листвянице» – шибко тяжелы! От своего ума поправили, от скудоумия… – Панфил развел руками. – Себя щадил, братьев и сестер по вере… Думал, как сподручнее и полегче Спаса обмануть… Господи! Грех-то какой…
Отец Лаврентий прикусил губу. Далась им, дуракам, эта рукотворная библия, переделанная из «Лествицы, возводящей к небесам»! Не для них ведь был писан тот труд монахом Синая![159]159
Священник имеет в виду сочинение игумена Синайского монастыря Иоанна Лествичника, жившего в VI веке. Оно состоит из 30 бесед о 30 различных степенях духовного восхождения к совершенству. Было известно как наставление для монахов. (Примечания автора.)
[Закрыть]
– Значит, в царство божие хотели на конях въехать, а не пешком прийти к престолу господню? – зло и с ненавистью спросил поп. – Себе – облегчение для греха, а господу труд тяжкий – разбирать оные? Срамцы! Нечестивцы! – Он пошел к выходу, снова зачерпнув домотканые половики ногами. – Анафема вам! Горите в срубах!
Едва за священником закрылась дверь, как Панфил пластом рухнул на пол, заколотил лбом в гулкие доски, обливаясь слезами:
– Прав был Капсим! В отступ надо было идти, в новину убегать! В могучий и вечный схорон забиваться! Прозевали Анчихриста! Проспали с женами в обнимку дьявола! Молитву и ту не приемлет господь!
Пришел Капсим, бухнулся рядом – в азяме с веревкой и шапке, завыл на высокой ноте:
– Помилуй, Спасе, проклятущих жадин мирских! Прими мою молитву души, не отринь ее!
Жена Панфила, побледнев, упала следом, еще на пороге:
– Избей, Спасе, каменьями блудницу вавилонскую!
В этот день было удивительно безоблачное небо. И мороз тоже был удивительным: на термометре доктора, поставленном за окном с двойными рамами, он опустился ниже тридцати градусов. Для гор это не редкость, а вот в долинах за последние пять лет такого еще не случалось.
Накануне была оказия, и Федор Васильевич получил шесть хороших писем и восемь пакетов денег. Суммы, правда, были небольшими, но разве суть в самих рублях?
«Прочитал вашу публикацию в газете. Я – человек небогатый и многим Вам не смогу помочь…». «Простите, что нищ. Но я возгорелся вашей статьей и решил, что на возрождение умирающего края…». «Вы – герой! Я бы не решилась столь долго и столь тщетно вершить Ваш подвиг. Посылаю все, что могу…»
– Как Христу пишут! – Гладышев снял пенсне и смахнул мизинцем влагу в уголках глаз. – Нет, святой отец, вы ошиблись! Не милостью господней и не снисходительностью вашего епархиального начальства будет возрожден к жизни сей народ…
Он распечатал пакеты с деньгами, пересчитал полученные суммы. Мало, конечно. Меньше, чем ожидал. Но начинать можно и с таких грошей: купить лес в конторе Булаваса,[160]160
Управляющий имением царствующего дома на Алтае. (Примечания автора.)
[Закрыть] нанять плотников…
– Галя! – позвал он жену. – Ты почитай, что мне пишут! Это же счастье… Нет, мы не прозябаем здесь, как это кому-то кажется! Мы здесь живем и работаем! Да-с! Работаем и живем!
Для Федора Васильевича этот обычный день оказался праздником. Что там рождество! Что там елка, огни и вино!
Он схватил жену, закружил ее по кабинету, топая ногами так, что пенсне на его носу прыгало, грозя соскользнуть, грянуться об пол и разбиться вдребезги.
– Ты как ребенок! – смутилась Галина Петровна, выбираясь из объятий мужа и показывая глазами на порог, где стоял смущенный и растерянный Дельмек.
– Будет у нас больница! Будет, Дельмек! Давай, веселись вместе с нами! Ой-ля, гоп-гоп!..
– Времени нет, дрова рубить надо!
Дельмек прошел к столу, выгреб из кармана горсть серебра, высыпал прямо на бумаги и письма доктора.
– Что это? – нахмурился Федор Васильевич.
– Деньги на больницу. Я немного собрал в аилах. Больше нету ни у кого, последнее отдали… – Постоял, переминаясь с ноги на ногу, потом забрался куда-то под шубу, выгреб еще несколько золотых и серебряных монет, прибавил к общей кучке. – А это – моя доля… На трудный день берег! Возьми, пожалуйста… Пусть будет у алтайцев своя больница.
Федор Васильевич сделал шаг к столу, положил ладони на плечи парня, осторожно сжал:
– Спасибо, Дельмек, за помощь…
Нога в ногу. Сапог в сапог.
По топтаному снегу шел Капсим к своей проруби… Старые книги говорили, что все великие крестители изнуряли себя голодом, хладом и жутью жизни. Он малый креститель. И сейчас остался совсем один: за все труды общинники расплатились с ним только новой шубой, сапогами, горстью медных денег и двумя мешками крупы на кашу. А Панфил, став краснобаем и исступленно верующим, чуть не всю братию из нетовских толков увел к попу. И те ушли, испугавшись не столько грядущих казней, сколько нынешних бед, могущих грянуть на их дворы в любое мгновенье…
Но – свят крест горе вознесенный!
Свят крест, приложенный к иссохшим устам. Но – не поповский, а спасов, что сияет в окне на восходе!
Прорубь почти занесло. И новый лед, наверное, уже не продавить ногой, а пешни у Капсима нет. Да и зачем ему испоганенная безверием Иордань?
Его сделали уставщиком общины.
На один день.
Потом все рухнуло… Нет больше общины, нет устава, ничего нет! Потому и лик Спаса поутру был виден в сумраке. Потому и он обмирщен супостатами…
Все попрано и изгажено никонианским срамником – и святость дедовской истины и благословенность корабля, ушедших в схорон и схиму…
О, господи!
Капсим – нищ. Был и остался. Но душа его – богата!
Кто-то опустился рядом, тяжко вздохнул.
Капсим поднял голову:
– Аким? Ты зачем пришел к проруби, Аким?
Ни звука в ответ.
Капсим всмотрелся: стынут слезы на глазах у мужика, трясутся губы от обиды, холодно и зло выпуская слова:
– Жена Дуська ушла. К Софрону, крестнику моему…
Капсим снова опустил голову, глядя в застывшую Иордань. Плохо топил Аким Софрона в ней! Надо было совсем утопить блуда!
– Ладно, Аким! Мы-то с тобой – тверды в вере!
– Тверды, Капсим…
Успокоил нищий нищего – посох передал… Да-а… Как жить-то до весны, чем? Ведь жить-то надо наперекор всему!
– Можа, в Беловодию уйдем с тобой? В Синегорию, тово?
Хмыкнул Капсим, вспомнив глупые свои берестяные писанки, которые сам сжег на загнете печи. Всколыхнулся было душой от смеха, да только слезы обиды и горечи закипели на глазах… Малое дитя, чему верил-то столь истово? Зачем?
– Нету их, Аким. Ни Беловодии, ни Синегории.
– Как – нету?! – поднял тот изумленные глаза. – Люди-то их ищут! И деды наши искали, и прадеды!
– Зря искали.
Прав Капсим! Никто не наготовил для таких, как он, бедолаг, земель обетованных!
– Самим нам надо, Аким… Самим! Своимя руками.
Глава десятаяПРОЩАЛЬНЫЙ ПЕРЕВАЛ
Натерпелись страхов Яшканчи и Сабалдай из-за песен Курагана, пока добрались до Кош-Агача! Ничто не действовало на кайчи: ни предупреждения Хертека, ни постоянные стычки с Хомушкой и Бабинасом, ни откровенный пристальный интерес русских верховых к их группе, в которой было мало скота, но много погонщиков. В любой момент Курагана могли арестовать и отправить обратно, привязав повод его коня к седлу…
Яшканчи знал, что надо сделать, но не решался высказать этого вслух. Решил посоветоваться с Хертеком или Доможаком, но те как сквозь землю провалились, оторвавшись от них на подходе к ярмарке. Вздохнув, Яшканчи подъехал вплотную к Курагану, шепнул:
– Твой топшур выдает всех нас. У него слишком громкий голос!
Кураган непонимающе посмотрел на друг отца:
– Я и хотел, чтобы у моего топшура был громкий голос! Зачем говорить шепотом?
– Твой топшур надо сломать! – сказал Яшканчи мрачно.
– Плохо говоришь, дядя Яшканчи, – смутился Кураган, – совсем плохо… Он хотел отвернуть коня в сторону, но Яшканчи не отпускал луку его седла. Я хочу поехать вперед, к отцу!
– Подожди. Твой топшур мешает нам всем! У него не только громкий голос, но и длинный язык…
Кураган вспыхнул и отвернулся. Он понял, что друг отца и сам отец боятся за него. Боятся Бабинаса, Хомушки, русских…
– Я не буду ломать свой топшур, дядя Яшканчи.
Яшканчи снял руку и послал коня плетью вперед.
Сабалдай стоял на берегу небольшого ручья, прикрытого прозрачным льдом, и с удивлением смотрел, как среди разноцветных камней шныряли юркие рыбешки.
– Пугать жалко, – сказал он виновато. – Лед тонкий, конь легко проломит его, а эти рыбы разбегутся…
Яшканчи покачал головой: вот и лучший его друг впал в детство… Рыб ему жалко пугать! А собственного сына ему не жалко?
– Скажи Курагану, чтобы он больше не пел своих песен. Это опасно… Я уже говорил ему, чтобы он сломал топшур. Обиделся на меня…
Сабалдай удивленно посмотрел на Яшканчи.
– Если птице завязать клюв, она умрет!
– Птица тоже не всегда поет…
А вечером, когда они зажгли свой последний костер, Яшканчи сам попросил Курагана спеть. Сабалдай покачал головой, он только что говорил с сыном, и тот обещал не снимать больше топшура с коня, пока они не вернутся домой.
Но Курагана просьба Яшканчи обрадовала: у него была готова новая песня, и ему не терпелось поделиться ею с другими.
Сабалдай понял Яшканчи, поник головой, спросил тихо:
– Ты хочешь сделать моему сыну больно?
– Я хочу спасти его от тюрьмы! – так же тихо отозвался Яшканчи, отвернувшись от огня, чтобы старый друг не заметил, как налились влагой его глаза. – Я хочу, чтобы мы все вернулись домой…
Тихо вздрагивали звезды, обещая неустойчивую погоду. Некоторые из них были плохо прибиты к небу, срывались и, прочертив огненную полосу, исчезали. Яшканчи знал, что в это время поздней осени небо всегда теряет свои звезды, которых слишком много назрело за длинное лето. Полетели звезды – скоро полетят и белые мухи, чтобы до весны закрыть землю белой кошмой.
Вернулся Кураган, забренчал по струнам, глядя поверх костра. Сейчас он споет еще одну свою песню. Может быть, последнюю, которую услышит Яшканчи…
Белая метла неба заметает горы,
Заметает страданья и боль многих!
Она хотела бы замести и живое,
Но против костров сердец бессильна
Эта метла зимы!
Прикрыл рукой глаза Яшканчи. Первые же слова кайчи нашли отклик в его душе, и она кричала, сопротивлялась тому, что он и Сабалдай задумали… Старик прав: нельзя птице завязать клюв, чтобы она не пела своих песен! Но если песня выдает птицу врагу? И этот враг уже нацелился в ее сердце?..
Кураган поднял глаза, полные того огня, что горел в его душе всю эту осень. Он сейчас никого не видел и не слышал:
В черной ночи горят живые огни.
Но их зажгли сами люди, а не небо.
И черная метла зимы и ночи
Не в силах теперь загасить эти огни
Огни наших сердец!
Долго пел Кураган, но не было в этой его песне упоминаний о хане Ойроте и Белом Бурхане, которые идут спасать людей Алтая от беды и горя на своих крылатых белых конях. Сегодня Кураган не пел о них! Сегодня он пел о непобедимой силе людей, которые могут и должны сокрушить не только зиму и морозы, но и любую злую силу земли и неба! Любую силу, какой бы злой и беспощадной она ни была, как бы ни кралась к людям из-за каждого куста и камня…
– Дай мне твой топшур, Кураган.
Яшканчи встал, осторожно выпростал из рук кайчи его инструмент и молча сунул его в костер. Просохшее и промаслившееся дерево вспыхнуло яркими языками огня. В первое мгновение Кураган ничего не понял, потом вскочил, рванулся к костру, но Сабалдай молча оттащил его и усадил рядом с собой.
– Так надо, Кураган! – сказал Яшканчи твердо. – Тебя ищут на всех дорогах по этому топшуру! Теперь топшура нет, и тебя не найдут.
Кураган снова вскочил:
– Я сделаю другой топшур, еще больше и громче этого!
На ярмарке Яшканчи был больше ротозеем, чем покупателем или торговцем. Продавать ему было почти нечего, а покупать не на что. Да и Сабалдай не нажился на своем скоте, шерсти и шкурах. Цены были низкими, но продавать пришлось – не гнать же назад по зиме истощавших овец и быков такую даль!
К вечеру первого дня неожиданно повезло Яшканчи: он обменял своих овец на китайские шелковые ткани, а те продал за новые русские монеты, выпущенные после реформы.[161]161
Имеется в виду реформа 1897 года, проведенная С. Ю. Витте. (Примечания автора.)
[Закрыть] Их охотно брали все купцы на ярмарке и ценили очень дорого, не обращая никакого внимания на разноцветные бумажные деньги. Даже Сабалдай и тот позавидовал удаче друга:
– В купцы-чуйцы тебе надо идти, Яшканчи! Какой ты пастух?
Решили сделать покупки для дома, но это оказалось еще труднее, чем выгодно продать что-либо! Все нужно для семей, а денег и на половину не хватало. Сабалдай измаялся, загибая пальцы один за другим сначала на правой, потом и на левой руке:
– Ситец надо? Надо. Сапоги новые надо сыновьям и снохе? Надо. Жене новый чегедек надо? Надо.
Пересчет этих «надо» остановил Яшканчи:
– Лучше ружье купи. Зимой от волков будет чем отбиться. И не только от волков…
Только начавшись, ярмарка шла к закату.[162]162
М. Чевалков – один из первых алтайских интеллигентов, получивших образование в миссии. Был помощником при переводе богослужебных книг архимандритом Макарием. Сам написал ряд оригинальных произведений на алтайском языке. Прослужил в миссии свыше 30 лет, был отмечен золотой медалью и возведен в сан священника. Сотрудничал с выдающимся ученым Г. Н. Потаниным.
[Закрыть] Уходили крупные стада и табуны, стремительно падали цены на оставшийся скот. Однажды Сабалдай и Яшканчи были свидетелями, как дородный и глупый мужик из кержаков орал на обступивших его разношерстных покупателей, уводивших стада за Курай:
– Разве у вас кони энто? У вас бараны! Вота – кони! И показывал рукой на своих рысаков, которые ростом и статью ничем не отличались от обычных монголок. Покупатели посмеивались и не спешили протянуть деньги. Неожиданно в этот гомон вмешался другой кержак:
– Ты поздно пригреб сюды, Кузеван! Все уже распродано и раскуплено!
– Не встревай, Макар! Ты свое сгреб, теперич – моя очередь!
Их мирная перебранка переросла в ссору и едва не закончилась потасовкой на потеху всей ярмарки, если бы не вмешалась крепкая русская баба, набросившаяся на Кузевана с кнутом.
Курагана они нашли возле мастера и продавца музыкальных инструментов. На кайчи было жалко смотреть – перед ним лежали шооры, комузы, домбры, свистульки всех видов, но топшуров не было. Хотя покупной инструмент, сделанный хоть и мастерскими, но чужими руками, это совсем не то, что сделал бы сам кайчи. Был бы голос-помощник, а петь его кайчи всегда научит!
На вопрос Яшканчи, заданный шепотом, мастер развел руками:
– Был топшур! Хороший топшур был, старый… Купили.
На Курагана Яшканчи смотрел виновато, но чем мог – утешал, бормоча растерянно и неопределенно:
– Ты – хороший кайчи, Кураган. Ты можешь петь свои песни и без топшура. Русские кайчи все свои песни рисуют на бумаге…
– На бумаге? – улыбнулся Кураган сквозь слезы и помотал головой: песню нельзя нарисовать! Песня, как птица, должна лететь…
Шла пурга. Это Яшканчи определил по замершим вдруг деревьям, их внезапно опустившимся сучьям. Медленно ползущий по земле страх начал закрадываться в душу. Пурга – это всегда плохо. Сильный ветер, мороз и снег, летящий не клочьями, а охапками в два мужских кулака, легко сбивает с ног не только путника, но и всадника.
– Что делать? – спросил Яшканчи у облепленного снегом Сабалдая, подъехавшего к нему. – Замерзнем! Где Кураган?
– Тут был… Пещеру надо искать, Яшканчи. Дыру в горе.
– Ничего не видно, где ее искать?
Яшканчи спешился, повел коня в поводу, проверяя расщелины одну за другой. И хотя их было много, ни одна из них не могла надежно укрыть не только трех коней, но и одного человека… Может, за выступом какой скалы укрыться и разжечь костер? Бесполезно: сильный ветер раскидает головни и устроит зимний лесной пожар, если вообще даст заняться первому пламени на бересте!
Теперь и Сабалдай отстал. Курагана искать поехал?
Настоящая пурга всегда начинается внезапно: упадет тяжелым ветровым пластом вниз, придавленная морозом, ослепив и оглушив белыми вихрями и свистом, закладывающим уши. И сейчас так – сразу померкло все, ветер стих неожиданно, как и поднялся, началась спокойная, убаюкивающая, страшная в своей монотонности круговерть: будто кто-то метет и метет большим помелом, выметая мусор из большого аила.
Яшканчи стало жарко, и он понял, что замерзает. Окостеневшее лицо и негнущиеся даже в локтях и коленях руки и ноги сделали его беспомощным, почти неживым, хотя сердце стучало, а глаза застилали слезы, сразу же намерзающие на ресницах и щеках…
«Нет-нет! – содрогнулся он. – Только не здесь… Только не сейчас… Ведь Кайонок еще такой маленький… О, Кудай! Помоги мне!»
И тотчас произошло чудо – скалы разошлись, образовав широкую щель, в глубине которой оранжевым лохматым пятном метался в вихрях снега жаркий и спасительный костер, вокруг которого топтались люди.
Яшканчи на негнущихся ногах направился на огонь, упал, споткнувшись о камень. Сильные руки подхватили его, поставили, подтащили к огню…
– Ну, счастлив твой бог, Яшканчи! – покрутил головой Доможак, разгибая его ледяные пальцы, чтобы втиснуть в них стеклянный граненый стакан с белой жидкостью на самом дне. – Хорошо хранят тебя, пастух, духи гор!
Подъехали Сабалдай с Кураганом, превратившиеся за эти полторы или две версты в сосульки: у старика отвис и побурел нос, а борода стала похожей на ком снега; парень непрерывно хватался за лицо, уши, нос, дрыгал ногами, будто хотел с них сбросить что-то тяжелое и липкое…
– Обморозились? У меня есть жир, – сказал Хертек, – мы им часто пользуемся в наших горах…
– Жир не поможет, – буркнул Доможак, – помогут только огонь и кабак-арака!..
За обломками скал царствовала непогода, а здесь было тепло и тихо. Уютно посапывал чайник, готовый закипеть. Дымили трубки в зубах. После выпитой кабак-араки у всех на душе было спокойно и печально.
– Спел бы ты нам, кайчи! – попросил Доможак. – Душа плачет по семье…
– Топшура нет, – хрипло обронил Сабалдай, – сгорел топшур. А новый мы купить не успели, кто-то нас опередил…
Доможак усмехнулся и протянул сверток:
– На, кайчи, возьми. Дарю тебе его на память.
Кураган схватил подарок, из глаз его брызнули слезы, которые он поспешно смахнул рукавом шубы.
– Спасибо, дядя Домоке! – прошептал он.
– Лучшая благодарность – песня! Пой, кайчи! Кураган положил ладонь на струны, сгорбился, как старик, упал головой на грудь. Сидел долго, не двигаясь. Потом выпрямился, зорко глянул куда-то вдаль…
Я пощупал смерть своими руками.
Она – холодна, постыла и не имеет лица.
Но я не боюсь ее, глупую,
Не она дает мне жизнь, хотя и отнимает ее…
Люди слушали и не верили, что у топшура всего две струны: они рычали, плакали, заливались смехом, стонали и кричали от боли и ужаса, тоски и надежды…
Мои черные, серые, красные горы
Видели все, что могут увидеть глаза.
Но они никогда не обливались слезами
И не видели слез на наших глазах…
Это была самая короткая песня Курагана, и Яшканчи даже не удивился, когда она кончилась:
Я умру, может быть, и исчезну навеки,
Но огонь моей жизни вспыхнет в душах других:
По яйлю идут и текут мои овцы
По Алтаю течет и бурлит моя кровь!
– Ты молодец, Кураган! – сказал Хертек глухо. – Но ты не знаешь настоящих песен. Тех песен, что заставляют браться за меч, чтобы сокрушить подлецов и паразитов!
Кураган растерялся, потом взглянул на друга отца, смутился:
– Я пел такие песни, но дядя Яшканчи сказал, что за них меня могут посадить в тюрьму, и сжег мой топшур!
Хертек пристально и осуждающе посмотрел на Яшканчи:
– Зачем мешать кайчи? Пусть поет!
– Но такие песни сейчас петь опасно! Повсюду шныряют русские стражники и люди в виде Бабинаса и Хомушки!
– Такие песни всегда было петь опасно! – резко сказал Хертек и коротко взглянул на жену, которая ждала его в Кош-Агаче и теперь присоединилась к мужу и его друзьям. – И стражники всегда ловили тех, кто пел такие песни! Значит, эти песни страшны для них? Они их пугают?
Яшканчи хмыкнул. У него не было слов, чтобы ответить Хертеку. Но у него был жизненный опыт, и он заставлял думать, что лучше Курагану не петь опасных песен!
Пурга улеглась, но мороз продолжал терзать почти голую землю. Если он продержится до вечера, то зимой пастухам можно не выгонять свой скот на тебеневку в эту долину – трава вымерзнет и даже будущей весной вряд ли поднимется снова. Слишком высоко поднята эта земля к небу, а небо всегда дышит холодом…
У переправы через Катунь долго ждали паромщиков. Людей на берегу было мало, и они не хотели гонять лишний раз свою посудину по канату, не забив ее до отказа.
На обоих берегах пылали костры. На них разобрали и ту русскую избу, где друзья провели первую ночь после встречи.
«Вот и еще один след человека навсегда стерт с лица земли! – подумал Яшканчи, и ему стало грустно. – А разве много их оставляет человек? Когда-то аилы в долинах лепились один к одному, как ласточкины гнезда, а теперь и одного жилища на много верст не найдешь!»
А что может быть драгоценнее памяти? Только сама жизнь!
И хотя след человека на земле зарастает почти сразу; и хотя даже могилы его недолговечны – пока не упадет дерево или не рассыплется груда камней память переживает века. На алтайских обжитых долинах, берегах рек и склонах гор встречаются сеоки, корни которых уходят в древнетюркские времена; есть семьи, которые помнят своих дедов и прадедов до седьмого и даже двенадцатого колена! И не только их имена, но их дела, что много важнее – только большим трудом и добрыми делами может обессмертить себя сам человек!
Потому и история народа оседает в его песнях, легендах и сказаниях, причудливо переплетаясь с фантазией и выдумкой каждого кайчи и сказителя. Сразу и не найдешь, где конец одной легенды и начало другой… У каждого кайчи – свой кай, у каждого сказителя – своя сказка!
Хертек прав: пусть Кураган поет свои песни, хотя это и опасно. Но, если песни Курагана подхватят другие кайчи, они никогда не умрут, хотя сам певец может и погибнуть из-за подлости и коварства того же Хомутки, того же Бабинаса, подобных им негодяев и подлецов…
К Яшканчи подошел Хертек, сел рядом. Долго смотрел на пляску огня в костре, потом спросил взволнованно и глухо:
– Ты не знаешь дороги к Белому Бурхану?
– Нет, Хертек. Но я знаю людей, которые выполняют его волю.
– Как их найти?
– Их не надо искать. Они сами находят нужных им людей.
Яшканчи вспомнил стычку на дороге, когда Хомушка сказал, что Хертека ловит Тува. За что может Тува ловить Хертека? На разбойника он не похож…
– Почему тебя ловит Тува, Хертек?
– Потому, что я не Хертек, Яшканчи. Я был батором Самбажыка. И срубил много дурных голов с жирных и толстых баранов…
Яшканчи кивнул: он слышал имя Самбажыка от отца. Но что было за этим именем? Почему Адучи тогда произнес его с искренним уважением?
На том берегу забеспокоились. Паромщики сняли оградительную жердь и подняли желтый флажок.
– Я не знаю дороги к Белому Бурхану и хану Ойроту, Хертек, – вздохнул Яшканчи, неохотно поднимаясь с насиженного места, – но я знаю людей, которые приведут тебя к ним. Для этого тебе придется проводить меня до Терен-Кообы.
Теперь все шестеро были почти одни на бесконечной дороге. Лишь иногда им попадались встречные всадники, идущие наметом. Но они вряд ли торопились к верховьям Чуи, где уже все закончилось неделю назад. К тому же, они были похожи друг на друга, как монеты: в коротких меховых куртках, перехваченных широким поясом, с неизменным ружьем за плечами, в шапках с кистями.