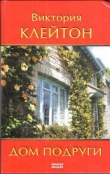Текст книги "Белый Бурхан"
Автор книги: Геннадий Андреев
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 52 страниц)
НОВООБРАЩЕНЕЦ
Торкош не стал утруждать себя поисками жилья. По совету работников-алтайцев, живущих у Лапердина, он занял пустующее уже три зимы кое-как сложенное неуклюжее строение пастуха Сабалдая, на самом краю Бересты. Осмотрев его, Торкош повеселел: если немного подправить, то зиму будет легко и просто обмануть, не кланяясь в пояс хитроумному старику Игнату.
Одолжив за два рубля телегу у кержака Лариона, Торкош съездил в лес, наломал сушняка, набрал несколько мешков сухих шишек, надрал березовой коры, надергал охапку соломы из прошлогоднего стога и в один вечер соорудил себе очаг и постель. Потом, переночевав на голодное брюхо, отправился поутру в лавку. Но там лавочник Яшка сразу же огорошил его отказом:
– Будешь у отца или брата в работниках, тогда будет тебе и кредит на харч! А так – катись колесом!
– Какой кредит? – удивился Торкош. – Каким колесом? У меня деньги есть!
Десятку Яшканчи Торкош уже почти всю истратил, пришлось с дрожью в душе начать трату денег Техтиека. Увидев красненькую, Яшка недоверчиво посмотрел ее на свет, покрутил головой:
– Жирно живешь! Я уж и не помню, когда в чужих руках такую крепкую деньгу видел!
У себя дома Торкош все расставил по своим местам: бутылки в один угол, еду – в другой, табак и кисет засунул в карманы, сдачу вместе с остальными деньгами – в специально выкопанный тайник. С этого дня он зажил припеваючи – куда лучше, чем там, в лесном своем, жилище, где его кормили и поили пастухи.
Целыми днями он теперь только и делал, что ел, пил, курил трубку у костра; спал, когда тот гас, а утром все начинал заново – срывал зубами пробку с бутылки, вливал в себя хмельное, крякал со смаком, мотая головой… Так он обживался дней пять, не думая ни о чем. Его никто не беспокоил друзьями Торкош еще не обзавелся, в работники к Лапердиным не нанялся… Как только кончилась выпивка и съестные припасы, Торкош прихватил пустые корзины, направился в знакомый уже переулок. Но лавочник Яшка, забрав корзины, покрутил головой, не взглянув на десятку Торкоша и на серебряный полтинник, которым тот щелканул о прилавок:
– Отец и за деньги не велел тебе отпускать харч!
– Как не отпускать? – удивился Торкош. – Почему?
– Иди к отцу, он скажет.
И на этот раз Игнат принял Торкоша хорошо: поздоровался за руку, пригласил в горницу, усадил за чай. Потом, когда насытились, спросил:
– Ну, что надумал, Толька?
– Отдыхать буду. Араковать. Трубку курить.
Игнат рассмеялся, достал из нагрудного кармана две десятки, положил их на стол, разгладил пальцами:
– Вот твои деньги. Были у тебя в кармане, теперь у меня.
– Как у тебя? – поразился Торкош. – Одну я пастухам давал, другую в лавку Яшке!
– А лавка чья? Моя. Пастухи тоже мои. Значит, все твои деньги, сколько бы их не было, скоро станут мои… Понял?
Торкош дрогнул ресницами, растерянно развел руками:
– Понял! Все в деревне – твое. Так?
Игнат наклонил голову:
– Угадано.
– А я не твой! – торжественно сказал Торкош и поднялся от табуретки. И за мои деньги Яшка должен давать мне все!
Игнат устало махнул рукой:
– Бог с тобой, Толька. Иди в лавку, скажи Яшке, чтобы потом ко мне пришел…
Возвращался Торкош ликующий – размахивал руками, покрикивая о том, что он – сам по себе и никто в деревне ему не хозяин, и на Яшку посмотрел снисходительно, как на что-то мелкое, еле видное:
– Давай кабак-араку, мясо давай, табак! Вот! А потом к Игнату иди. Велел.
Яшка, растянув рот до ушей, выставил на прилавок все, что потребовал Торкош, взял десятку, бросил в ящик, протянул руку:
– Еще одну красненькую давай!
– Эйт! – удивился Торкош. – Прошлый раз одной хватило, ты мне еще сам деньги дал. Вот! – Он выложил полтинник, мятый рубль, медь. – Зачем сейчас много берешь?
– Зима на дворе, – притворно зевнул Яшка, – цены выросли… Подвоз хуже, дорога хуже… Не хочешь, бери деньги обратно, а я беру товар!
– Эй, не надо! – Торкош поспешно схватил корзины и выскочил из лавки, провожаемый откровенным хохотом лавочника.
А ночью Торкош проснулся от пинка в зад. Вскочил, заорал что-то, но сразу же примолк, как только при мерцающем свете раскаленных углей потухшего очага разглядел грозную фигуру Техтиека. Упал навзничь, задрыгал ногами:
– Ой, живот болит! Ой, спина болит!
Техтиек присел на корточки, взял двумя пальцами Торкоша за нос, притянул к себе, выдохнул:
– Заткнись!.. Куда дел мои деньги?
Трясущимися руками Торкош выдрал из тайника тряпицу, развернул ее на коленях, протянул гостю:
– Вот… В лавке все дорого! Техтиек выпрямился:
– Тебя просто обманывают, а ты глазами хлопаешь. Почему не пошел в работники к Лапердину?
– Ждал, – развел Торкош руками. – Присматривался.
– Ты пил, а не ждал и не присматривался! Завтра у тебя лавочник заберет последнюю десятку и – все… Мне сам Лапердин обошелся бы дешевле! Где его кони?
Торкош хотел ответить, что не знает, но горло перехватила сухость, он закашлялся. Потом начал шарить в соломе, нащупывая недопитую бутылку. Поднести ее ко рту Торкош не успел – Техтиек выдернул бутылку у него из рук и выбросил через распахнутую настежь дверь.
– Зачем? – удивился Торкош. – Там еще была кабак-арака!
– Больше араковать ты не будешь.
Торкош вздохнул, погладил рукой ушибленный пинком Техтиека зад, спросил хрипло:
– Работать идти к Игнату?
– Иначе ты сопьешься, и с тебя вообще не будет никакого толка! Я купил твою смерть и вместе с нею тебя… Вот тебе еще деньги! – Техтиек отстегнул уже знакомый Тор-кошу брелок на куртке, достал пачку таких же десяток. Неделю у себя пролежишь, а потом пойдешь к Игнату и скажешь, что хочешь быть гуртовщиком. Если он не согласится, сам уедешь к пастухам! Где у него скот, отары, табуны?
– Винтяй хотел послать меня гуртовщиком в Ширгайта, потом передумал. Сказал, что я – ненадежный человек, могу проболтаться… Кому проболтаться? Игнату?
– Урочище Ширгайта, говоришь? – Техтиек похлопал Торкоша по плечу. Служи Игнату! Хорошо служи!
Весть о краже коней ошеломила Игната. И не дрянь увели ведь из урочища Ширгайта, а чистокровок! Знали что брать! Случайно никак не могли наткнуться, да и среди конюхов не было случайных людей: почти всех нашли зарубленными…
Первой мыслью мелькнуло: Винтяя окаянного работа!
Старший сын только что вернулся с ярмарки, пригнав две больших отары овец и целый табун лошадей, груженных тюками с тряпьем, кожами и шерстью… Кто поручится, что он не продал и племенной табун? Это подозрение укрепилось, когда Игнат узнал, что сын непривычно большой оборот получил с той тысячи рублей и стада быков, что были ему выделены…
Но как докажешь? Чем?
Потом вспомнился Игнату бийский полицмейстер, гостивший три дня назад и вылакавший вина больше, чем этот пьяница Торкош за неделю. Приезд его был как снег на голову, а новость, которую тот привез, Игнат воспринял чуть ли не как обвал в горах… Техтиек! Этот зазря в гости никуда не заявляется! Может, кони – его работа? Да нет, Техтиек только купеческие караваны грабит, да по приискам гуляет уже второй месяц… Зачем ему целый табун лошадей? Где его держать и кому за ним смотреть?
– Не-ет, – мотнул Игнат тяжелой головой, – тута работал свой вор! Надобно с Винтяем поговорить… Твой, мол, табун был! При разделе – тебе плановал… Взовьется стрижом, когда поймет, что сам себя обокрал!..
В контору к отцу заглянул лавочник Яшка.
– Ну? Чего тебе-то опять приспичило?
– Этот алтаец был…
– Ну и сколько же ты содрал с него в этот раз?
– По красненькой за бутылку…
– Что? – Игнат гулко захохотал. – А из тебя второй Техтиек выйдет, Яшка, лет этак через пяток! Ах ты, щенок!.. Ну а завтра сколько возьмешь, ежли сызнова явится?
– Две красненьких… Вот если бы, батяня, в мой капитал те дурные деньги…
– Что?! – привстал Игнат. – И ты следом за Винтяем, сукин сын?! – Игнат поднял счеты. – Пришибу! Яшка пулей вылетел из конторы.
– Отрицаеши ли ся сатаны и всех дел его? – строго спросил отец Капитон, повернувшись к Торкошу.
– От-ри-ца-юсь! – выдавил тот трудное слово.
– Сочетаваеши ли ся Христу?
– Со-че-та… Ва-и-юсь! – в два шага одолел Торкош второе трудное слово.
Отец Капитон, следом за новообращенцем, облегченно перевел дух. На этой формуле крещения все язычники спотыкаются, как слепой конь на каменистой дороге!
– Поздравляю тебя, возлюбленный во Христе брат, с принятием святых таинств, крещения и причащения тела и крови христовой! Великое дело совершил ты, отрекнувшись от дикой и кровавой эрликовой веры и приняв богооткровенную религию Христа, святой православной церкви, матери нашей! Держись крепко всех данных тобою обетов; если же нарушишь их и не покаешься – горе и страшные муки ждут тебя на этом и на том свете!
Начались поздравления, грошевые подарки, всякие слова, но не мелькали в руках ожидаемые Торкошем медь и серебро, не шуршали бумажные рубли…
Давным-давно кончились деньги, оставленные ему Техтиеком, а хозяин Игнат дозволял теперь брать в лавке только крупы, соль и муку. Кабак-араку и табак лавочник Яшка мог продать лишь за деньги. Раза два или три Игнат вкладывал в руку своему конюху серебряные кружочки, а потом отказал и в этом:
– Будет с тебя, Толька! Этак-то ты и меня в свою бутылку окаянную загонишь! Нет мне выгоды поить тебя – и накладно, и работаешь хмельной плохо!
Вообще-то старик Лапердин относился к Торкошу хорошо – лишний раз не ругал, работать много тоже не заставлял, но круто переменился, как только тот отказался принять крещение в проруби.
– Не могу, – сказал тогда ему Торкош, – воды боюсь! Помру.
Холодной воды он боялся, но еще больше он боялся Техтиека, который хоть и разрешил ему креститься, но сказал об этом так, что и не поймешь сразу. Где была пуговица его слов?..[158]158
Алтайский метафорический фразеологизм, смысл которого: «что кроется за твоими словами?»
[Закрыть] Потом кто-то из русских работников шепнул Торкошу по секрету, что поп Капитон деньги дает тем алтайцам, кто, окрестившись у него тайно, других работников Игната к купели тащит.
– Подставь косичку попу, – говорили ему, посмеиваясь, – и на штоф он тебе мигом отвалит!
Торкош поверил и пришел к попу:
– Не хочу молиться Эрлику, хочу молиться Христу!
– Благое дело, – потер руки отец Капитон, – зело борзо! И вот он – христианин, православный…
Все разошлись, удалился и отец Капитон переоблачаться, а Торкош ждал, не веря простоте и обыденности случившегося. Уже проплелся, позванивая ключами, ктитор Василий, гася свечи специальным колпачком на палке. Наткнулся на Торкоша, спросил удивленно и подозрительно:
– А ты чего тут ждешь?
– Деньги жду.
– Деньги? Какие деньги?
– Поп крестил, косичку резал, должен деньги дать! Василий визгливо рассмеялся:
– Голова, два уха! Да где же ты видел, чтобы из церкви деньги выносили? Их сюды несут!
– Поп должен дать! – упрямо повторил Торкош. – Зачем тогда башкой в таз кунал? Зачем крестом махал и Эрлика ругал?
– Ну, брат! Скажи спасибо, что и за эту требу он с тебя самого не взял деньги, а даром окрестил! Поп-то призван овечек мирских стричь, а не овечки стригут попа… Ох-хо! Дикий ты, ишшо ломать тебя, тесать да остругивать!
Вышел из ризницы отец Капитон, Торкош кинулся к нему:
– Деньги давай!
– А-а… Отпраздновать хочешь? Похвально!
Он отвернул полу шубы, пошарил в карманах мирских полосатых штанов, достал несколько мятых бумажек, втолкнул Торкошу в подставленный кулак:
– Три рубля. В долг даю! Возвернешь с лихвой и вскорости! Сам подаяниями верующих живу.
Торкош ухмыльнулся и, нахлобучив шапку прямо в церкви, весело зашагал к выходу.
Игнат не стал делить имущество, а вывел только Винтяя, откинув ему вместо десятой части больше четверти – только бы отвязался. Но и этой львиной долей старший сын остался недоволен:
– Ежли по-божьи, то любая половина – моя! Все вы – лежач камень! А под лежач камень-от и половодная вода не канет…
Три средних сына, не уступавшие Винтяю в силе, кинулись на него с кулаками, но грозный притоп отца остановил их:
– Сукины дети! Всех лишу наследства моего!
И хотя семейная буря на этом улеглась, Игнат лучше других понимал, что ему теперь уже не удастся удержать в слабом кулаке былой власти – вывел Винтяя, придется выводить и остальных, оставляя себе голый кукиш…
Денег старшему сыну Игнат не дал: довольно с него и тех, что украл и награбил! Свой крестовый дом в два этажа тоже делить не стал – зануждался Винтяй в вольготности, пусть свои хоромы рубит! К лавке подбирался сын, но и тут получил от ворот поворот: наживи теперь сам и хозяйствуй, за сестрами тоже кое-что надо дать в приданое…
– Петуха запущу под стреху! – пригрозил Винтяй.
– На каторгу упеку! – ответствовал отец.
С тем и разминулись.
А вскоре слух прошел – оженился Винтяй. И не к отцу пришел за обкруткой, как ожидалось всеми, а у попа Капитона сначала крещение, а потом и венец принял. Все мог простить Игнат сыну, но поругание дедовской веры простить не мог: проклял на первом же молении, вогнав в страх жену, сыновей и дочерей…
Наступило временное затишье, и вот выкинул номер кучер самого Игната принял православие. Да если бы Игнат знал, что эту погань тот учинил за какие-то мятых три рубля! Да окунись Торкош в Иордань, Игнат бы ему ведро водки выставил и живого барана подарил! Пей да закусывай, отмечай всей душой новую святость свою! Неси старинный осьмиконечный крест в мир!..
– Может, обратно перекрестишься? – спросил его Игнат без всякой надежды на успех. – Моя вера любую перешибет!
– Нет, теперь совсем не могу. И Эрлика боюсь и Христа!
Да, промашку дал Игнат Лапердин! а ведь нежданным крещение Торкоша не было. В полный голос о том кучер говорил, даже про поповские деньги поминал… Пропустил мимо ушей Игнат, закрученный своими делами и думами! А теперь вот и покаянную душу упустил, радостную для господа! Верно молвится: пришла беда – отворяй ворота!..
Дня три новокрещенец глаз не показывал. Потом пришел, встал на пороге, долго тискал свою облезлую шапку в руках, глядя на Игната виновато и обиженно.
– Ты чего? – поднял от бумаг голову Игнат.
– Уходить решил. Совсем.
– Ну и иди, кто держит?
– Расчет давай!
– Расчет у меня с тобой не хитрый, – хохотнул Игнат, придвигая счеты. С чем пришел ко мне, с тем и уходи… Что наработал через пень-колоду, то и проел. Деньги свои пропил… Куда пойдешь-то среди зимы? Оставайся уж… Я на тебя шибко-то и не сержусь, Толька, сам в вине перед господом…
Торкош удивленно захлопал глазами: говорит в вине, а сам совсем трезвый!
– Техтиека буду искать.
– Да, ловок ты! – Игнат отодвинул бумаги, засмотрелся в окно, стирая ладонью и не в силах стереть ехидную усмешку. – Не примет тебя Техтиек в свою банду, Толька! Ему нужны молодые, крепкие и безбожные мужики, а ты кто? Гриб трухлявый…
– Тогда попа просить буду, чтобы в монастырь на Чулышмане меня отдал! Там буду жить и новому богу молиться… Пить брошу, бороду заведу, как у тебя…
– Храбер бобер! – крутнул Игнат головой. – То в бандиты, то в монахи! Эх, голова… Так и будешь всю жизнь чужие куски подбирать?
Торкош не отозвался. Ему и без горьких слов Игната было обидно до боли – пришел сюда с конем и деньгами, а уходить надо пешком и с пустыми карманами… Он сел на лавку, опустил между коленей руки с шапкой, понурил голову. До весны далеко, дороги длинные, ночи холодные… Совсем пропадет!
– Тогда помирать буду.
Игнат сердито отодвинул счеты:
– Ладно! Вот тебе записка – иди в лавку к Яшке. А утром – ко мне на двор! Сам тебя ограбил, сам и на ноги ставить буду! Господь зачтет…
Игнат Лапердин любил играть со своими людишками в кошки-мышки и умел это делать. Упрямство Торкоша смутило только в первый день, а потом он легко раскусил его и теперь решил пустить в дело, которое вызрело само по себе после того, как Винтяй, добившись раздела, вышел из домашнего корабля. Вернуть обычным порядком сына он уже не мог, а вот сыграть с ним злую, оскорбительную шутку, разорить в пух и прах было еще в его силах. И тут простодушный пьяница Торкош вполне мог пригодиться.
Трудное лето и тяжелая осень сменились жестокой зимой. Трещали и рассыпались вокруг не только бедняцкие хозяйства, что уже и не было особенным дивом, но и крепкие дворы пошатывались. Сено стало дороже хлеба и мяса, скот обесценился и, чтобы спасти его от гибели, некоторые горячие головы начали выгонять отары и стада на тебеневку, по примеру местных жителей, которые почти никогда не запасались кормами на всю зиму. Но у русских не было опыта зимней пастьбы скота, да и сами овцы, избалованные вольготными кормами в теплых кошарах и скотных дворах, рассеянно бродили по мелкому крупитчатому снегу, жалобно взывая о помощи.
Пастухи и чабаны-алтайцы вдруг стали нарасхват. Их нанимали сначала за десятую часть поголовья, потом за пятую, а скоро начнут нанимать и за треть! Такой возможности неожиданно и стремительно разбогатеть еще больше, Игнат никак не мог упустить! И потому все его работники, имевшие когда-либо дело со скотом, снова были переведены на свои должности. По первому же требованию соседей, Лапердин отправлял их пасти чужой скот и получал оплату натурой, не выделяя своим люд.
Сначала все шло вроде бы ладно да складно, но потом пастухи, чабаны и табунщики стали исчезать с заработанным скотом, перегоняя его в дальние урочища, куда руки Игната не доставали. Пришлось делиться: десять голов хозяину, одна – пастуху, хотя это и грозило потерей дармовой рабочей силы по весне. Работники, обзаведясь своим скотом, просто уйдут от Игната, сами став хозяевами…
Подошла очередь и Торкошу идти в перенаем. К удивлению Игната, он сначала отказался наотрез, никакими посулами не соблазнившись, а потом неожиданно согласился, насторожив своего хозяина. Или сговорился с кем-то, или на свой страх и риск решил вернуть те деньги, что выманил у него самым бесстыжим образом Яшка, или надумал удрать на коне, который ему был положен, как пастуху, поскольку подарок Яшканчи он тоже пропил.
Зная честность и открытость Торкоша, Игнат решил поговорить с ним начистоту и на первый же свой вопрос получил ошеломляющий ответ:
– За табун коней, что Техтиек угнал из Ширгайта, я получил от него пять красненьких; сейчас за отару овец получу десять… До весны хватит и на еду и на кабак-араку! Только я уеду от тебя, твой Яшка – жулик, дорого все продает…
– Где же ты найдешь его, Техтиека?
– Найду… Он сам приказал мне жить у тебя и слушаться. Ты, сказал, мне еще будешь нужен.
Впервые Игнат не столько испугался, сколько растерялся:
– Значит, Техтиек близко?
– Сейчас не знаю, где он. А недавно в Бещалыке был. Пастухи твои видели, быков ему продавали…
Игнат поднялся и, ни слова не сказав больше, пошел на ватных ногах в свою келью.
«Старый стал Игнат, – подумал Торкош, возвращаясь в свое жилище. Совсем старый… Помрет скоро!»
У себя дома Торкош блаженно растянулся на постели, посасывая трубочку и глядя в закопченный потолок, где дыр было больше, чем на его шубе. Но костер горел, и ему было тепло. Не хватало только кабак-араки, но и без нее жить можно, если не думать…
Заскрипела дверь, в щель просунулась голова отца Капитона, обвела изумленными глазами неказистое жилище прихожанина, втащила тяжелое тело в шубе, поискала глазами икону или крест – не нашла.
– Ты почему в храме не бываешь?
– Работы много. А ночью приходил – замок видел.
– Что же, мне и ночью в церкви сидеть, тебя дожидаться? Всенощные службы лишь по большим праздникам бывают! Надо бы знать про то, сын мой… Ох-хо! Ну и провонял же ты жилище свое сиволдаем и табаком!
Торкош внимательно посмотрел на попа. Зачем сыном называет, если сам лет на пять моложе? Вот старик Лапердин мог бы сказать: сын мой, Толька! А этот – рыжий, здоровый, трещин на лице и то меньше, чем у него, Тор-коша.
– Не блюдешь святых обетов, – продолжал свои нравоучения священник. На исповеди не бываешь, к святым тайнам не причащаешься – ко крови и телу христову… Нехорошо, сын мой!
Поп говорил долго и скоро надоел Торкошу.
– Ладно, – сказал тот нехотя, – приду завтра вина выпить. Только ты мне не ложкой, а всю чашку сразу давай!
– У меня – храм, а не кабак!
– Тогда я не пойду к тебе на маленькое вино.
– Тьфу! – не выдержал отец Капитон. – И как только у тебя поганый твой язык поворачивается говорить мне такое?
Глава девятаяКРЕЩЕНСКАЯ ПРОРУБЬ
Нога в ногу, сапог в сапог.
Впереди – Капсим с Панфилом, потом – некрещенцы. Замыкали цепочку Аким и остальные общинники. Женщин нет – девок будут крестить по весне, на пасху, когда сойдет лед и убежит в неведомые края талая вода.
К священническому действу община начала готовить себя сразу же, как наступил Филиппов пост, продолжающийся до рождества христова.
Мела легкая поземка, нежадный морозец пощипывал уши. Погодка была как на заказ! Но некрещенцы ежились – их пугала ледяная вода проруби, в которую им скоро предстояло окунуться с головой.
Глубже и убродистее становился снег. По нему впору на лыжах идти, а не ногами, продавливающими его до земли. Но Капсим и Панфил были довольны: коли снежный намет под ногами, значит, река уже близко!
Перешагнув через сугроб и почуяв ногой, что внизу не земля, а лед, Капсим остановился.
– А не рано ли? – усомнился Панфил.
– В самый раз!
Капсим сделал еще два-три шага вперед, вернулся по своим же следам и налетел на Панфила, едва не уронив того в снег. А это никак нельзя загрязнишь тропку к святому месту, придется сызнова все начинать!
– Тута рубить Иордань будем! Ну-ка, Софрон, ковырни.
Детина-некрещенец осторожно обошел Панфила, остановился возле Капсима, повинуясь его персту, ухнул пешней. И сразу же вместе с тучкой снега брызнули осколки льда. Оттаяли лица у общинников: хорош глаз у уставщика! Враз попал.
На помощь Софрону пришли парни и молодые мужики, разгребли снег возле лунки, начали подкалывать лед, пока не соорудили аккуратную прорубь крестом, маслянисто поблескивающую водой и исходящую банным паром.
– Вот и ладно! – улыбнулся Капсим в бороду и, повернувшись к Панфилу боком, сказал спокойно: – Охолонут чуток парни и – зачин! С Софрона начнем?
Панфил кивнул. Капсим подозвал парня, вынул пешню у него из рук, ткнул согнутым локтем в живот:
– Первым пойдешь!
Софрон развязал опояску, сбросил тулуп и сапоги-ичиги, оставшись в длинной рубахе, перехваченной сыромятным ремешком, в широких бурых портах и холщовых носках. Вопросительно посмотрел на уставщика.
– Все снимай, не канителься! – отмахнулся Капсим.
– Зябко! – пожаловался Софрон басом.
– Согреешься в воде, – усмехнулся Панфил. – Она теплая подо льдом! Ишь, в пару вся!
Софрон послушно заголился.
Капсим достал из-за пазухи длинное полотенце, один конец протянул Панфилу, другой оставил себе. Накинув среднюю часть полотенца на шею парню, пропустил концы под мышками, заставив того поднять руки, мотнул головой рослым некрещенцам:
– Давай!
Парни намотали концы полотенца на руки, подтащили Софрона к проруби, встали по обе стороны от нее, дожидаясь нужной команды уставщика. Капсим неторопливо подошел к первокрещенцу и, упершись ладонью в его широкую спину, спихнул Софрона в воду. Глубина оказалась достаточной – по горло. Проследив за тем, как Софрон скрестил руки на груди – левая поверх правой – Капсим воткнул вещий перст в серое неприглядное небо, прогудел нижним пределом:
– Крещается раб божий Софрон… Крестный отец Софрона – Аким, по знаку Капсима, положил ладонь на голову парня и с силой окунул его.
– Во имя отца и сына, – чуть выше взял Капсим, строго следя за тем, чтобы Аким не отставал с окунанием, – и святаго духа…
Погрузив Софрона в третий раз, Аким нарочно задержал ладонь на его голове, припомнив какую-то мелкую обиду не то через себя, не то через свою жену-шалаву, но, поймав строгий взгляд уставщика, отпустил. Софрон вынырнул, ошалело взглянул на крестного отца, но его воркотню уже перекрыл поднимающийся к небесным высям голос Капсима:
– И ныне, и присно, и во веки веков! Аминь. Парни стремительно выдернули Софрона из воды, поставили на лед. К нему подошел несколько смущенный Аким, надел на шею деревянный крестик на льняном шнурке:
– Нарекаю тебя Софронием…
Гулко кашлянув в кулак, Капсим торжественно объявил:
– Все твое прошлое сейчас, Софрон, в воде утонуло.
Теперь ты уже не парень Софрон, а старец Софроний.
Двое других парней набросили на него тулуп, заранее отогретые на чужих ногах валенки, шапку.
– Скачи! Прыгай! Прозябнешь!
Софрон послушно запрыгал, высоко задирая ноги, охлопывая себя руками и фыркая, как лошадь…
Вместо соболя или лисы с очередной охоты Дельмек привез елку: пушистую, плотную, истекающую на комле янтарной слезой.
– И где ты только отыскал такую! – всплеснула руками обрадованная Галина Петровна. – Прелесть, как хороша! Федор! Ты только взгляни на нее!
Дельмек блаженно улыбался. Он был рад, что хоть этой малостью угодил доброй своей хозяйке.
Устанавливали елку в кабинете хозяина дома. Запах хвои и смолы сразу же перебил застоявшуюся лекарственную атмосферу, пропитал собой все – от портьер до книг. Галина Петровна летала по дому и пела, как птица. Ее радовало все – сама елка, самодельные игрушки, которые смастерили мужчины. Они, правда, не разделяли ее восторгов – игрушки получились все-таки неуклюжие, да и головы самих мастеров были заняты другими заботами…
За эти дни Федор Васильевич более внимательно присмотрелся к своему санитару и помощнику жены по хозяйству, много говорил с ним и даже проникся неожиданным уважением. Дельмек ранее был как-то отстранен от него, и доктор воспринимал парня скорее как объект для своих педагогических, просветительских и гуманистических опытов. И если раньше ему импонировала независимость Дельмека, то теперь он открыл для себя в его лице своеобразного носителя культуры древнейшего народа. Дельмек был по-своему поэтичен и оригинален, хотя порой из этого романтического человека выглядывал и самый обыкновенный практичный эгоист, не понимающий и не принимающий отвлеченных понятий, никак не связанных с его возможностями сугубо физиологического выживания…
С наступлением зимы больные почти не беспокоили доктора. Односельчане не болели, а люди, живущие в соседних горах и долинах, больше рассчитывали на своих камов и знахарей – к ним было много ближе идти или ехать. Лишь в самый канун рождества пришел Капсим Воронов, уставщик местной раскольнической общины, как охарактеризовал его отец Лаврентий.
– Плохо вижу, – пожаловался он, – вдаль – ястребом, а вота вблизь – не могу, плывет все… Уж не слепота ли окаянная грядет за грехи какие?
Федор Васильевич осмотрел его, ничего не нашел, спросил:
– Который десяток разменял?
– Пятый, – вздохнул Капсим, – к старости дело идет…
– Вот вам и ответ! Слепота вам не грозит, а дальнозоркость развивается довольно успешно. Нужны очки! М-да…
И доктор впервые за много лет практики достал картонную коробку, в которой хранил стекла и оправы очков. Так уж получилось, что за очками к нему почему-то не обращались, хотя и видели, что сам доктор носит пенсне на шнурке… Скоро нужные стекла Капсиму были подобраны, и Федор Васильевич, выдернув наугад книжку с полки, протянул ее Капсиму:
– Читайте вслух.
Капсим с явным недоверием взял книгу, раскрыл где-то на середине, склонился, повел пальцем по строке, зашевелил губами, разбирая малознакомый ему гражданский шрифт:
– Твердо… Аз… Како… Так! Люди… Юс… Буки… Отче… Веди… Мягкой знак… Любовь!.. Ишь, ты! Складывается! – Он поднял удивленные, еще больше увеличенные стеклами очков, глаза. – Значит, в этих очках я могу чтить и мирскую грамоту?
– Да, разумеется! Только вы читаете буквами, а надо – слогами и словами… – Федор Васильевич взял книгу из рук Капсима и бегло прочел фразу, которую с такими мучениями одолевал гость: – «Так любовь вошла, подобно кинжалу, в его сердце…» Гм-м… Красиво… – Он захлопнул книгу, взглянул на титульный лист. – Галя! Сколько раз тебе говорить, чтобы ты не совала свои романы в мои книги!
Галина Петровна, наблюдавшая за излечением капсимовской слепоты, рассмеялась:
– Ты же сам взял книгу с моей полки!
Капсим топтался возле стола, то снимая, то снова надевая очки. Он растерялся окончательно и не знал, как ему теперь поступить: то ли положить очки и незаметно уйти, то ли уйти прямо в очках. Федор Васильевич заметил его замешательство, рассмеялся:
– Берите, берите, Воронов! Только постоянно эти очки носить нельзя, они для работы и чтения… Может, и книжку вам дать для тренировки? Одной «Листвяницей» сыты не будете…
– Ежли можно, то я, тово, возьму…
Он протянул неожиданно задрожавшую руку за только что читанным им романом, но Галина Петровна дала ему другую книжку – с крупными буквами и большими картинками на каждой странице:
– Это Крылов. По нему вы можете учить грамоте даже своих детей и жену.
Дельмек, видевший всю эту процедуру, буркнул что-то и ушел на кухню. А вечером, выбрав подходящий момент, поинтересовался:
– А если я надену на глаза такие же стекла, то я тоже смогу называть по именам тех букашек, что нарисованы? Ну, этих – буков, ведов…
– Нет, Дельмек, – вздохнула Галина Петровна, – очки тебе не помогут. Ты не знаешь самих букв, а Воронов их знает… – Она вдруг побледнела, потом вспыхнула, стремительно повернулась к парню: – Слушай!.. А давай я тебя буду учить русской грамоте? Говоришь ты уже неплохо, значит, и читать по-русски научишься!
– Нет-нет! – испугался Дельмек. – Я совсем помру от страха!
Былой оптимизм отца Лаврентия улетучивался с каждым днем. Приход был малокровным и нищим, хозяйства большого священник не держал, кержаки все упорнее сторонились его, введенные в обман недавней проповедью, а с семьей доктора отношения все больше и больше разлаживались…
Неожиданно для самого себя иерей полюбил прогулки в одиночестве, когда можно было поговорить с самим собой – на голосе проверить те мысли, что сверлили ему мозг, как бурав, впивающийся в дерево. Отец Лаврентий даже пробил отдельную тропу через огороды на соседнюю улицу, где вместо деревянных рубленых домов кержаков стояли конусные постройки язычников, из верхушек которых днем и ночью валили клубы дыма и пара, пахнущие мясом, молоком, какой-то горечью с кислинкой…
На этой тропе к нему уже привыкли, и даже черномазые ребятишки не давали стрекача, как раньше, а смотрели на его высокую фигуру изумленно и любопытно. А он ничего не замечал вокруг – мысли иерея были тягучие, как подогретый дратвенный вар, но в отличие от него, ни к чему не липли, а просто тянулись в пустоте времени, исчезая так же неожиданно, как и появляясь. Бывало, что потом он мучительно долго вспоминал об этих думах, но они не возвращались, хотя их след и больно царапал душу, надолго портил настроение…
Что же случилось? Почему же он, пастырь и духовник, равнодушно проходил теперь мимо жилищ тех, кого обязан был вести к истине? Где та восторженность, тот пыл, тот огонь искренности, что горел в нем после рукоположения в иереи? Как и почему сломалось все, что казалось незыблемым и святым? Куда ушло, улетучилось?!